…Некий чудак и поныне за правду воюет, —
Правда, в речах его правды — на ломаный грош:
— Чистая правда со временем восторжествует,
Если проделает то же, что явная Ложь.
В.С. Высоцкий
От автора
Уважаемый читатель! Вы держите в руках книгу, которая повествует о трагичной странице в истории нашей Родины, связанной с периодом насильственного насаждения колхозного строя в стране. Изданию книги послужили воспоминания и размышления непосредственного участника и очевидца событий того времени — моего отца, Попова Ивана Сергеевича, ныне покойного. Искренне убежден, что отец был бы очень доволен, узнав, что этот труд читает человек, который сможет его оценить и тем самым взглянуть другими глазами на прошедшую эпоху, в которой жили миллионы его соотечественников. Эпоху, когда фальсификация образа жизни людей и пропаганда лжи были возведены в ранг государственной политики. Когда страх людей за свою жизнь перед властью, было нормой поведения миллионов. Возможно, кто-то подумает, что в основу книги взята избитая тема. Не спешите так думать, не торопитесь делать скоротечных выводов. Согласен, что у нас достаточно издано научных исследований и художественной литературы о политических заключенных, репрессиях, лагерях. Но нигде вы не найдете описания судеб раскулаченных со слов самих очевидцев событий — кулаков. Среди заключенных в ГУЛАГе было немало людей грамотных, порой высокообразованных, имеющих отношение к науке и творчеству. Впоследствии они, либо сами написали о репрессиях, либо поделились своими личными воспоминаниями и рассуждениями с известными литераторами. Раскулаченные же, в основной своей массе, были забитыми и малограмотными деревенскими людьми, которые не только написать, но не могли даже связно рассказать о своих злоключениях, а тем более о причинах их вызвавших. К тому же были до смерти напуганы и молили Бога, чтобы о них лишний раз даже не вспоминали.
Отец умер неожиданно, просто не проснувшись однажды утром. Поэтому уже после его смерти, выполняя свой сыновний долг, я постарался творчески обработать и придать вид художественного произведения оставшимся после него записям, дополнив их тем, что смог узнать сам. Тем самым осуществить мечту отца заполнить информационный пробел в истории многочисленной армии наших сограждан, вся вина которых заключалась в том, что они умели и хотели работать на земле, за которую воевали и проливали кровь на фронтах гражданской войны. Донести до всех, кому интересна история государства и Воронежского края, правду о гонениях на этих людей в местах проживания, затем об издевательствах на поселениях, вдали от родных мест. О выпавшим на их долю тяжелых испытаний голодом, непосильным трудом, болезнями, отчего больше половины несчастных отдали Богу душу. Из рассказов отца я знал, что тем, кому посчастливилось вырваться из этого ада, еще долгое время были объектом унижений. С ними старались не связываться, с опаской брали на работу, связанную даже с самым тяжелым и неквалифицированным трудом, не допускали к учебе. Попав под бесчеловечный эксперимент массового психологического внушения в сознание безграмотной толпы большевистского лозунга «земля — крестьянам, фабрики — рабочим», русский народ оказался одураченным. Откуда люди могли знать, что понятия «пользоваться» и даже «владеть» далеко не всегда сочетаются с понятием «распоряжаться». Что не для того враги России тратили огромные деньги, сначала на содержание революционеров всех мастей, а затем на организацию октябрьского переворота 1917 года, чтобы большевики, захватившие власть на волне террора и развязанной братоубийственной гражданской войны, вдруг позволили русскому народу самостоятельно распоряжаться плодами своего труда. Тем более от земли — основного богатства такой страны, как Россия. Описанные события действительно происходили в небольшом селе, расположенном неподалеку от Воронежа. Все персонажи были реальными людьми, среди них нет ни одного вымышленного. Большинство названы своими настоящими именами, многих я знал лично.
С уважением,
Попов Александр Иванович
Часть 1
Дом Пономарёвых располагался в середине Большака, между церковью и рекой. Был он кирпичным, под железом, и состоял из двух половин, разделённых между собой холодными сенями. Под домом находился обширный подвал. Двор ограничивали многие сараи и сарайчики, хлева для скота, навесы для инвентаря, амбары и поветки. Среди строений приютилась чёрная баня. Все было сделано добротно, со знанием дела. За двором раскинулось обширное гумно с вместительной ригой и сад с пасекой. Здесь чувствовались чистота и порядок, не в пример загаженному скотиной двору. Во дворе старались всё делать так, чтобы скотине было уютно и тепло, но ничего не делали для удобства домочадцев. Весной, осенью, да и летом, в дождливую погоду, во дворе стояла непролазная грязь, а мужчины, женщины и дети лаптями месили липкую землю, обильно сдобренную навозом. И никому не приходило в голову завезти во двор несколько телег песку или, не дай Бог, установить в укромном уголке уборную. Нужник на дворе иметь было не принято. Оправлялись в хлеву, используя для сидения кусок сломанной оглобли, заделанной своими концами в смежные стены одного из углов. Обычный дом в селе состоял из одной комнаты и сеней, сделанных из красного кирпича. Объяснялось это не богатством и зажиточностью крестьян, а тем, что не было строевого леса. Все лесные массивы в округе принадлежали барину Сомову, который никогда и никому не продавал лес, а если соглашался продать, то заламывал такую цену, что дешевле было построить мраморный дворец. Поэтому крестьяне приглашали всех своих родных или соседей, копали глину, песок, делали замесы, резали кирпичи и обжигали их в примитивных печах, вырытых в земле. Если хозяин имел такую возможность, то он строил дом на две комнаты, большую и малую, с холодными сенями посередине. Почему-то комнату называли избой. Именно в таком доме проживала семья Пономарёвых. В каждой избе стояла русская печка, которая занимала, чуть ли не половину всей площади. В большой избе от печки и до противоположной стены под потолком размещались полати. По всем стенам, ниже подоконников, тянулись широкие деревянные лавки. Лавка, стоящая у входа, была забрана досками до самого пола и называлась коником. Та, что находилась возле печки — судницей. В углу, под божницей, стоял большой стол, а у судницы — низкая кадка для помоев, именуемая дежой. Вот и вся обстановка. Но всё было продумано и служило по своему назначению. Печь служила спальней для бабки и деда, куда они брали маленьких внучат. Полати отводились детворе постарше. Когда в зимнее время появлялись швецы, вальщики или другие мастера, то полати предоставлялись им, а детворе на полу стелили на солому полушубки и тулупы. Если в это время начинался отел и окот скота, то в избу помещали телят, поросят и ягнят вместе со свиньей и овцой, а ребятишкам приходилось делить с ними своё ложе. Так было заведено испокон веку, и хоть бы кто догадался взять и утеплить сарай, сложить там печку и поместить в нем долгожданный приплод. Если в избу помещали мелкую живность, то сени предоставляли ожеребившимся лошадям и отелившимся коровам. И делали это не потому, что не было хлева, а потому, что боялись воровства, которое случалось в селе довольно часто. На лавках, пододвинув к ним скамейки, стелили женатым мужикам, а на конике укладывали неженатого парня или прохожего гостя. Рукомойников не было, да о них и не имели понятия. Просто не знали, что это такое. Все умывались над дежой. В неё же ночью справляли малую нужду, а утром мужики выносили на двор. В малой избе, в отличие от большой, не было ни полатей, ни лавок, ни коника с дежей. В углу избы стояла русская печка, рядом большой стол, окруженный скамейками. Рядом с печкой, у задней стены, были установлены деревянные топчаны. Здесь не готовили еды, не держали скотину, даже мужикам не разрешалось без надобности заходить в неё. Здесь было женское царство, где вместе с матерью размещались взрослые девчата, девочки-подростки и учились шитью, вышиванию и грамоте. В отличие от большой избы, здесь мыли полы и даже протирали окна, старались поддерживать чистоту. В таких, практически скотских условиях, веками жило всё село и продолжало жить. Особенно невыносимой была судьба у женщин. Во-первых, женщины не имели даже элементарных условий для личной гигиены, а во-вторых, многовековые традиции, условности, тупость и бескультурье ставили их в абсолютную зависимость от мужей, что вызывало пренебрежение к женщине, как к человеку. Даже Пономарёвы, имея относительный достаток, лишь изредка привозили из города кусок самого дешёвого хозяйственного мыла, которое резали суровой ниткой на небольшие кусочки и выдавали снохам в качестве подарка. Смертность среди женщин намного превышала смертность мужчин, поскольку выполняли ту же работу, что и мужчины. Они пахали, сеяли, косили и молотили. Кроме того, они варили, ухаживали за детьми, стирали. Иногда, даже в трескучий мороз, на реке в проруби палками били постельное белье, предварительно прокатав его в золе. Они же ездили с мужьями в лес за дровами, пилили дрова в снегу по пояс и все это с голыми ногами. Женщина не могла даже и подумать, чтобы надеть на себя не только трусы, но и подштанники мужа. Если кто из них и сделал бы это, то её посчитали бы ведьмой, и если не убили, то сожгли вместе с детьми. Для женатых строили времянки, называемые поветками, где супружеская пара проводила ночи в летнее время, но спать им приходилось мало. В уборочную все обязаны были ехать в поле, где женщины работали наравне с мужчинами и никому из них не давали поблажки, даже беременным. Зачастую женщины рожали в поле и им помогали другие, а если начинались только схватки, то роженицу отправляли домой на попечение старух или повитухи. Роженица не пользовалась никакими благами, ни особым вниманием. Её кормили, как всех, квасом, картошкой и другой немудрёной пищей и никто не догадывался сварить для неё отдельно куриный бульон, молочную кашу, накормить сметаной или творогом, хотя по двору ходили сотни кур, в хлеву стояло полдюжины коров и другой живности. И это была не жадность, не чёрствость, а тупость окружавших людей, говорящих про беременных: «Авось, не барыня!».
Во главе семейства Пономарёвых стоял Егор Иванович — худощавый, небольшого роста человек, с усами и бородкой клинышком на довольно симпатичном, загорелом лице. Хотя Егор Иванович и числился главой семейства, но полной хозяйкой в доме являлась его мать, бабушка Вера, которая обычно не вмешивалась в действия своего сына, но при обсуждении серьезных вопросов всегда оставляла за собой последнее слово. Дело было в том, что дом, надворные постройки и часть инвентаря принадлежало бабушке. К тому же, не только в семье, но и в селе не было более грамотного и начитанного среди крестьян человека, равного ей. Бабушка Вера выросла и воспиталась в доме попа.
Однажды местная матушка, во время церковной службы, обратила внимание на красивую черноглазую девочку лет семи-восьми, опрятно одетую в домотканый сарафан и новенькие лапти по ноге. Узнав, чья она, матушка вскоре побывала в семье этой девочки. Ее визит домашних не удивил, ибо матушка частенько наведывалась к крестьянам, интересуясь их семейными делами, и в случае необходимости, оказывала посильную помощь. В этот раз она пришла с необычной просьбой взять на воспитание к себе в дом, увиденную в церкви девочку. Когда она заговорила о цели своего визита, то встретила со стороны родителей такую стену отчуждения, словно нанесла непоправимое оскорбление. Отец девочки заявил, что хотя у него и десять ртов, но в их роду еще не было случая, чтобы кого-нибудь отдавали людям на прокорм. Слава Богу, все дети накормлены, одеты, обихожены.
— Вы, Никита Акимович, неправильно меня поняли, — старалась объяснить матушка, — и если что не так, то простите меня. Вот вы говорите, что у вас десять ребятишек, а у меня нет ни одного и профессора в городе сказали, что детей не будет вообще. Я прошу Веру не на прокорм, как вы сказали, а на воспитание. Я богата, образована, и дам ей всё, что в моих силах. Причём, я прошу ее не на всё время, а только на некоторый срок, но если ей понравиться, то пусть живет хоть до замужества. Я освобожу её от барщины, обеспечу на всю жизнь, а не понравиться, пусть возвращается домой в любое удобное для неё время. Разрешите мне помочь Вере стать человеком грамотным и образованным, а крестьянская доля — доля крестьянки, от нее никогда не уйдет. Так что, Никита Акимович, по рукам?
В итоге, богатство попадьи, обещание освободить Веру от барщины, да и обыкновенная боязнь навлечь на себя гнев влиятельного священника, склонили чашу весов в пользу матушки. И родители Веры, после некоторого колебания, дали свое согласие. Так Вера, безграмотная крестьянская девочка, крепостная барина Сомова, волей случая попала в другой мир, мир для нее необычный, но очень интересный и так не похожий на тот, в котором она жила до этого. Матушка Софья оказалась хорошим педагогом и отдалась делу воспитания девочки с жаром всей своей души. Вера впитывала в себя знания, словно губка живительную влагу, а матушка учила Веру всему тому, что знала сама. Кроме грамоты, она познакомила её с правилами поведения, умению одеваться, шитью и кройке, кулинарии, правилам ухода за огородом. Со временем привила ей любовь к литературе, и они частенько разбирали те или иные произведения русских и иностранных авторов. Теперь Вера ходила не в домотканых нарядах, а в сатинах, на ногах красовались не липовые лапти, а изящные ботиночки. С возрастом девочка расцвела, налилась соком, округлилась и превратилась в прелестную девушку, писаную красавицу. Когда девушке исполнилось семнадцать, матушка присмотрела ей жениха из работящей семьи Пономарёвых и успешно отрекомендовала его родителям Веры. Нареченный, Иван, был крепким, выше среднего роста парнем, с густыми, волнистыми русыми волосами на аккуратной голове. Матушка выполнила свое обещание и освободила Веру от барщины, построила молодоженам дом, подарила молодым широкую кровать, что было новинкой в селе, подарила английскую швейную машинку, зеркало, паровой утюг и часы-ходики. Она же справила им свадьбу и одела молодых к венцу. Потом снабдила их скотом и некоторым инвентарем. Так, нежданно и негаданно, молодые сразу встали на ноги, вызвав среди односельчан чёрную зависть. Но молодожёны, упиваясь своим благополучием, ничего не хотели замечать и жили душа в душу. Спустя несколько лет после свадьбы Пономарёвых, отменили крепостное право. К этому времени у них уже родилось два мальчика. Первенца назвали Егором, второго-Митрофаном. Спустя два года родился третий мальчик, Алексей. Впоследствии родились еще три девочки. Несмотря на большое хозяйство, родители не заставляли детей исполнять непосильную работу, но и не дозволяли им бить баклуши. Каждому был определен круг обязанностей, за исполнение которых строго спрашивали. Все дети Пономарёвых учились. Учились они хорошо, и успешно окончили церковно-приходскую школу, за исключением Митрофана, который, несмотря на все старания и страдания матери, окончил два класса и заявил, что отныне будет пасти овец. Мать махнула на него рукой и разрешила ему заняться выпасом скотины, считая, что сын скоро разочаруется. Но тот с таким желанием и стремлением управлялся со своими блеющими подопечными, что мать решила больше не навязывать ему своей воли. Шло время, дети росли в достатке и заботе. Мать хотела, чтобы они не только хорошо разбирались в сельском хозяйстве, но освоили и какое-нибудь ремесло. К сожалению, мастеровых в селе было — кот наплакал. Вальщики, сапожники, жестянщики, швецы, портные, даже плотники и столяры приходили со стороны. Не было даже своего кузнеца. У кого учится?
В это время барин Сомов, местный помещик, решил жениться. Приглядел себе невесту в Питере, и начал готовиться к свадьбе. Покойный отец оставил ему новый, добротный дом, многочисленные службы, даже вместительную стеклянную теплицу, но для молодой, да еще городской избранницы этого было явно недостаточно. Для престижа светской дамы, по мнению жениха, требовался выезд с шикарной каретой и вальяжными кучерами. Нужна была тройка красивых, породистых рысаков, в облегченной сбруе с кистями, серебряным набором, султанами и другой упряжной роскошью. Чтобы не ударить в грязь лицом, барин пригласил из Воронежа лучших мастеров и распорядился изготовить прогулочную карету, упряжь и все необходимое в лучшем виде, не жалея средств на приобретение лучших материалов. Немец, управляющий имением, проявляя заботу, предложил хозяину подобрать пару смышлёных мальчиков из крестьянских детей и приставить их к мастерам. Пусть, мол, числятся на побегушках, но одновременно присматриваются и перенимают азы мастерства. Он говорил барину, что одно дело уметь изготовить инвентарь, но потом за ним все равно ведь придется присматривать, содержать в порядке, ремонтировать, а для этого нужно иметь своего, знающего дело работника. Но сколько немец не ходил по домам — все попусту. Крестьяне отказывали ему, ссылаясь на нехватку рук в семье или находя иные причины. Ларчик открывался просто. Среди крестьян бытовало стойкое мнение, что все мастеровые люди никчёмные — шалопаи, пьяницы и прощелыги, а поэтому отдать ребенка на учение мастеровым равносильно тому, что толкнуть ребенка на порочный путь. Пономарёвым, точнее матери, эта идея наоборот понравилась, и было решено отдать старшенького, Егорку, в учение. Мать сказала немцу, что сын у нее грамотный, послушный, серьёзный не по годам, и лучшего ученика ему не найти. Егору шел уже четырнадцатый год, и он был хорошим помощником отцу, но было решено пожертвовать благополучием семьи ради будущего своего сына.
Мастеровым, грамотный и мыслящий подросток, пришелся по душе ровным характером и исполнительностью. Оторванные от семей, они любили болтать с Егором, скучая по оставленным дома ребятишкам, и с желанием открывали ему секреты своего мастерства, доверяя инструмент и поручая выполнять отдельные, несложные задания. Егор хорошо усваивал теорию, навыки практической работы и за год учебы освоил столько, что другим потребовались бы на это годы. Работа подходила к концу, но барин вдруг неожиданно приказал управляющему рассчитать всех нанятых работников, отказавшись от их услуг. Поговаривали, что невеста, не дождавшись свадьбы, вышла замуж за другого и уехала за границу. Работники, получив расчет, разъехались по домам, но Егора барин не отпустил, распорядившись, чтобы он закончил работу, которую мастера не успели доделать. В итоге Егор прослужил у барина почти четыре года. Возмужал, набил руку на многочисленных заказах барина и вырос в первоклассного специалиста столярных и плотницких дел — мастера «золотые руки». В восемнадцать лет его женили на Домне из рода Дымковых, людей спокойных, серьёзных и трудолюбивых. Однако, женившись, Егор забросил инструмент и вплотную занялся землёй, хотя в ней плохо разбирался и был крайне непрактичным в этом вопросе. Очевидно, Егор Иванович, как и его односельчане, считал, что ремесло — занятие для хлебороба недостойное. И если бы не совместное с родителями проживание и советы матери, то Егор Иванович быстро бы прогорел и оставил семью без куска хлеба.
Прошли годы. Многое изменилось в семье Пономарёвых. Женился брат Егора Ивановича — Митрофан, и ему построили хороший дом рядом с родительским. Отделили Алексея, построив ему небольшой домик ближе к реке. Сестры подросли, заневестились и разбежались замуж. У самого Егора Ивановича народилось три сына и четыре дочки. Когда самая старшая из детей, Вера, вышла замуж и уехала с мужем в Воронеж, второму ребёнку, Сергею, исполнилось восемнадцать лет. Пришло время задуматься о его судьбе. Женитьба братьев, постройка им домов, выделение имущества и скота отрицательно сказалось на благополучии семьи и лишило Егора Ивановича сна и покоя. Он плохо спал, порой терял аппетит, осунулся, все валилось из рук. Мать, конечно, прекрасно видела муки сына, но в отличие от него держалась с достоинством и не высказывала своего беспокойства. По-прежнему была деятельна, шустра и весела. Отец в расчет не брался, он был хорошим работником, но не стратегом. За последнее время, к тому же, сильно сдал и больше отлеживался на печке. Выбрав момент, когда в доме никого не было, мать позвала сына в избу, усадила за стол и повела разговор:
— Вот смотрю я на тебя, Егорка, и не узнаю! Совсем ты раскис, распустил нюни, все забросил и сам на себя не похож. Правда, ты и раньше звёзд с неба не хватал, но тогда с тобой рядом был здоровый отец, братья, сыновья и ты ходил героем, делая умный вид, хотя умом никогда не отличался. А теперь помощи со стороны нет, и ты раскис, опустил руки, совсем растерялся! А растерялся, скажу я тебе, потому, что не знаешь, что тебе делать. Ты всегда считал себя пупом земли и не замечал, что за тебя думала я, думал отец, братья, а теперь, когда ты остался один, ударился в панику и ходишь как неприкаянный. Думать, Егорка, думать нужно! Земли у нас хватает, скотины достаточно, есть весь инвентарь, хозяйственные постройки, а будет мало, сделаешь еще своими руками, ведь они у тебя из нужного места растут! Да что там говорить! Будешь теперь делать то, что я тебе скажу, а то от тебя самого толку, как с козла молока. Слушай меня! Завтра, чуть свет, запряжешь молодую кобылу в дрожки и поедешь в Усмань. Найдешь управляющего табачной фабрикой и договоришься с ним о поставках табака, цене и сроках. Оговори обязательно объем поставок и чем больше, тем лучше. Все условия напишешь на бумаге, а управляющий пусть подпишет и поставит печать. Тебе все понятно?
Егор Иванович застыл, глядя на мать, и долго молчал, двигая вверх — вниз головой, словно услышал какую-то несуразицу и, наконец, произнес:
— А где мы возьмем столько табака?
— Ничего ты, баран, не понял! Пора тебе, Егорка, не только слушать недалекого своего братца Митрошку, но иногда читать газеты. Ведь, слава Богу, мы получаем «Ведомости». В газете, Егор, все чаще и чаще пишут о войне, а раз начали поговаривать о ней, значит, она обязательно будет. Солдатам на войну потребуется махорка, а поэтому наверняка будут военные заказы и табак начнут закупать. А много его сеют в селе? Мало. Разве что несколько грядок для себя!
— А разве солдатам не будет нужен хлеб?
— Нужен, но в России сейчас столько хлеба, что его хватит на три года вперед. Причем, в первую очередь, будут брать у крупных поставщиков, а у таких, как мы, все скупят спекулянты за гроши. Поэтому нужно выращивать то, чем пока не занялись ни помещики, ни крестьяне. Я понимаю, что для выращивания табака требуется много рабочих рук, одна прополка чего стоит, но таких рук на селе в избытке. Вот у тебя три девки, которые обиходят не одну десятину. А если их подружек, да еще других девчат пригласить и пообещать им всем денег на приданое? Вот тебе и рабочая сила! Хлеба сей столько, чтобы хватило только на еду, да на корм скотине, а всю остальную землю засей табаком. Махорка — это деньги и деньги немалые, не чета хлебу. Все! Иди и готовься в дорогу!
Егор Иванович приехал через три дня, приехал довольный и веселый. Рассказал, что его встретили на фабрике хорошо, даже угостили чаем с пряниками. Он показал матери договор и отдал ей двести рублей задатку, который ему вручили на фабрике. Ещё сказал, что сначала предложили в качестве задатка золотые червонцы, но он отказался, боясь обмана. Тут мать обозвала его дураком и предупредила, что впредь все расчеты будет вести с купцами лично. На фабрике, рассказывал дальше Егор, он встретил Шурку Черноусову из Подклетного, с которой ему приходилось встречаться и раньше. Она сейчас живет вдвоём с мужем в небольшом домике, земли не имеет и, кроме лошади, другой скотины у них нет. Люди они бездетные, занимаются скупкой в окрестных селах табака для Усманских и Елецких купцов. На фабрике ему сказали, чтобы он время не тратил и в Усмань табак сам не возил, а сдавал Шурке, которая будет с ним рассчитываться. Внимательно выслушав рассказ Егора Ивановича о поездке в Усмань, мать завела разговор на другую тему, которая давно её беспокоила. Разговор пошел о запланированной в этом году женитьбе Сергея, старшего сына Егора Ивановича. Тому пришла пора жениться, да и руки невестки в семье были бы не лишними. Но мать повернула по — своему:
— Ты, Егорка, отложи свадьбу Сергея на год! Он — не девка, ничего с ним не случится. Вот соберём урожай, продадим табачок и часть скотины, по — человечески оденем и обуем его, а потом справим свадьбу, да такую, чтобы не стыдно было перед людьми. А сейчас нам трудно будет справиться. Сам знаешь, что построили твоим братьям дома, отдали замуж сестер, отец вон стал немощным и помощи от него никакой, а поэтому со свадьбой мы залезем в кабалу и лишимся последнего хлеба вместе со скотиной. Давай подождём до следующей осени!
И мать оказалась права. Год выдался удачным. Собрали богатый урожай колосовых, овощей и даже яблок, но особенно порадовал табак, который вырос высоким, лопушистым, на диво душистым. Но насколько мудрой и прозорливой оказалась мать, заставив его заняться махоркой, Егор Иванович понял только тогда, когда получил сполна все деньги за свой товар.
Невеста Сергея, Полина, не дождавшись сватовства, вышла замуж, и Сергей остался свободным. Он возмужал, налился силой, расцвел. Был он красив, статен, роста выше среднего, с покатыми плечами, пышной волнистой русой шевелюрой на голове. Если учесть, что Пономарёвы пользовались в селе большим авторитетом, то Сергей считался завидным женихом. Уже неоднократно мужики, имевшие дочерей на выданье, заговаривали с Егором Ивановичем, намекая ему о женитьбе сына, о желании породниться с ним. Но он уходил от ответа или переводил разговор на другую тему. В конце концов, люди решили, что Егор Иванович просто-напросто зазнался и копается в невестах, набивая себе цену. Но ни те, ни другие не догадывались об истинной причине нежелания говорить про свадьбу сына. У Егора Ивановича была другая задумка. Шурка Черноусова уже давно мечтала отдать свою родную племянницу замуж и с завидной настойчивостью обрабатывала Егора Ивановича. Её доводы в пользу такого союза выглядели довольно убедительными. Она говорила, что племянница выросла в бедной семье, не знает радости и ласки. Ее отец, Сергей Кирсанович, человек грубый, пьяница, бабник и драчун. Домашними делами не занимается, свалил все заботы по хозяйству на своего отца. Всё содержание племянницы тетка взяла на себя. Она одевает и обувает её, готовит ей приданое. Главное, уговаривала Шурка Егора Ивановича, заключается в том, что выросшая в нищете и грубости, она, попав в семью Пономарёвых, будет век молиться на своих благодетелей.
Народная мудрость гласит: «Если хочешь иметь ласковую и рачительную хозяйку — не женись на бедной», но Егор Иванович никому, даже сыну, не открыв своей тайны, дал опрометчивое согласие на брак сына с племянницей Шурки. Наконец, собравшись с духом, Егор Иванович признался в этом своей матери. Выбор своего сына она не одобрила, рассудив, что соседи даже корову не дадут продать на сторону, если она дает много молока, а тут девку с богатым приданым, в другое село решили отправить. Егор Иванович возражал, говоря, что многие хотели бы заполучить её к себе в дом, но тетка подыскивает ей ровню. Тетка бездетная, богатая и всё свое богатство завещает ей. К тому же, породнившись, Шурка поможет выгодно продавать нам махорку и дальше, а значит, легко можно будет поженить остальных ребят и отдать замуж дочерей. Мать сначала упорствовала, а потом махнула на всё рукой. Делай мол, как знаешь! Только спросила, видел ли он сам будущую невестку? Егор Иванович сказал, что видел и не раз. Зовут её Дарьей, девка из себя видная, рослая, крепкая, с хорошей фигурой и на мордашку красивая.
Устранив со стороны матери препятствия, Егор Иванович с жаром принялся готовиться к свадьбе. Жену свою он не принимал во внимание. Домна, безголосое существо, в последнее время стала частенько прихварывать и в дела мужа не вмешивалась. Да с её мнением он никогда и не считался. Поэтому Егор Иванович решил не откладывать дело в долгий ящик и стал готовиться к поездке на смотрины невесты. Выкатил из-под навеса тарантас, кое-что поправил, покрыл лаком, достал парадную сбрую, проверил и смазал жиром. Тщательно вычистил лошадей, заплел косички в гривах, положил в тарантас шерстяной полог и тщательно смазал дегтем оси.
В престольный праздник, на осеннюю Казанскую, он на тройке горячих коней выехал из ворот и остановился возле крыльца. Только хотел слезть, войти в дом и перед поездкой поговорить с матерью, как она сама вышла из дверей вместе с Сергеем и заявила, что тоже решила ехать к сватам. Одета мать была по — городскому. Егор Иванович давно не видел её такой нарядной, красивой и в первый момент даже не узнал, раскрыв рот от неожиданности и удивления. Пропустив Сергея вперед, она без посторонней помощи уселась в тарантас и приказала ехать. Лошади рванули с места и вынесли ездоков к церкви, где мать неожиданно попросила остановить тройку.
— Ты, Егорка, прихватил с собой магарыч?
— Пока нет! Что, долго заехать и купить?
— А с чем ты думал явиться к сватам? До чего же тупой ты у меня, а ведь не молодой уже. Ладно, поехали в «монополку».
Возле торговой лавки Егор остановил лошадей. Мать, развернув завязанный на узелок носовой платочек, протянула сыну деньги и сказала, чтобы он купил четверть «казенки», пряников, конфет и лент для девочек, да только все хорошее и дорогое. Когда он принес купленное, и все было уложено в тарантас, она предложила прихватить кого-нибудь в качестве свидетелей. Выбор пал на Ивана Ивановича Лавлинского, по прозвищу — Хохол.
Мужика совсем молодого, но серьезного, грамотного, всегда аккуратно одетого. И еще на разбитную бабёнку, Прасковью Жиркову, бойкую на язык, голосистую песенницу и неутомимую плясунью.
По случаю престольного праздника свидетели были одеты в лучшие свои платья и слегка навеселе. Они сразу согласились на предложение Пономарёвых и тут же уселись в тарантас. Хохол влез на облучок, отобрал у Егора Ивановича вожжи, сказав, что никому не доверяет править лошадьми. Сергей за всё время не проронил ни одного слова, словно вся эта кутерьма была затеяна не ради него, а ради кого-то другого. Его мысли были заняты не происходящей вокруг него суетой, а воспоминаниями, как они, вдвоем с Полиной, теплыми ночами вдыхали дурманящий запах цветущих садов. А что ждёт его теперь? Кто она такая, выбранная отцом ему в жёны? Хороша ли собой? Красивая и ласковая, как Полина, или придется всю жизнь мучиться с нелюбимой женой?
— Ты чего, жених, нос повесил? — озорно спросила Прасковья. — Мы же не на похороны едем, а свататься. Аль раздумал жениться?
— Ты, Прасковья, перестань зубоскалить, и знай, что мы едем не свататься, а на смотрины и помните, чтобы никто даже не намекал на свадьбу. Мы только посмотреть невесту и всё! — взял инициативу в свои руки Хохол.
Прасковья обиделась и сжала губы, а Хохол причмокнул и лошади пошли рысью, оставив позади церковь, последние хатёнки и вынесли ездоков в Сомовский лес.
В тот год стояла на диво долгая и сухая осень. Поблекли поля, в лесах пылали золотом листья, пышно рдела рябина. Осеннее солнце пронизывало прозрачный воздух. Оно уже не жгло, а только блестело и сверкало ослепительным, холодным светом. Небо — бледно-голубое, высокое, безоблачное. Ясно и сухо. Прохладный и неподвижный воздух полон какой-то крепкой свежестью и тем особенным запахом, который присущ умирающей природе. Все тихо и беззвучно. Не щебечут птицы. Пустынные, голые нивы уходят во все стороны горизонта. И только изредка однообразный вид этих просторов оживляется яркой полосой веселых озимых.
Вот в такую пригожую пору и ехали Пономарёвы на смотрины. По гладкой, точно отполированной дороге, мчалась тройка, оставляя позади себя немеренные версты. Остался вдалеке лес, проскочили Семилуки и выехали на мост через Дон. И вот потянулись невзрачные домики в два порядка. В Подклетном престольным праздником тоже была Казанская. Встречались изрядно выпившие мужики. Девчата, в нарядных кофтах, отплясывали «матаню» под ухабистые звуки гармошки. Ребята дурачились, втискиваясь в хоровод девчат, старались прижать к себе одну из них или ущипнуть за мягкое место. Но стоило Хохлу остановить шикарную тройку, как замолкла гармошка, и весь хоровод поспешил к дому Черноусовых. Домик являл собой жалкое зрелище. Был он каменный, в два подслеповатых оконца, крытый камышом. Крыльца не было — его заменял плоский дикий камень. Ворота покосились и каким-то чудом держались на вереях. Вся семья Черноусовых высыпала на улицу, встречая дорогих гостей. Дед Кирсан, в чистой холщевой рубахе и в таких же портах, стоял впереди своего семейства с открытой белой головой и такой же белой бородой, подстриженной лопатой. Отец невесты был явно навеселе, голова его тоже была открытой и лоснилась обширной лысиной. Её мать, тщедушная, небольшого роста женщина, с землистым лицом, явно была больна. Тут же стояла тётка невесты с мужем и два подростка, семи и пятнадцати лет.
Как только лошади остановились, гости вышли из тарантаса, и подошли к встречающим. Поздоровались. Прасковья наделила пряниками и конфетами подростков и женщин, а дед Кирсан, с поклоном, пригласил приехавших в дом. Хохол, с трудом открыв ворота, завел тройку во двор, распряг и привязал лошадей к тарантасу, подбросив им сена. Когда он, управившись с лошадьми, вошел в жилище, то застал всех рассевшимися на лавках и скамейках по обе стороны, стоящего в центре комнаты стола. На столе в тарелках и глиняных чашках был разложен хлеб, нарезанное большими кусками мясо, холодец, яичница, солёные огурцы, квашеная капуста и другие незамысловатые кушанья. Кроме семьи Черноусовых, здесь было несколько близких родственников обоего пола, а через маленькие окна смутно проглядывались лица любопытных односельчан. Хохол выставил на тщательно выскобленный стол четверть «казёнки», предусмотрительно купленной в лавке, и предложил всем налить. Когда стаканы наполнились влагой, бабушка Вера попросила показать им ту, ради которой они ехали в такую даль. Тётка невесты из-за печи за руку вывела девушку, каким-то образом спрятанную в закутке, где и таракану негде было спрятаться. Невеста выглядела эффектно. Одета она была модно, в длинной чёрной юбке и беленькой кофточке в мелкий горошек. Рослая, ладная, хорошо одетая, она выглядела привлекательно. Её лицо, румяное от волнения, выдавало явное смущение и волнение, что ещё больше усиливало привлекательность. Семнадцатилетняя девушка была обворожительна. Бабушке Вере невеста понравилась. Она встала, подошла к внуку, взяла его за руку и подвела к суженой. Это была достойная друг друга пара. Полные свежей силы и молодой красоты, они дышали здоровьем и блаженством. Сергей чувствовал себя не в своей тарелке, хотя и не подавал виду, но внешне был спокоен и невозмутим. Чтобы выручить смутившегося жениха, Хохол весело и с вызовом сказал, что пора выпить за знакомство, а то от разговоров в горле пересохло. Взял стакан, поднял его и произнес:
— Я поднимаю стакан за молодых! За то, чтобы их жизнь была такой же чистой, как эта водка, а семья такой же крепкой!
Он залпом осушил стакан, поднял его выше головы и со всего маху бросил на пол. Было бы правильней, если бы этот тост произнес человек постарше и из числа родственников невесты, но собравшиеся дружно выпили и потянулись к столу за закуской. Пили за счастье, за здоровье молодых. Постепенно развязались языки. Мужики вспоминали свою молодость, свою женитьбу, хвалились урожаем. Говорили все разом и не обращали внимания, слушают их или нет. Бабы перемывали косточки молодым и сватам. Отец невесты, порядочно захмелевший, поднял очередной стакан и заплетающимся языком громко сказал:
— Я всех вас приглашаю на свадьбу моей дочери. Закачу такую свадьбу, что чертям будет тошно!
— А когда, Серёга, свадьбу будешь справлять? — поинтересовался у него шуряк, Петька Кадетов.
— Когда говоришь? А чего тянуть лыко, если всё готово. Вот возьмем, да и справим на Михайлов день!
— Ты бы меньше пил, а лучше думал своей лысой головой, на какие шиши будешь справлять эту свадьбу, — урезонил его дед Кирсан, услыхав похвальбу сына.
— А чего тут думать, если у неё есть богатая тётка. Правда, Сашка? — хорошился отец, стараясь быть весёлым.
Тётка промолчала и отвернулась, а Кирсан заметил:
— На чужой каравай, рта не разевай! Мы не богатые, но побираться не будем и свадьбу справим сами, но её придется отложить до весны. К этому моменту соберёмся с силами, да и скотина даст приплод. Как думаешь, сваха?
— Ну что ж, мы согласны! — ответила бабушка Вера и поглядела на сына. Егор Иванович согласно кивнул.
— Между прочим, мы в прошлом году тоже перенесли свадьбу на год, а невеста взяла и вышла замуж за другого, — многозначительно заметила бабушка Вера. Все сидевшие в доме переглянулись и промолчали.
— Одним словом, весной, на пасху, мы присылаем сватов и тогда обо всём договоримся, а теперь разрешите откланяться и поблагодарить хозяев!
Тройка уже стояла у дверей дома, окружённая толпой деревенских зевак. Казалось, что провожать Пономарёвых вышло все село, очарованное шикарным выездом.
Свадьбу справили весной, как и договаривались, на Красную горку. Это было сделано по настоянию бабушки Веры, которая объяснила своим, что раньше играть свадьбу нельзя, так как к пасхе все жители села, даже самые бедные, зарежут последнюю овцу или последнего поросёнка, но праздник отметят, как положено. А вот когда люди съедят всё припасённое и выпьют всё до капли, тогда мы и пригласим всех желающих. Чуть ли не целую святую неделю жарили, парили, варили и готовили целыми возами еду. Было приглашено более десятка соседских баб, которые под присмотром бабушки Веры готовили диковинные для села кушанья, сами того не понимая, что они готовили и как это называется. Черноусовы настаивали, чтобы свадьбу сыграли в двух селах, но бабушка убедила их в том, чтобы свадьба состоялась один раз в доме Пономарёвых, который и более вместительный и более подходящий для большого количества гостей. Она говорила, что в этом случае будет меньше расхода, а Черноусовы пусть приглашают сюда всех, кого сочтут нужным. Логичный довод с ее стороны сыграл не последнюю роль, и выбор места проведения свадьбы состоялся. Бабушка Вера, настаивая на своём предложении, руководствовалась ещё и тем, что не хотела показывать родственникам бедность и нищету семьи невесты. Венчали молодых в местной церкви, и Егор Иванович с паперти обратился к своим односельчанам с приглашением прийти на свадьбу. Для самых близких и родных накрыли в большой и малой избе, а для соседей и знакомых установили столы во дворе и даже на улице. Целую неделю гуляло село. Самогон лился рекой, столы ломились от еды. Надолго люди запомнили небывалую по размаху свадьбу.
Пришло и похмелье. Свекровь болела и была никудышной помощницей молодой невестке. Бабушка Вера тоже давно отошла от домашних дел, а золовки были еще малы. И пришлось молодке, с первых дней замужества, засучить рукава и взвалить на свои плечи груз забот по дому. Егор Иванович жалел её, старался по возможности позволить подольше поспать, освободил от ухода за скотиной, обязав заниматься ею своих малолетних дочерей и сыновей. Единственными помощниками были пятнадцатилетний деверь Никита и тринадцатилетняя золовка Мария. Сергей тоже жалел молодую жену, особенно когда узнал, что Дарья забеременела. Он рубил и носил дрова, выносил помои, не разрешал поднимать большие чугуны, оберегая её. Лелеял и не чаял в ней души. Дарья, в свою очередь, старалась угодить мужу и особенно свёкру. Никто не вмешивался в её жизнь и домашние хлопоты, чем помогали чувствовать себя вполне самостоятельной. Бабушка Вера всё время проводила в малой избе, а свекровь не могла на неё намолиться и была рада, что, наконец- то в доме, появилась настоящая хозяйка.
Но недолго длилось семейное счастье. Началась война. Сергея мобилизовали на покров. Отец и беременная жена отвезли его в Воронеж, дождались, когда призванных погрузили на Курском вокзале в вагоны, и отправились домой. Дарья была так расстроена, что проезжая мимо родного дома, отказалась даже проведать родных.
Сильно переживал разлуку с женой и Сергей. Он замкнулся, сник и почти ни с кем не разговаривал, хотя в этот раз из села было призвано в армию сто человек. Хохол, которого забрали в армию вместе с Сергеем, понимал состояние своего друга и не навязывал ему своего мнения, не утешал. Все его участие сводилось к ходьбе за едой на кухню. Поезд с мобилизованными шел ходко, почти без остановок, и на исходе недели они были уже в Киеве. Правда, до самого Киева немного не довезли, высадили в Дарнице. На окраине пригорода, на берегу Днепра, в один ряд выстроились приземистые бревенчатые казармы, окруженные высоким забором. Перед казармами раскинулся обширный плац, кое-где изрезанный учебными траншеями и окопами. После завтрака всех повели в крайнюю казарму, где размещался лазарет и приказали ждать вызова, никуда не отлучаться и не ходить по полю. Через несколько минут, из лазарета вышел фельдфебель, построил в две шеренги новобранцев и представился странной фамилией Гусак. Был он приземист, с широкими плечами, на которых, почти без шеи, покоилась массивная голова с широким лицом и обвисшими усами на нем. Он призвал к тишине и стал громко выкликивать фамилии. Названные мужики отзывались, выходили из строя, показывались фельдфебелю и становились назад на свое место. Но тут вышла заминка. Когда назвали фамилию Дмитрия Попова, никто не откликнулся. Фельдфебель повысил голос и вновь назвал фамилию, но и на этот раз никто не отозвался.
— Он что, сбежал что ли?
— Да нет, господин начальник, он просто забыл свою фамилию, — отозвался Хохол.
— Как это забыл?
— Дело в том, что у нас в селе величают не по фамилиям, а по уличным кличкам и люди начисто свои фамилии забывают. Митькина кличка Демидов, по имени деда, а что его настоящая фамилия Попов он и не знает.
— Так, где этот Попов-Демидов?
— Вот он, в целости и сохранности, — ответил Хохол и толкнул в спину, стоящего впереди Митьку.
Фельдфебель назвал двадцать человек, приказал построиться отдельно, пересчитал и повел в лазарет. Там их взвесили, померили рост, объем груди, взглянули на зубы, оглядели кожу и разрешили выходить. После медицинского осмотра всех повели строем в баню. Помыли, одели в солдатскую одежду, тщательно подгоняя её под пристальными взглядами многоопытных унтер-офицеров. После помывки тоже не обошлось без приключений. Некоторые сердобольные родители, провожая сыновей в солдаты, собрали несчастным чадам в дорогу какие — то деньжонки. А чтобы рубли не потерялись, и тем более их не украли, догадливые мамы или жёны постарались зашить деньги в самые укромные места одежды. Новоиспеченные солдатики не знали, что оставляя в предбаннике свою одежду, уже больше никогда её не увидят, а значит, плакали их рублики горькими слезами. Вернее, они сгорели синим пламенем, так как санитарный врач приказал сжечь всю рвань, в которую были одеты новобранцы. Многие, не стесняясь, плакали по сгоревшим в огне сбережениям. В последующие дни всех их по рекомендации врачей и на усмотрение командиров распределили по командам. Более грамотных и крепких мужиков определили в артиллерию и пулемётные команды, малограмотных и безграмотных — в стрелковые части. Потом, уже в составе своих подразделений, призывников познакомили с распорядком дня, заставили изучать воинские уставы, научили различать знаки отличия командного состава, их звания и должности. Если учесть, что вся эта наука большинству солдат давалась с большим трудом, то можно себе представить, сколько сил, терпения и нервов потребовалось со стороны их непосредственных начальников, от которых требовали скорейшего обучения этой массы, одетой в серые шинели.
Сергей попал в пулемётную команду, где солдат обучал унтер-офицер Колбасюк, из хохлов. Человек грамотный и хорошо знавший свое дело. Он строго спрашивал со своих подчиненных за все огрехи, но был справедлив, честен и великодушен, что редко бывает среди военных. Сергей был грамотней и более развит по сравнению со своими сослуживцами, что Колбасюк отметил с первых дней обучения. А обучение набирало силу. Новобранцы ежедневно занимались строевой подготовкой, изучали устройство пулемёта, его разборку и сборку, сначала произвольно, а потом и на скорость. Проходили тактику пулемётного боя и частенько совершали марш-броски в полной боевой выкладке. Сергей, назначенный первым номером, нес на плече тело пулемёта, а его второй номер, богатырь Николай Гусев, тащил на спине станок и коробки с пулемётными лентами. Учили их обращению с винтовкой, её материальной частью и стрельбе на меткость. Прошло время, люди втянулись в службу, основательно освоили материальную часть оружия и все чаще и чаще ходили на стрельбище. Одним словом — готовились к войне основательно. Мужики всё реже вспоминали село и родных, а в последнее время стали поговаривать о фронте. Многим надоела муштра, и хотелось скорее попасть на передовую, где, как им казалось, будет проще и свободнее. Тем более, что там велась какая-то окопная война без громких побед и поражений. Через три месяца, в феврале, всех выстроили на плацу. Приехало большое начальство. Их поздравили с успешным окончанием учебы, пожелали скорейшей победы над неприятелем и возвращения к своим родным в целости и полном здравии. В Киеве, на пересыльном пункте вооружили, выдали сухие пайки на дорогу и эшелоном отправили в район города Дубно.
В окопах было сыро и неудобно, но не давила муштра и расписанный по минутам распорядок дня. Бои были вялыми, позиционными. Не было ни наступления, ни отступления, но вскоре идиллия закончилась. Пока русские блаженствовали, вооруженные силы противника использовали момент, и перешли в наступление. Удар был настолько сильным и внезапным, что стабильный и непоколебимый фронт в один миг рухнул и рассыпался как карточный домик. Началась паника. Войска бросали всё, что нельзя было унести с собой, думая лишь о том, как спасти свою жизнь. Самоуспокоенность и кажущееся благополучие сыграло с русскими плохую шутку. Штабные работники растерялись, и не только не пытались навести какой-нибудь порядок в войсках, но даже не знали каким образом спастись самим. Сергей со своим пулемётом занимал в это время позицию на подступах к штабу полка. У него был основательно оборудованный окоп с большим наличием боеприпасов, включая даже гранаты, что было в русской армии редкостью. Когда рано утром Сергей не спал, а медленно прогуливался по брустверу, вдыхая терпкий запах разнотравья и распустившихся цветов. В это время австрийцы начали обстрел русских из орудий. Неприятель, очевидно, знал расположение наших войск и поэтому снаряды стали ложиться все ближе и ближе к штабу. Было ясно, что противник хочет его накрыть, вывести из строя и тем самым нарушить управление войсками. Не надо было быть опытным тактиком, чтобы понять, что за обстрелом последует атака кавалерии и пехоты. Сергей, прыгнув на дно окопа к разбуженному грохотом Николаю, успел увидеть, как офицеры выбегали и забегали в штаб, на ходу застегивали обмундирование, натягивали на ноги сапоги, что-то кричали, махали руками, ругались. Приставленные к штабу солдаты выносили какие-то коробки и мешки, укладывали в повозки. Ездоки ловили обезумевших лошадей и с трудом их запрягали. В это время, из штабного домика вышел полковник Заенковский. Высокий, стройный, элегантный, в хорошо сидящей на его ладной фигуре военной одежде. Он огляделся вокруг и неторопливо, словно на прогулке, направился к окопу пулемётчиков, не обращая никакого внимания на близкие разрывы снарядов. Подойдя к окопу, он присел с краю на корточки и спокойно спросил сидевшего внизу Сергея:
— Скажи-ка, братец, как тебя зовут?
— Серёга, ваше благородие! — вытянулся в окопе по стойке смирно Сергей.
— А фамилия?
— Пономарёв!
— Вот что, солдат Пономарёв, хочу тебя попросить задержать австрияков хотя бы на полчаса. Трудно будет это сделать, но надо. Хочу сказать, что ни справа, ни слева от тебя никого нет. Я дал команду отступать. Австрияки сейчас бросят стрелять из пушек и пустят в наступление пехоту, чтобы захватить штаб. Твоя задача задержать противника насколько будет возможно. Только ты один сможешь это сделать. Все понятно, солдат Пономарёв?
— Будет сделано, ваше благородие!
— Да ты не тянись, а то снесут башку, и некому будет встречать австрияков!
— А как же вы, ваше высокоблагородие, не боитесь ходить под снарядами?
— Я, Пономарёв, заговорен от пуль, а ты нет, поэтому береги себя. Постарайся и задержи противника хотя бы на полчаса, не меньше. Да, вот что, у тебя нет часов, а поэтому возьми мои.
Полковник достал из кармашка серебряные часы на цепочке и протянул их Сергею.
— Вот здесь нажмешь на кнопку, и крышка откроется. Ты умеешь отсчитывать время?
— Уметь — то я умею, но зря вы, ведь часы дорогие и жалко будет, если они достанутся врагу.
— Нет, это ты зря! Когда вы догоните нас, часы назад и вернешь. Ну, храни вас Господь!
Полковник перекрестил их, легко встал и также неторопливо пошел к штабу. Через минуту штабные повозки исчезли, а Сергей и Николай остались один на один с вражеской армией. Только успел стихнуть скрип колес и топот лошадиных ног, как в штабной домик влетели два снаряда и разнесли его в щепки.
— Плохие австрияки стрелки, если на один дом потратили столько снарядов, — наконец проговорил Николай, молчавший все это время. — А полковник и в правду заговоренный, если вовремя убрался отсюда.
Австрийцы, разбив штабной домик, очевидно, посчитали, что дело свое сделали и прекратили обстрел.
— Ну, Николай, теперь жди гостей. Из окопа не высовывайся и береги голову. Слышишь? Не высовывайся!
В это время вдалеке, на пригорке, показались цепи противника, идущие во весь рост.
— Серёга, давай! Полосни их, уж очень нахально идут, — почему — то шепотом сказал Николай.
— Рано, Николай! Наше спасение в неожиданности. Они, наверное, думают, что здесь уже никого нет, так как наверняка видели отход нашего штаба. Кстати, полковник говорил о наступлении, а мне кажется, что они просто идут, не ожидая отпора. Так уверены, что даже винтовки за спиной несут. Но ничего, мы вам покажем, где раки зимуют!
— Серёга, пора, уж больно они шибко шагают!
— Нет, Коля! Стоит нам начать стрельбу, как они залягут, а нас с тобой раздолбают из пушек. А вот когда мы положим их недалеко от нашего окопа, стрелять из орудий не станут, побоятся своих накрыть.
Австрийцы шли прямо на окоп и подходили все ближе и ближе. Уже виднелись знаки различия, выражение лиц и даже горящие сигареты офицеров.
— Серёга, давай!
— Подожди, не время.
Когда первая цепь подошла к окопу шагов на сто, Сергей нажал гашетку. Было видно, что в первый миг наступающие ничего не поняли и остановились, озираясь по сторонам. Воспользовавшись замешательством в рядах неприятеля, Сергей длинными очередями безжалостно косил живую массу опешивших людей. Когда те опомнились, увидав убитых товарищей, сразу же залегли, открыв из винтовок беспорядочный огонь. Сергей перестал стрелять и стал ждать дальнейших событий. Если бы офицеры австрийцев знали, что перед ними было только двое солдат с одним пулемётом, то они послали бы пару отделений с задачей обойти пулемётчиков с двух сторон и взять их в плен. Но говорят, что у страха глаза велики и командиры посчитали, что перед ними хорошо продуманная ловушка русских, устроенная с целью заманить в нее австрийских солдат. Поэтому решили не искать приключений на флангах, а ударить русским в лоб. Офицеры подняли своих солдат в атаку. В умелых руках Сергея пулемёт работал, как часы, сея смерть и страх в рядах противника. Они вновь залегли, и принялись бешено обстреливать пулемётчиков из винтовок. Сергей перестал стрелять, спрятался на дно окопа и, прикрыв голову ладонями, слушал свист пуль над укрытием. Противник в третий раз поднялся в атаку, но тут же вынужден был залечь, так как пулемёт заработал вновь. Наконец до командиров дошло, что перед ними хорошо оборудованная огневая точка, укрепленная и приспособленная к длительной осаде, ибо три раза захлебывались атаки, а пулемёт продолжал жить и без устали бил по наступающим. Осаду решили снять, перегруппировать ряды и попробовать пробиться в других местах. К радости Сергея и Николая, австрийцы стали отходить. Когда вдали, за пригорком, исчез последний вражеский солдат, Сергей сказал:
— Ну, Николай, теперь ноги в руки и ходу отсюда, ибо сейчас за нас возьмутся артиллеристы!
Николай покатил пулемет, Сергей подхватил неиспользованные коробки с лентами и они бегом бросились за разрушенный домик. Шагах в сорока от бывшего штаба, начинался довольно глубокий овраг, кое-где заросший невысоким кустарником. Не успели они спуститься на дно оврага, как земля дрогнула и раздались частые разрывы снарядов там, где еще недавно был их окоп. Бежали изо всех сил, с каждым шагом удаляясь от страшного места. Спешить заставляло и опасение, что австрийцы, не обнаружив их убитыми, кинутся догонять. То бегом, то шагом передвигались они целый день, таща на себе пулемёт и коробки с патронами. Остановились только раз, для того, что бы разъединить остывший ствол пулемёта со станиной. Овраг давно кончился, и пулемётчики продолжали свой путь в реденьком осиновом лесочке вперемешку с березками. Только на заходе солнца они решились остановиться отдохнуть. Перекусили остатками пайка и тут почувствовали, что смертельно устали. Сергей сказал Николаю, чтоб тот ложился спать, а сам будет дежурить и через два часа они поменяются местами. Достал часы и нажал на кнопку. Крышка открылась. После негромкой мелодии пробило одиннадцать часов. Николай прилег на траву и тут же захрапел. Прошло два часа, но Сергей не стал его будить, дав поспать еще один час. Когда подошла очередь дежурить Николаю, Сергей приказал разбудить его, как только начнет сереть небо.
Проснулся Сергей сам, когда над горизонтом уже показался край солнца. Рядом спал Николай, причмокивая во сне, как ребёнок. Он разбудил его, но ругать не стал, пожалев благодушного богатыря. Позавтракав на скорую руку остатками пайка, они тронулись в путь. Сначала шли таким же малорослым лесом, а потом кончился и он, но зато они вышли на дорогу. Дорога была хорошо накатана, и было видно, что по ней прошло множество подвод. Но чьи это следы? Русские или австрийские? Неужели, пока они спали, противник сумел так далеко прошагать по нашей земле? Здравый смысл подсказывал, что не может такого быть, чтобы наши войска без боя оставили свои позиции. Но тогда почему они второй день не слышат ни пушечной, ни ружейной стрельбы? По обочинам дороги кое-где валялись сломанные телеги, трупы лошадей, какое — то барахло, но нигде не было видно убитых. И все же уверенность в том, что здесь недавно прошли именно наши части придавало то, что все валявшееся у дороги было русским, а не австрийским.
Наконец, впереди показался небольшой хутор с белёными мазанками в окружении высоких тополей. Они нашли небольшую лощину, спрятались и стали наблюдать за домиками. Внешне на хуторе не было видно ничего такого, чтобы указывало на присутствие там военных. Наконец, из хаты вышла женщина, достала из колодца ведро воды и понесла его в сарай. Её спокойное поведение придало им смелости, и они уверенно направились к хутору. Встретила их пожилая хохлушка, хотя и неприветливо, но и без видимой вражды. Она кивком головы ответила на приветствие и, не сказав ни слова, ушла в хату. Вскоре к ним вышел пожилой мужчина в белом холщевом одеянии, с белым оселедцем на массивной голове и длинными обвисшими усами. Он пожал им руки, пригласил за сбитый из досок стол, стоявший под вишней, присел и сам. Он не стал спрашивать, кто они и откуда. Очевидно, они были не первыми и не последними, идущими с передовой.
— Вы, хлопчики, отдохните малость, а потом вас хозяйка угостит борщом. Небось проголодались? — сказал дед обыденным голосом, словно встретил хорошо знакомых людей.
— Да мы не голодные, — ответил, стесняясь, Сергей, — а вот попить водички не мешало бы. С вчерашнего дня росинки во рту не было. Дед, молча, поднялся, подошел к колодцу, достал ведро воды и пригласил их напиться. Вода оказалась холодной и вкусной. Они напились и попросили дать им, какую-нибудь посудину, в чем можно было умыться и помыть ноги. Дед принес из хаты деревянную шайку, поставил на скамейку и налил в нее воды. Они сняли гимнастёрки, обмылись и прилегли на землю под вишнями. Когда хозяйка принесла чугунок с борщом, измученные солдатики уже спали крепким здоровым сном.
Проснулись за полдень. Встали отдохнувшими и свежими. Хозяйка разогрела наваристый борщ, накормила, и они стали собираться в дорогу.
— А скажи, добрый человек, проходили ли здесь наши войска? — спросил Сергей деда.
— Как не проходили, проходили!
— И давно?
— Та — а, прошли вчера, очень спешили. После приезжал ко мне кум, так он рассказал, что они остановились в Терновке.
— А далеко от вас эта Терновка?
— Не — е, недалеко, вёрст эдак десять. Село большое, там есть и церковь, куда мы ходим молиться. Да мы и сами из Терновки, но когда разрешили выходить на отруба, мы и переселились сюда, на хутор.
Они попрощались с хозяевами, поблагодарили их за хлеб и соль, пожелав счастья и здоровья.
— Та — а, чего там! Ведь мой сын и два внука тоже где-то мыкают нужду на войне. Может, встретите их где-нибудь, то передайте им наше благословение. А фамилия наша Оселёдки. Запомните, О — се — лёд — ки!
Десять верст они не прошли, а пробежали. Через какие — то час — полтора они были на окраине Терновки. И тут на их пути встретилось препятствие в виде двух вооружённых солдат из дозора.
— Стой! — раздался из-за плетня строгий оклик. — Кто такие?
— А ты кто такой? — спросил Сергей так же строго.
— Мы дозорные, а кто ты?
— Мы пулемётчики, разве не видишь?
— Видим! Придется вам разоружиться и сдать пулемёт, а после отведём в штаб!
— Нам и нужен штаб, а пулемёт останется с нами!
— Нельзя! Сдайте пулемёт, а то стрельну!
Это вывело Сергея из себя. Он почувствовал, что где-то внутри поднимается гнев, заполняя всё его существо.
— Я тебе, сопля, так стрельну, что никто не узнает, где могилка твоя! Николай, пулемёт к бою!
Николай лег и, приведя пулемёт в рабочее состояние, прильнул к нему, поочередно озираясь то на плетень, то на Сергея.
— А теперь, вояки, вылазьте из-за плетня и идите ко мне, а то мы из вас сделаем бредень.
Те не дали долго себя уговаривать и дружно перепрыгнули через плетень.
— Вот так-то лучше! А теперь ведите нас в штаб, и поживее. Да не дурите — шутить я не буду.
Через минуту по улице села чередом шагали два солдата с винтовками за плечами, а за ними еще двое, с пулемётом.
В центре села высился добротный каменный дом какого-то купчика, где и разместился штаб. На крыльце их встретил часовой и сказал, чтобы подождали. Через минуту появился адъютант полковника Заенковского, щеголеватый и молодой красавец. Сергей вышел вперед, положил ладонь к виску и доложил громко и четко:
— Ваше благородие, доложите господину полковнику, что рядовой Пономарев, со вторым номером рядовым Гусевым прибыли, выполнив его приказ!
Адъютант вспомнил об оставленном прикрытии убегающего штаба, двумя пулемётчиками, но мысленно их похоронил, потому что очень уж авантюрная была затея, оставить двух рядовых на растерзание неприятеля. Выслушав короткий рапорт солдата, он бегом бросился в дом, сразу вернулся и пригласил Сергея войти.
В большой опрятной комнате, в окружении командного состава, за массивным столом восседал командир полка. Когда Сергей строевым шагом подошел к столу и приложил ладонь к виску, полковник встал, опустил руки по швам и выслушал его рапорт. Офицеры, видя, что полковник стоит по стойке смирно перед неизвестно откуда взявшимся рядовым, тоже встали. Выслушав рапорт Сергея, командир предложил всем садиться, в том числе и Сергею. Он помялся и присел на краешек стула. Полковник попросил рассказать обо всем, что было с ним после ухода войск. Сергей подробно рассказал, как они отбили три атаки австрияк и как те, не выдержав огня, позорно бежали с поля боя. Как потом искали свою часть и случайно напали на ее след.
— А где же твой напарник, — спросил полковник, — живой ли он?
— А как же, ваше высокоблагородие, жив и здоров!
— А где он?
— Там на улице, охраняет пулемёт, — махнул рукой Сергей в сторону окна.
— Так вы и пулемёт притащили?
— А как же? Он же за мной числится. Мы еще и две коробки с пулемётными лентами принесли.
— Да понимаешь ли ты, Пономарев, что совершил? Вы с напарником не только выполнили мой приказ задержать наступление противника, но и осуществили совершенно немыслимое — за сутки прошли восемьдесят верст, таща на руках пулемёт и коробки с лентами.
Полковник встал из-за стола, подошел к Сергею, со слезами на глазах обнял его и трижды поцеловал. Затем снял со своей груди Георгиевский крест и приколол его к рубахе Сергея.
— Носи, заслужил герой!
— Служу царю и отечеству! — еле выговорил от волнения Сергей и наивно спросил:
— А как же вы, ваше высокоблагородие, будете без Георгия?
— А я, Пономарёв, выхлопочу Георгия тебе, и буду носить его на своей груди. Вот и побратаемся. Согласен?
— Согласен, ваше высокоблагородие!
— Тогда лады!
— Да вот еще, ваше высокоблагородие, чуть не забыл за часы, — Сергей достал часы и протянул полковнику.
— Нет уж, рядовой Пономарёв, это тебе подарок на память от меня лично. Береги и воюй исправно!
Сергей, растроганный такой милостью, поблагодарил полковника, офицеров и попросил разрешения уйти, но полковник сказал, чтобы он сел на свое место. Потом что-то прошептал адъютанту и приказал одному из офицеров позвать напарника Сергея. Через некоторое время распахнулись двери, и в проеме появилась массивная фигура Николая, тянувшего за собой пулемёт. На груди висели, связанные ремнем, пулемётные коробки.
— Ты зачем, Гусев, притащил пулемёт, ведь здесь не австрийцы, а русские?
— Ваше благородие, нельзя имущество без присмотра оставлять на улице, враз умыкнут, а здесь никто не посмеет, — ответил добродушный Николай.
— Мы все в этом больше чем уверены, — оглядывая богатырскую фигуру Николая, засмеялся полковник. Засмеялись и остальные офицеры.
— А теперь поставь его вон в тот угол, а сам садись за стол рядом со своим первым номером.
— Слушаюсь, ваше благородие!
В это время в комнату вошли несколько солдат, неся в руках всевозможную посуду с едой из запасов купчика, и стали расставлять её на столе. Появились и замысловатые бутылки с невиданными наклейками. Ни Сергей, ни Николай никогда подобного не видели и даже не догадывались о существовании среди выпивки такого разнообразия. Здесь были и водка, и коньяки, и шампанское, не говоря уж о всевозможных закусках на разрисованных тарелках. Когда присутствующие расселись за столом и наполнили бокалы, полковник, подняв свой бокал, встал и торжественно сказал:
— Лично от себя и от всего состава вверенного мне полка поднимаю этот бокал за тех, кто выполнил свой солдатский долг, будучи до конца верен отечеству и присяге! Ура, господа офицеры!
Вскоре о подвиге узнали сослуживцы. Слава Сергея и Николая, как опара на дрожжах, росла и ширилась. Об их подвиге говорили во всех отделениях и командах. Им приписывали такое, чего они и сами о себе не знали. Тем более, что нельзя было не верить этим слухам. Все же Сергей был первым и единственным рядовым — георгиевским кавалером во всем полку. Ему отдавали честь даже старшие по званию.
Тем временем, австрийцы, прорвав русский фронт, заняли несколько городов и сотни населенных пунктов. И только когда к нашим войскам подошли резервы, наступление противника удалось остановить. В этих боях русские понесли ощутимые потери, как в людях, так и в материальной части. Особенно большие потери были среди младшего командного состава, ибо именно они несли на себе основную нагрузку при обучении рядовых, а потом вели их в бой. Надлежало немедленно пополнить младшими командирами армию. Для этого стали подбирать из рядовых наиболее грамотных и отличившихся в последних боях. Одним из первых на курсы был зачислен Сергей.
Опять знакомый дарницкий лагерь под Киевом. С его приземистыми казармами, обширным плацем и даже с некоторыми прежними командирами. Сергей надеялся встретить среди курсантов и Хохла, но он словно в воду канул — ни духу, ни слуху. Живой ли? И снова рутина занятий и муштры. Снова подъем, гимнастика, изучение устава и закона БоЖьего. Очень тяготился он обязательным посещением церкви с ее нудными молитвами, молебнами и проповедями. Не терпел он и священника — отца Иосифа, безграмотно и бездарно проводившего занятия по закону БоЖьему. Сергей, благодаря бабушке Вере, хорошо знал святое писание и часто своими вопросами ставил отца Иосифа в неловкое положение. Так, например, он спрашивал священника:
— Вот, отче, в писании сказано, что Адам и Ева были первыми людьми на земле. Это правда?
— Истинно так, сын мой!
— Потом говориться, что у них родились дети?
— И это истинно так!
— Потом говориться, что когда дети подросли, то они пошли в другие страны и взяли себе жён?
— И это так!
— Но откуда взялись эти жёны, если Адам и Ева со своими детьми были первыми и единственными людьми на земле?
Отец Иосиф закатывал глаза, морщил лоб, долго думал и в таких случаях говорил: «Не богохульствуй, сын мой!». Но священник ни на кого не держал зла. Был отзывчивым, благодушным и миролюбивым, да еще частенько под градусом. В офицерском составе были люди временные. Одни из них отсиживались в тылу, боясь попасть на фронт. От других, под благородным предлогом, постарались избавиться в боевых частях. Кое — кого любвеобильные мамаши постарались за деньги устроить подальше от фронта. Но всех их объединяло одно — ненависть к своему положению, перерастающую в ненависть к тем, кого они обучали. Бесило их то, что здесь, на курсах, не было продвижения по службе, а тем более возможности получить награду, какой можно было бы удивить родных и знакомых, приехав в отпуск. И вдруг приезжает с фронта георгиевский кавалер. И не какой-нибудь, из благородных, а самый обыкновенный деревенский вахлак. Поэтому никто не стал интересоваться тем, за что Сергей получил Георгия, а вместо этого ему на своей шкуре пришлось испытать издевательства офицеров. Его до седьмого пота гоняли по плацу, старались загнать в угол каверзными вопросами по устройству оружия, требовали излагать наизусть уставы и положения, а так же безукоризненно стрелять по мишеням. Сергей, на свое счастье, обладал уникальной памятью и все, что он слышал хотя бы раз, оставалось в его голове навсегда. Отвечал на вопросы четко, грамотно, без смущения. Он чувствовал, что его знания не хуже, а даже лучше, чем у отдельных офицеров и поэтому держался с достоинством. Не заискивал, но и не зазнавался, был чужд гордыне. С товарищами ладил и всегда приходил на выручку. Все чаще и чаще к нему обращались за помощью, просили объяснить непонятное. Он не отказывал, и вскоре о его успехах узнало высшее начальство. Жизнь Сергея в корне изменилась. Узнав его, как грамотного и толкового солдата, вскоре определили помощником командира взвода курсантов и даже стали поручать проведение с ними отдельных теоретических и практических занятий.
Так продолжалось до окончания школы. За всё время учёбы Сергей не только получил необходимые знания, но научился спрашивать и отвечать за своих подчиненных. Наконец состоялся выпуск, курсантам были присвоены звания унтер-офицеров и выданы проездные документы. Сергей, за успехи в учебе, был удостоен звания старшего унтер-офицера.
Прибыв в часть, Сергей сразу же почувствовал, что назревают серьезные события. Бросалось в глаза большое количество артиллерии, пулеметов, лошадей и повозок, не говоря уже о солидном пополнении среди солдат и офицеров. В штабе его встретили приветливо. Полковника не было, и принял его штабс-капитан Кокорин, молодой, щеголеватый человек с ухоженными усиками. Он от всей души поздравил его с присвоением чина, пригласил Сергея к столу и присел сам. Затем откинулся на спинку стула и, не спрашивая об учёбе в школе, доверительным и задушевным голосом стал неторопливо говорить:
— Я не расспрашиваю о твоей жизни в школе, так как знаю ее не хуже тебя. Хочу поговорить с тобой сразу о деле. Не думай, что я буду поучать тебя, призывать к беззаветному служению царю и отечеству. Нет, унтер, я хочу рассказать тебе, что нас ждет впереди, и хочу, что бы ты это знал! Об этом тебе никто больше не расскажет, а я открою некоторые секреты, и сделаю это сознательно, ибо именно такие, как ты, будут решать судьбу России. Однажды ты уже проявил геройство при отступлении своей части, а теперь тебе придется проявить свою смекалку при наступлении. Это пока секрет, но, к сожалению, не для врага. Наверняка они, благодаря разведке, хорошо осведомлены о планах нашего командования, но их беда в том, что у них дефицит в людях. Кроме того, командовать нашим фронтом будет генерал Брусилов, умный и толковый военачальник, а это немало значит. Но и он приведет нас к победе только в том случае, если умело воевать и руководить людьми будут знающие свое дело командиры. Тут недавно про тебя вспоминали. Полковник решил, что бездарно придавать по пулемёту в каждую роту. Он предложил объединить пулемётные расчеты в отряды и сделать их передвижными, снабдив повозками. Таким образом попытаться создать несколько небольших мобильных подразделений для удара в нужном месте, а при необходимости использовать их и как щит. Поэтому ждали тебя, планируя поручить обучение одного отряда именно тебе. Полковник еще будет говорить с тобой, но ты, не дожидаясь его приезда, создавай себе отряд в количестве тридцати двух солдат, четырех пулеметов и десяти повозок. Людей, лошадей, повозки подбирай по своему усмотрению и начинай тщательно готовить людей к боям. Времени в обрез. Надеюсь, что задача тебе ясна, так что, господин старший унтер-офицер, за дело! Желаю удачи!
Штабс-капитан поднялся, протянул Сергею руку для пожатия и проводил его до двери.
Вернувшись из штаба дивизии, полковник в первый же день собрал офицеров и младший командный состав. Это было что-то новое, так как до него никто и никогда такого не делал. Он познакомил подчинённых с обстановкой на фронте, положением дел в полку и поставленной перед войсками задачей. Сергей многое уже узнал из беседы с Кокориным, однако слушал с большим вниманием, ожидая, что полковник сообщит что-то новое. Но не дождался. Полковник добавил, к услышанному ранее от капитана, что артиллеристы и пулемётчики будут теперь подчиняться непосредственно командирам батальонов и приказал усилить подготовку личного состава к будущим боям.
Прошло всего три дня, но Сергей успел сделать немало. Очень помогало то, что многих рядовых он знал в лицо, знал их сильные и слабые стороны. Сначала он подобрал толковых ездовых, поручил им отобрать хороших лошадей и исправные повозки. Хуже было с пулемётчиками, ибо других пулеметчиков, за исключением Николая Гусева, он не видел в деле. Пришлось проверить десятки людей на сообразительность, на знание материальной части и умение стрелять из пулемёта. На четвертый день отряд был сформирован, и началась изнурительная учеба. Сергей добивался от подчиненных автоматизма во владении пулемётом, слаженности между ездовыми и стрелками при развёртывании позиции, умения рыть стрелковые ячейки и пулемётные гнезда, маскироваться, и многим другим хитростям. Непонятно откуда возникла идея, что неплохо было бы научиться стрелять прямо из повозок, не снимая пулемётов на землю. Эта мысль Сергею понравилась, и он решил на свой страх и риск изменить изначально предложенную командирами тактику ведения боя.
Когда через две недели командир батальона, в окружении офицеров, пришел проверять боеготовность отряда, бойцы показали настолько необычную выучку, что проверяющие были поражены увиденным. По сигналу, на боевую позицию из-за пригорка, неожиданно выскочили четыре повозки с боевыми расчетами. Они мгновенно развернулись, и в сторону предполагаемого противника застрочили, установленные сзади пулемёты. Потом, опять по сигналу, мгновенно скрылись в лощине. Удивлению гостей не было предела. Сергей заметил, что большинство офицеров были шокированы этим новшеством и о чем-то, между собой, активно заговорили, пожимая плечами и разводя руками. Однако было заметно, что батальонного командира увиденное очень заинтересовало. Он наверняка понял, какой выгодой обернется новый прием в ходе боя.
Обычно для пулемётов оборудовали гнёзда и ждали, когда противник пойдет в наступление. До этого они бездействовали. При таком раскладе пулемёты играли свою роль только при лобовой атаке противника, а в худшем случае огневые точки накрывали ещё в ходе артподготовки и войска оставались без прикрытия. Одним словом, пулемёты использовались только в обороне. При атаке пулемётчики не успевали за атакующими бойцами, тянулись позади и не могли поддержать их своим огнем. Но если повозки с пулемётами внезапно окажутся впереди идущих в наступление, то пулемётчики своим появлением и неожиданным шквальным огнем воодушевят солдат и расчистят пространство для атаки. При обороне пулемётчики на повозках смогут вступать в бой далеко впереди за линией обороны и основательно потрепать ряды наступающих еще на подступах к позициям своих войск. Причем и в первом, и во втором случае, неприятель не сможет применить артиллерию. Все будет заключаться во внезапности и быстроте. Пулемётный отряд сможет даже пройтись по тылам неприятеля, ибо по нему нельзя будет стрелять из — за боязни убить своих.
О выдумке Сергея было доложено командиру полка и его вызвали к полковнику. Тот попросил рассказать обо всем подробно, внимательно выслушал, вникая в каждую деталь, и сказал, что хорошо бы внедрить такую новинку во всех пулеметных отрядах. Обучать другие отряды не пришлось. Пока шла штабная волокита, пока рядили и судили о необходимости переучивания, полк подняли по тревоге и выдвинули на передовую. В этот раз Брусилов сосредоточил на нужных направлениях большое количество артиллерии, конницы и бросил на прорыв обороны противника. Фронт был с ходу прорван в нескольких местах и враг стал поспешно отступать. В прорыв пустили конницу, которая не давала противнику зацепиться на промежуточных рубежах. Вот тут и проявилось преимущество мобильных огневых точек перед стационарными пулемётными ячейками. Отряд Сергея не ждал, когда на него нападет противник, а он сам нападал на него в нужное время и в нужном месте. Пулемёты Сергея, обычно внезапно оказывались перед носом противника, а иногда и у него в тылу. Причем отряд не отставал даже от конницы, а зачастую был и впереди неё. За это отряд окрестили «летучим». Забегая вперед, скажем, что эту тактику впоследствии успешно применяли в боях конники Будённого и батьки Махно, прославившие легендарные тачанки.
За какие-нибудь два неполных месяца войска Брусилова не только отвоевали все потерянные города, но разгромив группировку противника, вошли в Румынию. Несмотря на непрерывные бои, отряд Сергея не потерял ни одного солдата, ни одной лошади. За успехи в освобождении русских земель многие офицеры, младшие командиры и даже рядовые были награждены орденами и медалями. Был награжден вторым Георгием и Сергей. Но в Румынии Сергею не повезло. Вражеской разрывной пулей ему перебило обе руки.
Провожать Сергея на лечение пришли командир батальона, начальник штаба полка и сам полковник, не говоря уже обо всем личном составе отряда. Отвезли его в Киев, где врачи обработали раны и отправили Георгиевского кавалера в Москву, в элитный лазарет, который был под опекой самой императрицы Александры Фёдоровны. Кроме Сергея в палате лежат подпоручик Корольский, выходец из поляков. Он учился в Московском университете, но за какие-то неблаговидные проступки был из него исключен, арестован и отправлен рядовым на фронт. Служил он в армии Самсонова на Западном фронте. Когда армия потерпела поражение, его полк попал в окружение и командир полка приказал своим подчиненным на свой страх и риск отдельными группами пробиваться к своим. Корольский собрал вокруг себя пару сотен бойцов, оставшихся без командования, и повел их на восток. Шли по тылам противника, без еды и почти без боеприпасов, и все же, после изнурительного похода, вышли в расположение русских войск. Особая заслуга его была в том, что он, будучи ранен в руку и ногу, сохранил и вынес из окружения знамя полка, не бросил в беде бойцов. За этот героический подвиг был награжден Георгием и произведен в офицерский чин. О своих подвигах, спустя некоторое время, Корольский сам рассказал Сергею, не стесняясь в выражениях в адрес бездарных офицеров, генералов и даже царской семьи. Сергей рассказал о себе, но в отличие от Корольского, о своих командирах сказал только хорошее.
Лечил их доктор по фамилии Кроль, добродушный толстяк с копной седых волос на массивной голове. Это был знающий свое дело хирург. Знал он его основательно и лечил на совесть. Доктор отличался исключительной скромностью. Даже в дни посещения лазарета императрицей со своими дочками, старался не попадаться им на глаза, и в это время обычно принимался оперировать больных. Он не выпячивал своих заслуг в области хирургии и был целиком погружен в изыскания новых методов лечения своих пациентов.
Идеальная частота в палатах, пышные шторы на окнах, персидские дорожки, белоснежная постель казались Сергею после грязных окопов раем. Корольский же постоянно был недоволен, куда-то торопился, просил доктора выписать его и заметно нервничал. Однажды, выслушав очередное требование Корольского о выписке, доктор взял стул, грузно опустился на него и негромко обратился к своим подопечным:
— Вот что хочу сказать вам, молодые люди, а вы внимательно выслушайте старого человека. Война будет длиться не вечно, настанет и мирное время, когда каждому из вас придется заняться мирным делом, но позволят ли вам сделать это ваши увечья? Вас можно выписать хоть завтра, но вы на всю жизнь рискуете остаться калеками, поскольку раны только залечены, но не вылечены. Дело же всей моей жизни, дело чести и достоинства хирурга вылечивать людей и возвращать и в строй. Но одного только моего мастерства, опыта и умения мало. Нужно и ваше желание вылечиться. А так, без надлежащего лечения, ваши руки и ноги усохнут, станут короче, пальцы перестанут действовать, и вы не сможете не только воевать, но даже ложку держать. Уж поверьте мне, опытному хирургу. Вот у Сергея семья, которую необходимо кормить, а для этого нужно работать в поле. Какой же из него будет кормилец, если он не сможет запрячь лошадь, держать в руках косу и даже застегнуть ширинку. А вы, Казимир, такой молодой и красивый, будете всю жизнь проклинать себя за то, что не послушали меня. Вы, конечно, грамотный человек и найдете себе соответствующую работу, но не всякая девушка рискнет выйти замуж за калеку. Поэтому, молодые люди, пользуйтесь моей добротой, благосклонностью Александры Федоровны, и будьте благодарны судьбе, что лечитесь здесь. Зачем же вам из-за каких-то двух — трёх месяцев портить себе жизнь? Кроме того, я бы не советовал вам спешить на фронт, где вас если не убьют, то могут окончательно искалечить. Теперь хорошенько подумайте над моими словами, а завтра мы снова вернёмся к этому разговору.
Но ни завтра, ни послезавтра Корольский даже не заикнулся о выписке и, казалось, даже повеселел. С этого момента и началось его сближение с Сергеем. Казимиру надоело играть в молчанку, хотелось высказаться, вылить наружу то, что накопилось в его душе за последнее время, а в лице Сергея он нашел внимательного, терпеливого слушателя. Казимир был всесторонне образован, начитан и его поражала простота, наивность взглядов и представлений Сергея о жизненной действительности. День за днем он раскрывал глаза Сергею на окружающий мир со всеми его светлыми и темными сторонами. Объяснил ему суть войны, ее пагубность для страны и простого народа. Рассказал о царском дворе, о правительстве, о роли Гришки Распутина в политической жизни России. Раскрыл глаза на казнокрадство в высших эшелонах власти, о банковских махинациях. Говорил, что среди офицерства идут упорные слухи о предательстве в окружении царя. Он познакомил Сергея с историей России, делая упор на ее трагические стороны с дворцовыми переворотами, убийствами, борьбой за власть и трон, с бунтами, восстаниями и войнами. Коснулся вопросов экономики России и западных стран, рассказывал о жизни и быте народов мира. Впервые Сергей узнал, что в России действуют политические партии, которые хотят прийти к власти путем свержения царя и его правительства, обещая свободу, равенство и братство народам всей земли. К таким обещаниям Корольский относился критически, ибо, по его мнению, эти понятия, для всех людей одновременно, существовать не могут. Свобода, говорил он Сергею, существует только для богатых, равенство — для нищих, а братские отношения среди посторонних людей — это вообще бандитская идеология. Не советовал он верить обещаниям революционных партий о передаче крестьянам, в случае их прихода к власти, всей плодородной земли, тем более в России. Все эти обещания — сказки для неграмотных, забитых людей, которые верят даже в то, что есть загробная жизнь, поскольку в этой жизни им ничего хорошего не приходится видеть. Сергей, словно на чистый лист, записывал в своей голове все, что сообщал ему Казимир. Когда у них основательно поджили раны, доктор Кроль порекомендовал совершать ежедневные прогулки на свежем воздухе. Корольский оказался не только хорошим рассказчиком, но и знающим гидом. Они посещали музеи, храмы, побывали в Третьяковской галерее и даже в Большом театре. Общение с Казимиром и беседы с ним стали для Сергея своеобразным университетом, основательно изменив его мировоззрение.
Прошло четыре месяца после ранения и совершилось чудо. Доктор Кроль не только залечил их раны, но сделал всё, чтобы рука и нога Казимира работали нормально. У Сергея пальцы на руках все еще плохо слушались, но в них появилась сила, руки свободно сгибались в локтях, и пропали боли. Доктор выписал их из лазарета на Михайлов день. Он объяснил, что больше они не нуждаются в лечении, так как все, что требовалось от него, он сделал, и теперь полное выздоровление будет зависеть только от них самих. А для этого нужен ежедневный массаж и постепенное увеличение нагрузок. Как это делать они теперь знают по тем процедурам, которые принимают в последний месяц лечения. Доктор предоставил им полугодовые отпуска для поправки здоровья по месту жительства, пожелал здоровья и больше не попадать к нему в руки. Уже на вокзале, когда Сергей садился в вагон, Корольский на прощанье сказал:
— Послушай меня, Сергей Егорович! Поезжай домой, отдохни, а после забирай всю семью и переезжай в Москву. Мужик ты молодой, заслуженный, довольно грамотный. Поэтому работу всегда найдешь, а в деревне пропадешь и зачахнешь, как в болоте. Ты слишком честен и бесхитростен, чтобы жить в рутинном обществе, где зависть и ненависть соседствуют рядом. Всё это не для тебя, ибо ты многое повидал, много знаешь. Быть тебе там всю жизнь белой вороной!
До последних своих дней Сергей вспоминал эти слова Корольского, сожалея, что не послушался его совета.
В доме была все такая же скученность и убогость. Казалось, что не было ни войны, ни окопов, ни сияющей чистоты палат лазарета. Время в селе застыло в своем движении, не изменяя жизненного уклада, быта, привычек, взглядов людей. Все тот же теленок у печки, целый строй чугунов, огромная дежа с помоями и слепые окна с грязными стеклами. Сергею казалось, что время повернулось вспять, вернув его в далекое прошлое, от которого он давно отвык. Единственным изменением в семье было то, что подросли братья, вытянулись сёстры, заневестились. Бегала на неокрепших ножках дочка Мария, лепетала что-то на понятном только ей языке. Неизменной оставалась лишь бабушка Вера, которая по-прежнему была энергичной, шустрой и в здравом уме. Сергей, прослонявшись без дела по дому, хотел заняться работой, но отец категорически запретил ему браться за что — либо, заявив, что его братья и сестры уже достаточно взрослые, чтобы выполнять домашнюю работу. Тем более, что с полевыми работами давно управились, и нет необходимости в его помощи. А тут еще многочисленные родственники стали приглашать его в гости, да и просто знакомые старались заполучить в свой дом единственного в селе георгиевского кавалера. Чтобы их не обидеть, приглашения приходилось принимать. Кроме того, по вечерам в доме Пономарёвых собирались мужики послушать бывалого человека. Они расспрашивали Сергея о войне, интересовались, скоро ли она закончиться, что слышно о земле, чего можно ждать от будущего? И иногда получали такие неожиданные ответы, что голова от них шла кругом. С тех пор по селу стала распространяться слух о Сергее, как умном, грамотном и толковом мужике. Многие жители села и даже из соседних деревень шли к нему за советом, за помощью и даже просьбами написать им прошение или жалобу. Однажды в минуту откровения он заикнулся о переезде с семьей в Москву, но встретил такое сопротивление со стороны отца и особенно жены, что пришлось похоронить свою мечту. Время шло, в селе не происходило никаких событий, люди жили своими заботами, как их деды и прадеды. Иногда кое-кого призывали в армию и опять тишина. Руки основательно поджили, исправно действовали, и Сергей целыми днями хлопотал по хозяйству. Чистил навоз, поил скотину, колол дрова, носил воду и делал много других дел. Так прошло несколько месяцев, наступила весна. Вдруг, словно гром среди ясного неба, грянул слух об отречении от трона царя и создании в Петербурге Временного правительства. Мужики думали, гадали, как же они теперь будут без царя и решили пойти к Сергею, помня, что он в свое время говорил им о прогнившем царском строе, который вскоре должен развалиться. И вот когда это случилось, мужики решили выяснить, что теперь ожидать.
Сергей в этот день вернулся из Воронежа, где навестил сестру, потолкался на базаре и даже заглянул в ресторан. Ему самому хотелось разобраться в сложившейся обстановке, узнать, что же произошло в Питере. От людей он узнал, что царь отрекся от престола под давлением генералов в пользу своего брата Михаила, который в свою очередь тоже отказался от престола. Этим воспользовалась Государственная дума и поручила ряду депутатов создать Временное правительство, что и было сделано. Все, что он узнал в городе, рассказал мужикам. Они плохо разбирались в политике, во всех этих Думах, политических партиях и больше всего их интересовал вопрос о конце войне и о земле. Сергей объяснил просто, что хотя царь и отказался от престола, но Временное правительство состоит из дворян, богатых помещиков и фабрикантов, которые наживаются на поставках в армию, а поэтому война им ох, как нужна, да и какой дурак будет резать курицу, которая несет золотые яйца. Землю они тоже мужику не дадут, поскольку вся земля находиться в руках помещиков, то есть тех, кто заседает во Временном правительстве. Выслушав Сергея, мужики заключили, что новая власть — та же щука, но только видом сбоку, и разошлись по домам.
В мае 1917 года Сергея вызвали на комиссию, признали годным к воинской службе и направили в Москву в запасной полк. Очевидно, Временное правительство старалось собрать больше военных в столичных городах, как опору и защиту властей, на которую, при надобности, можно было вполне положиться. К своему удивлению, Сергей встретил в запасном полку несколько офицеров из своей части, которых хорошо знал, и его тут же назначили командиром пулемётного отряда при четырех пулемётах и тридцати рядовых. Только теперь в его распоряжении были не воинские повозки, а легкие, удобные рессорные брички, конфискованные у лихачей. Служба в полку шла ни шатко, ни валко. Офицеры редко появлялись в расположении части, и всё держалось на младшем командном составе. Занятия почти не проводились, солдаты бездельничали, иногда выпивали. Пришла осень, но всё оставалось по-прежнему. Никуда их не посылали, никто не трогал, словно забыли о существовании злополучного полка. Однажды солдаты, ходившие в город за табаком и водкой, принесли новость. В Питере вновь произошел переворот и теперь к власти пришли другие люди. Кое- что прояснилось, когда через несколько недель в полк прибыл комиссар с мандатом Совета Народных Комиссаров. Весь личный состав полка был выстроен на плацу и комиссар, низенький, худощавый человек в очках и кожаной тужурке, объявил, что Временное правительство низложено и арестовано, председатель правительства Керенский бежал, власть перешла в руки Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Теперь власть не у помещиков и фабрикантов, а в руках трудящихся. Сказал, что 25 октября состоялся съезд Советов, на котором было решено заключить всеобщий справедливый мир.
— Дорогие, товарищи! — говорил он, обращаясь к солдатам с новым необычным для них словом, — съезд объявил о конфискации всей помещичьей земли без выкупа и передаче ее в руки трудового крестьянства. Заводы и фабрики передаются рабочим. Отныне отменяются сословия, звания и всякие чины. Теперь вы вольны сами выбирать себе командиров, которым доверяете.
Комиссар еще долго говорил о разных постановлениях Совета и правительства, о новых решениях в социальной и политической сферах, но его плохо слушали, да и многое было непонятно. В заключении комиссар сказал о подписанном правительством мире с немцами, но добавил, что если крестьяне хотят наверняка получить землю, а рабочие заводы с фабриками, нужно сначала защитить эти завоевания от недобитых буржуев, а сделать это можете только вы, солдаты новой страны, во главе с нашим вождем Владимиром Ильичом Лениным. Практически всем было безразлично, кто там наверху — царь, Керенский, Ленин, лишь бы наступил мир и дали землю. Многие говорили, что если правительство заключило мир, то нужно ехать домой, а не торчать на задворках Москвы, когда в деревне землю делят. К весне 1918 года в полку осталось треть личного состава, а офицеров можно было сосчитать по пальцам одной руки. Подумывал и Сергей податься домой, но солдатский долг, самодисциплина удержали его в полку. Другая причина была в том, что он не мог изменить своему отряду, из которого, беря с него пример, не ушло ни одного солдата. Время шло, но остатки полка так и оставались в каком-то двусмысленном положении. Их по-прежнему не трогали, никто к ним не приходил, словно забыли. Правда, регулярно снабжали продуктами, но не более того. В начале мая к ним стало прибывать пополнение из рабочих Москвы и крестьян окрестных деревень. Прислали комиссаров и несколько офицеров. Полк основательно перетряхнули, сформировали подразделения, выбрали командиров. Комиссаром полка был назначен некий Цецарин, из бывших политзаключенных. Молодой, ладный и крепкий мужчина, с пролысиной на голове и умными голубыми глазами. Комиссары были назначены и в батальоны.
В июне полк подняли по тревоге, погрузили в вагоны и отправили на Восточный фронт, где его влили в первую армию под командованием Тухачевского. Полк разместился в пригороде Симбирска на берегу Волги. Вскоре полк понадобился. Командующий Восточным фронтом Муравьёв прислал приказ, в котором полку предписывалось немедленно войти в город, занять помещение бывшего кадетского корпуса и разоружить латышский и коммунистический отряды. Комиссар Цецарин, прочитав приказ Муравьёва, распорядился его не обнародовать, выждать и разобраться в чем дело, а сам поспешил в пулемётный отряд. Идя к пулемётчикам, он уже догадывался, что Муравьёв разослал подобные приказы и по другим частям, стал подтягивать их к Симбирску, готовя захват власти в Поволжье. Цецарин рассказал Сергею о зреющем мятеже и попытке командующего отделить от всей России территорию Поволжья, а в конце разговора попросил немедленно поднять по тревоге отряд пулемётчиков, занять здание губисполкома и постараться разоружить находившийся там отряд Муравьёва, который сторожил арестованное советское руководство Симбирской губернии. Он предупредил Сергея, что у здания губисполкома находится броневой отряд, на который можно положиться в этой операции, так как с командиром отряда имеется устная договорённость. Из разговора с комиссаром Сергей узнал, что Муравьёв, мечтая о создании Приволжской республики, по примеру Дальневосточной, считал, что солдаты, набранные из местных крестьян, создадут и защитят отдельную республику на своей родной земле. Первое время это удавалось. Кроме того Муравьёв рассчитывал на поддержку армии Колчака, которая, пользуясь слабостью Красной Армии, подходила к Волге. Остановить Колчака у Красной Армии не было сил и Муравьёв, не дожидаясь подхода войск, захватил здание губисполкома и арестовал представителей советской власти во главе с руководителем Иосифом Михайловичем Варейкисом. Вот Сергею и было поручено освободить арестованных, разоружив караул, а в случае оказания сопротивления — безжалостно уничтожить.
Прибыв со своею командой к губисполкому, он разыскал командира броневого отряда, о котором его предупредил Цецарин. Посоветовавшись, они пришли к выводу, что брать штурмом здание не имеет смысла, так как для этого у них мало людей, а от пулемётов караул надежно защищают каменные стены старинного здания. Командир броневого отряда сказал, что хорошо бы затащить внутрь хотя бы пару пулемётов и расстрелять находящихся на первом этаже бойцов Муравьёва. Сергею идея понравилась, и он предложил план захвата здания. Для этого Сергей со своим отрядом и пулемётами подходит к главному входу и докладывает начальнику караула, что их прислал Муравьёв в помощь, ибо намечается штурм. Когда бойцы Сергея окажутся внутри и прозвучат выстрелы, пусть бронеотряд выдвигается на площадь и занимает оборону. Поскольку других вариантов в голову не пришло, решили рискнуть. Но случилось то, чего Сергей даже не предполагал. На крыльце пусто, двери открыты, и пятеро бойцов вместе с ним свободно вошли в здание с двумя пулемётами, оставив остальных и два других пулемёта на улице. Обычно, даже в мирное время, при входе в государственные и воинские учреждения, стоит парный пост, а тут никого. Один пулемёт установили у двери, другой в начале лестницы. В обширном зале справа, человек тридцать из охраны явно изнывали от безделья. Одни сидели на полу и курили, другие за столом играли в карты, третьи слонялись по помещению, но никто не подошел к Сергею и не спросил, кто они такие и что им нужно. Он подозвал одного солдата и спросил, где начальник караула. Тот ответил, что, наверное, наверху и собрался уходить, но Сергей остановил его и сказал, что он командир пулемётного отряда, присланного самим Муравьёвым для подкрепления, и требует к себе начальника караула. То ли имя Муравьёва, то ли начальственный голос Сергея и два пулемета с пулеметчиками в придачу, но высказанное требование возымело свое действие. Солдаты зашевелились, а двое кинулись вверх по лестнице. Вскоре сверху, перепрыгивая через ступеньки, прибежал начальник. Его тщательно подогнанная одежда, до блеска начищенные хромовые сапоги, строевая выправка — всё выдавало старого вояку. Сергею стало непонятно, как этот опытный человек мог допустить такую халатность при охране порученного ему объекта. Начальник караула подошел и спросил:
— Это ты начальник пулемётной команды?
— Попрошу, — не ответил на вопрос Сергей, — доложить, как положено!
— Прежде, чем докладываться, я должен знать, с кем имею дело. Кто вы такие и кто вас прислал? Предъявите приказ!
— Смотри, какой бдительный, а где ты был раньше со своей бдительностью? Ты даже не догадался поставить часовых у входа. Двери не заперты и не охраняются, люди бездельничают. Вот представь себе, что меня прислал не Муравьёв, а Тухачевский? И что ты будешь делать под дулами этих двух и двух других пулеметов с бойцами на пороге? Что молчишь? Данной мне властью я вынужден тебя арестовать и отправить в штаб, а весь личный состав караула взять в свое подчинение. А теперь сдай оружие!
Начальник караула, было, попятился назад, но тут же был схвачен бойцами Сергея, разоружен и сопровожден в расположение броневого отряда. Когда начальника караула стали выводить в двери, Сергей заметил, что среди охранников началось еле заметное волнение. Он подал знак, и очередь из пулемёта ударила поверх голов караульных, сбив куски гипсовой лепнины с противоположной стены. Тут же в помещение ворвались остальные бойцы отряда, охрана была уложена на пол и обезоружена. А в это время Сергей с группой солдат уже поднимался вверх по лестнице, снимая часовых и отбирая винтовки. Сняв последний караул и войдя в довольно просторную комнату на втором этаже, он увидел длинный стол, за которым сидели несколько человек и вопросительно глядели на него с выражением тревоги на лицах. Сергей подошел к столу и спросил:
— Кто из вас Иосиф Михайлович Варейкис?
Из-за стола энергично поднялся человек невысокого роста, с пышной шевелюрой и смуглым лицом.
— Я Варейкис. В чем дело?
Сергей подошел к нему, подтянулся, приложил ладонь к виску и отчеканил:
— Товарищ, Варейкис! Я Пономарёв, командир пулемётного отряда, прислан комиссаром Цецариным для освобождения вас из-под ареста!
— Это хорошо, товарищ Пономарёв, но каким образом вы будете нас освобождать, если внизу целая рота вооруженной охраны?
— Извините, товарищ Варейкис, забыл доложить, что вся охрана арестована и разоружена. На часах теперь стоят верные мне бойцы, а около здания заняли оборону три броневика с экипажем. Так что, вы свободны!
Варейкис усмехнулся, подошел к Сергею, пожал ему руку и по-дружески приобнял его.
— Разрешите, товарищ Варейкис, идти?
— Нет, товарищ Пономарёв, разоружение охраны — это только полдела. Основное еще впереди и вы, как военный, нам еще пригодитесь. А теперь садитесь за стол, и будем вместе думать, что же делать дальше и как подавить мятеж.
— А что тут думать? — горячо заметил Сергей, — Нужно арестовать Муравьёва и вся недолга!
— Легко сказать, арестовать, а как это сделать, если у него несколько полков, а сколько за нас и сами не знаем, — проговорил Варейкис, обернувшись к присутствующим.
— Да, дорогие друзья, — продолжал он, — дела наши хуже некуда и нужно глядеть правде в глаза. Колчак, почти не встречая сопротивления Красной Армии, захватил Пермь, Уфу, Екатеринбург и скоро подойдет к Волге. Муравьёв выбрал для мятежа удобное время, понимая, что у нас нет силы, которую мы могли бы противопоставить ему. И все, что мы можем сделать в данный момент- арестовать Муравьёва, распропагандировать части Восточного фронта и подчинить их новому командованию. Но как это сделать не знаю, слишком мало у нас силы.
— Объясните мне, пожалуйста, — снова заговорил Сергей, — почему Муравьёв, командуя Восточным фронтом, вдруг поднял мятеж? Почему он держит вас под арестом?
— Вы, товарищ Пономарев, многого не знаете, — ответил Сергею Варейкис. — Муравьёв решил создать Поволжскую независимую республику и склонил к реализации этой идеи вверенные ему Советской властью войска. Но нужно, чтобы республику признали мы, её представители. Он уже неоднократно предлагал нам войти в состав его правительства. Мы, конечно, отказались, и тогда он решил посадить нас под арест, запугать, и тем самым добиться согласия.
Сергей внимательно выслушал Варейкиса, задумался, а потом проговорил: — Вы говорите, что Муравьёв предлагал войти в его правительство? Так? Дайте ему на это согласие, вызовите его на переговоры, а тут мы его арестуем и под трибунал. Я думаю, что он клюнет на хитрость и с радостью приедет сюда. Мы, к этому моменту, очистим здание от бывшей охраны и выставим свою. Думаю, что охрану Муравьёв сам лично не подбирал и в лицо никого не знает.
В это время отворились двери, и в комнату вошел Цецарин. Он всем пожал руки, представился и доложил Варейкису, что привел с собой еще целую роту красноармейцев. Варейкис поблагодарил Цецарина за успешную, как он выразился, операцию по освобождению членов Губисполкома из-под ареста и пригласил его за стол.
— Думаем, Валерий Владимирович, как нам нейтрализовать Муравьёва, — обратился к нему Варейкис. — Вот товарищ Пономарёв предлагает в сложившейся ситуации пригласить его приехать к нам и здесь арестовать. Как ты думаешь?
— А чего думать? Я шел сюда и хотел предложить то же самое. Тем более что такого случая может больше не представиться.
После ответа Цецарина сразу началось обсуждение и уточнение деталей операции. Решили, что арестованный караул нужно отправить в расположение полка, а по всему зданию поставить своих часовых.
— А не догадается ли он, что ему готовят западню, и не приведёт ли с собой войска? — спросил один из присутствующих.
— Нет, не приведёт, — убедительно ответил Цецарин. Во-первых, он убеждён, что вы находитесь под арестом и вас надёжно охраняют преданные ему люди, а во-вторых, он настолько уверен в своей силе, что посчитает позорным для себя идти сюда под охраной.
— А членов своего, так называемого правительства, он обязательно с собой прихватит, чтобы придать вес этим переговорам, — в тон Цецарину продолжил Варейкис.
— Так это же еще лучше! Не надо будет после собирать их по одному, — послышался чей-то голос.
— Считаю, что для отвода глаз их необходимо торжественно встретить, но, ни в коем случае, не дать выйти из здания, — обратился к Цецарину Варейкис.
Цецарин отозвал в сторону Сергея и спросил у него:
— Все часовые твои?
— Да, все! — ответил Сергей.
— Выставишь усиленный пост у входа в Губисполком. Поставишь ему задачу пропустить в здание делегацию, но никого назад не выпускать.
Цецарин с одним взводом увел арестованный караул, а Сергей выставил постовых и строго-настрого приказал пропустить только командующего с ближайшим окружением и больше никого. Если вдруг будут попытки ворваться, то применить оружие. Потом поднялся наверх и доложил Варейкису о готовности караула к приему.
Командующий фронтом и его приближенные приехали на тачанках в сопровождении двух десятков конников. Пока охрана привязывала лошадей, небольшая группа военных и гражданских во главе с Муравьёвым вошла в здание. Строгие, подтянутые часовые дружно приветствовали командующего, что явно льстило его самолюбию. Муравьёв уверенно вошел в зал заседаний и остановился, ожидая доклада. Варейкис встал, но вместо доклада вслух зачитал перехваченную телеграмму, в которой Муравьев приказал частям фронта прекратить огонь против белогвардейцев, и попросил объяснить, что происходит. Муравьев явно растерялся, а потом развернулся и бросился к дверям, но оказался лицом к лицу с вооруженными часовыми, которые объявили ему, что он арестован. Он схватился за наган, и тут, почти одновременно, сзади раздались два выстрела. Муравьев мертвым растянулся в дверном проходе. Тут же были арестованы и члены его правительства.
Так свела судьба бывшего унтер-офицера Сергея Егоровича Пономарёва с Иосифом Михайловичем Варейкисом, ставшего потом первым секретарем областного комитета большевистской партии Центрально — чернозёмной области.
После смерти Муравьёва мятеж вскоре был подавлен, и полк ничем другим, кроме патрулирования улиц города, не загружали. Сергей дал своим пулемётчикам отдохнуть, занятия с ними не проводил, считая это лишним, а сам скучал от безделья, не зная, куда себя деть. Однажды к нему пришел Цецарин и пригласил его прогуляться по городу. Сергей с радостью согласился и вскоре они уже шагали по живописным улицам Симбирска. Поднялись они на вершину горы, на которой в свое время была воздвигнута бревенчатая крепость с башнями и рвом. Глядя на это сооружение, Сергей заметил:
— Стоило ли тратить силы и средства, на так называемую крепость, если её можно не осаждать, а просто сжечь!
— А между тем, Сергей Егорович, за сотни лет ее не только не сожгли, но ни разу никто не смог взять. А попыток было много, начиная от кочевников и кончая Степаном Разиным. Именно под ее стенами Степан Разин потерпел свое поражение.
Потом они посетили нагорный бульвар Венец, откуда открывался живописный вид на Волгу. Здесь они присели на скамейку и долго любовались обширной панорамой и песчаными отмелями.
— Я, Сергей Егорович, позвал тебя сюда не столько для прогулки, а еще серьезно поговорить. Хочу тебе сказать, что дела на фронте у нас не то что неважные, а просто катастрофические. Мы говорим и пишем о Восточном фронте, а его нет. Нет даже боеспособной армии, которая находится только в стадии формирования. Колчак же собрал большие силы, без остановки движется к Волге и остановить его нечем. Он захватил Сибирь, Урал и практически все Приволжье. Колчаку противостоят лишь отдельные разрозненные отряды, которые он просто сметает на своем пути, да еще ему помогают чехи, завязывая боевые столкновения с частями Красной армии. Скоро он будет на Волге. Так что нам придется сдать некоторые поволжские города и бежать.
— Откуда они взялись, Валерий Владимирович, эти чехи? Вот все слышу, — Чехи! Чехи! — но не пойму, откуда они взялись в Сибири?
— Некоторые из них пленные, а большая часть отпущена немцами домой. В свое время немцы призвали в свою армию мужчин из Чехии, вооружили их и заставили воевать на своей стороне. При заключении Брестского мира немцы навязали условие, чтобы Россия пропустила чешский корпус через всю страну до Дальнего Востока, откуда они могут уехать домой.
— А почему немцы не отправили их прямо домой, ведь Чехия и Германия соседи?
— Я точно не знаю, но очевидно, чехи отказались сдать оружие, а немцы были не в силах разоружить эту армию. Вот они и спровадили чехов в Россию. Тем, конечно, надо было кормиться, как-то добираться до дому, и они силой стали захватывать поезда, грабить окрестные города и села, разоружать наши отряды и расстреливать командиров. Тем самым расчищать путь Колчаку.
— И много их, этих чехов?
— Представь себе, очень много. Их поезда протянулись от Волги до самого Дальнего Востока и уезжать из России особенно не торопятся, так как возможность безнаказанно заниматься грабежом и мародерством. Так что, Сергей Егорович, готовься к эвакуации из Симбирска советского правительства, которое тебе со своим отрядом придется сопровождать. Об этом пока никому ни слова. А теперь пошли домой!
И, действительно, прошло несколько дней, белогвардейцы прорвали жиденькие ряды Красной Армии и вышли к Волге. Симбирск пришлось оставить.
Началась эвакуация представителей Советской власти, которой руководил Варейкис. Уезжали пароходами вверх по Волге. На стареньком пароходе «Стержень» отбыл Варейкис со своими товарищами, а следом за «Стержнем» поспешал небольшой пароходик «Купец», на котором была разношерстная команда, в основном из революционных матросов Волжского пароходства. В пути это речное братство распустило слухи, что Варейкис с другими большевиками везут большую сумму денег из Симбирского банка и хотят с ними сбежать за границу. Было решено захватить «Стержень», забрать деньги и разделить, а всех руководителей перестрелять. Они не знали, что пароходы прикрывали с берега пулемётчики Сергея.
В канун отплытия транспорта, в пулемётную команду пришел Цецарин, собрал личный состав и поставил перед ними задачу охранять членов губисполкома. Для этого им было приказано ехать высоким берегом Волги, но на таком расстоянии от берега, что бы было незаметно для плывущих по воде. При этом не спускать глаз с пароходов и оберегать пассажиров от всяких неожиданностей в случае возможных нападений белогвардейских вооруженных формирований, отрядов разгульных анархистов, да и просто бандитов. Цецарин оказался прав, организовав тайное сопровождение. Стоило пароходам отойти от Симбирска на какую-нибудь сотню километров, как братва с «Купца» потребовала, чтобы пароход «Стержень» пристал к правому берегу и принял от них представителей для переговоров. Бойцов Сергея с пароходов было не видно, но как внезапно сблизились и пристали к берегу суда, c берега заметили сразу. В утренней тишине, по воде далеко разносились голоса, и весь шум на пароходах был хорошо слышен. Поняв, что назревает бунт, Сергей решил вмешаться и навести порядок. Он выгнал на край обрыва одну тачанку с пулемётом, приказал дать очередь в воздух и громко приказал всем замолчать. Для пассажиров пароходов это появление оказалось полной неожиданностью, и шум мгновенно умолк. Сергей продолжал:
— Я, командир пулемётного отряда Пономарёв, приказываю пароходу «Стержень» следовать дальше своим курсом, а «Купцу» стоять на месте до моего особого распоряжения!
Так как отряд до сих пор не показывались на глаза экипажам пароходов, то там посчитали, что слова Сергея являются бредом. Да и откуда здесь было взяться целому пулемётному отряду, если пассажиры до сих пор даже одного человека на берегу не заметили. Как только шок прошел, с «Купца» понеслись угрозы и сплошной мат. Сергей подал знак и тут же на берег выскочили остальные тачанки. Все четыре пулемёта сразу же предупредительно застрочили, поднимая вокруг парохода небольшие фонтанчики. Когда смолкла стрельба, на пароходе воцарилась гробовая тишина. Сергей прокричал:
— Эй, на «Купце», вот так уже лучше! И предупреждаю! Если сделаете малейшую попытку сняться с якоря, дам команду расстрелять ваш пароход. А теперь отдыхайте!
Так Сергей второй раз выручил Варейкиса в опасной для жизни ситуации.
В верховьях Волги команда Сергея влилась в созданную Алатырскую группу войск, которая позже участвовала в тяжелых боях за освобождение Поволжья от Колчака. В наступлении на город Буинск он был вторично ранен и, как нарочно, опять в руки. Одна пуля прошла навылет через правую, другая перебила нерв и раздробила кости левой руки. Направили раненого в лазарет Симбирска. Раны заживали неважно, пальцы свело, руки были словно деревянные, и совершенно не слушались. Однажды его навестил сам Варейкис, который поддержал его морально, пообещал выхлопотать пенсию и отправить на лечение в Москву. Свои обещания он выполнил и, когда Сергея отправляли в Москву, лично пришел проводить его и от имени Тухачевского вручил ему новенький маузер. В Москве его подлечили, но вылечить совсем оказалось невозможно, нужно было время. Руки в локтях сгибались, но пальцы не действовали. Ему выписали проездные документы и отправили домой. Молодой, полный сил мужчина, остался калекой, непригодным ни к какой физической работе. Выручала пенсия, которую ему назначила советская власть за заслуги в борьбе с её врагами. С тех пор на селе за ним укоренилась прозвище: Серёга — косорукий.
Очень тяжело переживал свое ранение Сергей. Нет, испытывал он не физические, а моральные муки. Он не мог работать физически, обслуживать себя, и приходилось жене ухаживать за ним, как за тяжелобольным. Она не только умывала и мыла его в бане, а одевала, обувала и даже кормила с ложки. Правда, братья и сёстры за это время повзрослели, так что работать по дому и в поле было кому, но сама мысль об инвалидности не давала ему ни минуты покоя. Между тем время шло, жизнь продолжалась, не считаясь с переживаниями Сергея. Пока он мотался по фронтам, вышла замуж Мария, старшая из сестёр. Вторая Мария, четырёхлетняя дочка, его копия, робкая и незаметная девочка, дичилась отца и не подходила к нему, а как хотелось ему взять её на колени и приласкать. Вторая дочь, Татьяна, уже твёрдо сидела в люльке, вполне осмысленно оглядываясь по сторонам.
Так и жил бы Сергей, поправляя здоровье, обласканный и ухоженный, но тут поднял бучу брат Никита, решивший жениться. К этому моменту ему исполнилось семнадцать лет, и он задумал избавиться от опеки отца. Егор Иванович долго отговаривал его от этого шага, просил подождать с женитьбой до конца войны, но все было напрасно. Егор Иванович был упрямым и непреклонным в своих решениях, но сын не уступал ему в этом, да и своим обличием уродился в отца. Был он небольшого роста, смугл, черняв, с карими глазами. Всегда куда-то спешил, был подвижен, непоседлив, дерзок. Не выносил замечаний в свой адрес. С детства был склонен к махинациям, вечно что-то менял, что-то приобретал, обманывал, за что и прозвали его — Шибай. Егор Иванович противился женитьбе сына не потому, что шла война, и не потому, что Пономарёвым не на что было справлять свадьбу, а потому, что ему не нравился выбор сына. В жёны Никита выбрал себе Фёклу, девушку из рода Рыбиных. Рыбины были, пожалуй, побогаче Пономарёвых и Егор Иванович не прочь был породниться с ними, но слишком худая слава шла о них на селе. Почему-то их считали придурками, а если о ком-нибудь на селе пустят слух, то это навечно. Главой семьи Рыбиных был Митрон. У него было четыре сына и две дочери, все рослые и физически очень сильные. Зная об этом, в селе никто и никогда их не трогал, боялись. Как и все сильные люди, они были добродушными, покладистыми, никогда не ввязывались в драки и были, по мнению людей, не от мира сего. Очевидно, это послужило той отправной точкой, которая дала возможность людям считать их недоумками. Не в пример другим, семья была трудолюбивая, успешно вела свое хозяйство, в доме был достаток и благодать. Но эта благодать длилась до женитьбы сыновей. Невестки, пользуясь добродушием мужиков, активно взялись за перевоспитание супругов на свой лад и по своему подобию. С тех пор в тихой и благополучной заводи дома Рыбиных начались ссоры и скандалы, что дало возможность людям окончательно убедиться в том, что все они с придурью. Ссору обычно начинали жёны, за своих жён начинали заступаться мужья, что зачастую приводило не только к скандалам, но и к дракам. Отец пытался примирить расходившихся сыновей, но часто заканчивалось тем, что сыновья, начав драку между собой, потом набрасывались и на отца. Однажды, в очередной драке, старший сын Иван схватил запасную оглоблю и ударил ей отца по голове. То ли оглобля была с трещиной, то ли голова оказалась на удивление крепкой, но оглобля сломалась, а отец устоял на ногах и смог разметать сыновей по двору, как котят. Однако с тех пор отец оглох, и вскоре его стали звать не иначе, как Митрон Глухой.
О силе Митрона рассказывали чудеса, хотя об этом можно было и не говорить, ибо чудеса совершались постоянно и у всех на глазах. Каждое утро Митрон запрягал мерина с сорокаведерной бочкой в телеге и ехал за водой в родник к Пристинку. Чтобы удобно было наполнять бочку черпаком, он снимал ее с дрог на землю, поближе к источнику и наполнял бочку родниковой водой. Потом брался за уторы и относил ее назад в телегу. В другой раз, сидя с мужиками на бревнах у дома Пономарёвых, он попросил соседа, по прозвищу Дымок, отдать большой дикий камень, лежавший на углу у дома. В свое время отец Дымка для каких-то надобностей привез его из карьера, свалил камень у дома, да так и оставил его лежать до лучших времен. Для погрузки и выгрузки ему понадобилось несколько дюжих мужиков. Когда Митрон попросил Дымка отдать ему этот камень, тот недолго думая, ответил, что не возьмет с него ни копейки, если тот сумеет один отнести этот камень до своего дома. Митрон встал, подошел к камню, поднатужился, поднял и понес. Еще был случай, когда Митрон ездил по своим делам в Воронеж, да припозднился. Хотя он не пил и не любил это занятие, но в этот раз был почему-то навеселе. Жеребец горячился, поминутно пытался уйти с дороги и в одну из этих попыток сани зацепились за пенек. Сколько Митрон не пытался заставить жеребца стронуться с места, все было напрасно. Он вышел из саней, взял жеребца под уздцы, но итог был тот же. Ему показалось, что жеребец показывает свой нрав и не желает идти. Митрон в сердцах ударил его кулаком между ушей. Жеребец сначала упал на колени, а потом повалился замертво на бок. У Митрона сразу прошел хмель. Он распряг жеребца, высвободил сани, уложил в них мёртвую тушу и, взяв оглобли в руки, привёз печальную поклажу домой.
Вот из этой семьи и хотел взять Никита себе жену. Была Фекла на целую голову выше суженого и весила, без малого, пять пудов. Чем она прельстила Никиту, для всех оставалось тайной. Как ни упорствовал Егор Иванович, но пришлось, скрепя сердце, справить свадьбу. Прошло не так много времени после свадьбы, и Никита исчез. Пропал в одночасье, никого не предупредив, никого не поставив в известность. Долго думали и гадали в семье, да и на селе, но так ничего и не придумали. Поговорили, посудачили и успокоились. Егор Иванович оставил сноху в своем доме, запретив уходить к родителям, тем более что Фёкла была на сносях. А исчезновение Никиты объяснялось просто.
В это время Будённый, преследуя остатки белогвардейского корпуса генерала Шкуро, остановился в селе на отдых, надеясь запастись кормом для лошадей и подкормить заодно своих конников. Воспользовавшись этим, казаки бесцеремонно шарили по ригам, амбарам, подвалам, выгребая все, что не успели очистить шкуровцы. В ту пору Пономарёвы в риге прятали, заложив снопами, пятилетнюю кобылу, на которую мужики возлагали большие надежды в будущем. Об этом не знали ни женщины, ни дети. Мужчины по очереди караулили её, кормили и поили только по ночам. Однажды вечером, какой-то подвыпивший казак, решивший поживиться кормом, случайно забрел в ригу Пономарёвых и услышал храп лошади. Он хоть и был под градусом, но сообразил, что хозяин не будет прятать старую клячу, и начал быстро разбрасывать снопы. Даже в полутьме он сразу оценил достоинства кобылицы. Взяв ее за недоуздок, казак собрался вывести лошадь во двор, но в этот миг на его голову обрушился удар ясеневой дубины и бедняга замертво свалился к ногам Никиты. Когда Никита пришел в себя, его охватил животный страх. Первым его желанием было сесть верхом на лошадь и скрыться из села. Но потом сообразил, что ехать опасно, так как в любой момент его могли перехватить разъезды. Хотел опять спрятать лошадь на старом месте, но подумал, что если нашел её один, то почему на нее не наткнется другой. А тут еще убитый казак — будут искать, найдут, и быть беде. Придя немного в себя, Никита сел на сноп, стал раздумывать и решил, что лучшим выходом из этого является запись в Красную Армию. Таким образом, он отведет от себя и семьи всякие подозрения. Потом достал запрятанное в снопах седло, оседлал лошадь, перекинул тело казака через круп и выехал из риги. На улице стемнело и он, крадучись, переехал гумно, пересек луг и выехал к реке. Здесь он бросил труп в воду и быстро поскакал в село. Он знал, что штаб Будённого в доме попа и отправился прямо туда. Когда он вошел в штаб, то первым кого он увидел, был Митька Лавлинский, его дружок и одногодок. Увидев Никиту, Митька расцвел улыбкой и спросил:
— И ты, Никита, решил записаться в армию?
— Как видишь! — с удивлением ответил Никита.
— Так ты его знаешь? — спросил у Митьки, стоявший у стола седоватый человек в полном военном снаряжении.
— А как же, это мой дружок, Никита!
— Тебе тоже нужен конь? — обратился этот человек к Никите.
— Нет! Я приехал на своей лошади и с седлом!
— Молодец! Пилипчук! — крикнул он в дверь.
На пороге появился высокий, стройный красноармеец т в походном снаряжении и стал по стойке смирно.
— Вот что, Пилипчук, возьми этих молодцов в свой эскадрон, выдай им обмундирование, поставь на довольствие, снабди оружием и всем, что положено.
— Им надо дать и коней?
— Да, но только одному, а другой приехал на своём. А теперь марш к себе и готовиться к походу!
Под утро конники покинули село, а вместе с ними Никита, так и не простившись ни с женой, ни с близкими.
Участвовал Никита в походе на Варшаву, где он не сыскал славы, но получил основательную закалку бойца, дослужился до командира эскадрона и вступил в партию большевиков. Когда конную армию Буденного перебросили к Перекопу, Никита попал под начало Миронова, командующего второй конной армией. В одном из боев его эскадрон дерзкой атакой в конном строю захватил батарею белогвардейцев и тем самым расчистил путь пехоте, что дало возможность на этом участке провести успешное наступление частям Красной Армии. За эту операцию он был представлен к награде. Орден Красного знамени к его гимнастерке, прикрепил сам Фрунзе. Вернулся Никита домой в 1920 году, где его встретила жена и маленькая дочка.
Окончилась Гражданская война. Кто остался в живых — вернулся к своим семьям, к своим заботам. Кто не вернулся — остались лежать в неглубоких могилах, наспех присыпанные землей, за которую они и отдали свою жизнь. Вдовушки, встретив вернувшегося с фронта чужого мужа, судорожно прижимались к пропитанной потом и пылью шинели, выли в голос по тому, который не вернулся и не вернется в свой родной дом. Они оплакивали не только мертвых, они оплакивали свою горькую бабью долю. Хорошо, если у такой бабы были отец и мать или свекор со свекровью, но многие из них жили одиноко с кучей ребятишек. И приходилось таким обездоленным взваливать на свои плечи всю работу по дому, да еще думать о хлебе насущном. А хлеба не было. Все, что добывалось тяжким ежедневным трудом, потом и кровью, выгребали войска и продотряды. С полным основанием можно утверждать, что Россию съела армия. А хлеб был нужен не только для еды и на корм скотине, но и для сева. А его не было. Нельзя было без содрогания смотреть на ежедневные похороны умерших от голода людей, на ходячие скелеты детей, стариков и взрослого населения. И хлынули толпы измождённых голодом людей на Украину, в Среднюю Азию, Сибирь и другие хлебные места менять холсты, юбки, кофты и даже одежду, припасенную к смертному часу, на кусок хлеба или пригоршню зерна. А в пути их поджидали болезни, грабежи, воровство и налёты банд. Те, у кого оставались небольшие запасы, пытались каким-то образом скрыть остатки зерна хотя бы для посева. Прятали в укромных местах, зарывали в землю, но чекисты из продотрядов давно раскусили хитрость крестьян, быстро находили тайники и подчистую выгребали припрятанный хлеб. Да хорошо, если бы только этим дело заканчивалось, а то нередко и расстреливали. Пономарёвы менее других пострадали в годы лихолетья. Когда шла гражданская война и в село входила Красная Армия, то Сергей предъявлял мандат, подписанный Тухачевским, где говорилось, что всем представителям советской власти предписывалось Пономарёва Сергея Егоровича, за особые заслуги перед Советской властью, не облагать налогами, а оказывать посильную помощь. Если же приходили белые, то он надевал два Георгия, встречал гостей и те, отдав честь, не трогали заслуженного унтер — офицера. А вот чекистам законы не были писаны. Они не обращали никакого внимания ни на заслуги, ни на семьи красноармейцев и выметали зерно у всех подряд. Бабушка Вера, опасаясь их неожиданного посещения, посоветовала Сергею зарыть несколько мешков с зерном на самом видном месте — в воротах, что и было сделано. Утрамбовали землю, присыпали пылью, несколько раз провезли по этому месту телегу и оставили лежать зерно до лучших времён. Сколько потом чекисты, из приезжавших в село продотрядов, не рыли двор, гумно, внутри построек, но ничего не нашли, кроме нескольких пудов зерна для посева. К тому же брат Никита на фронте сохранил кобылицу, на которой уехал на фронт, и после демобилизации приехал на ней домой, что в совокупности с двумя старыми меринами уже составляло внушительную тягловую силу в хозяйстве. А она, ох как нужна была в то голодное время. Гражданская война, тиф и голод выкосили миллионы людей. Народ обнищал до предела, во многих домах не было даже куска хлеба, не говоря уже о запасах зерна.
Война закончилась, а правительство все сильней закручивало гайки, продолжая посылать продотряды в деревни для выколачивания хлеба у голодных и нищих крестьян. Партийное руководство страны не понимало или не хотело понять, что страна разорена, разруха коснулась не только предприятий, но и сельского хозяйства страны. Ленин прямо заявил, что крестьянство — это мелкобуржуазная стихия, что эта стихия страшней всех Деникиных, Колчаков и Юденичей вместе взятых. Это говорил тот, который никогда не работал в поле, а всю свою сознательную жизнь занимался подготовкой государственного переворота, а затем и кровавой гражданской войны на своей родине. В итоге вся эта преступная политика привела к тому, что у людей лопнуло терпение, и они взялись за оружие. Восстанием были охвачены Черноземные губернии, Украина, Дон и Сибирь. Вспыхнуло восстание матросов в Кронштадте. Для подавления восстаний пришлось бросить значительные силы регулярной армии. Но партийное руководство страны вскоре убедилось, что военной силой нельзя победить народ и в скором порядке нужно менять всю государственную политику.
В 1921 году, в разгар крестьянских восстаний и повального голода, десятый съезд партии принял программу о переходе от военного коммунизма к новой экономической политике партии (НЭП). Большевики были вынуждены заменить продразверстку продналогом, и разрешили крестьянам сдавать государству только часть своей продукции, а излишки разрешили оставлять себе и свободно продавать на рынке. Прошло два года, и Россия была завалена продуктами. За эти два года Пономарёвы основательно встали на ноги. Выручили припрятанное зерно и три лошади. После роспуска армии многие крестьяне купили выбракованных в коннице лошадей. Купили лошадь и Пономарёвы. Егор Иванович поделился со своими братьями зерном и этим помог им выбраться из нужды. Как- то Сергей услышал, что пришел домой Хохол и отправился к нему в гости. Иван побывал на многих фронтах, уцелел и не был даже ранен, но Сергей застал его в полной растерянности. Семья бедствовала, перевелась скотина, давно не засевалась земля и питались, в основном, с огорода. Жена и две дочки смотрели на отца печальными глазами, в которых застыли и мольба, и надежда, и ожидание. Сергей в этот же день отвез ему немного зерна и, получив позже пенсию, помог купить лошадь.
Прошло семь лет с того времени, как Сергей вернулся домой после ранения. У него было уже три дочери и сын, народилось две дочери и сын у Никиты. Умерла мать, жена Егора Ивановича, но зато женился младший брат Яшка. Был он безобидным, покладистым и послушным сыном. Природное добродушие и желание всем помогать сделало его всеобщим любимцем взрослых и детей. Единственный раз в своей жизни он пошел против воли отца, выбрав себе в жены неприметную Дуняшу из бедной семьи Лавлинского Петра. Была она, как и Яша, тихой, покладистой и робкой женщиной. Она никому не перечила, молча переносила обиды, была покорной и старалась быть незаметной. Гражданская война ушла в прошлое, зарубцевалась память о не пришедших с фронта, подросло новое поколение, забылся голод, унесший в могилы почти половину населения села. Люди встали на ноги, успокоились, в домах появился достаток, и жизнь вошла в норму. Руки у Сергея основательно поджили, не мучили боли и судороги. Они свободно сгибались и разгибались в локтях. Пальцы правой руки вошли в норму и только на левой они оставались неподвижными, что, однако, не мешало ему работать физически. Приспособился. Егор Иванович выдал замуж дочку Прасковью за сельского кузнеца Володьку Пономарёва. Нет, он не приходился Егору Ивановичу родней, а просто был однофамильцем. К этому моменту в семье Пономарёвых насчитывалось восемнадцать человек: девять взрослых и девять детей. Изменился мир, изменилась жизнь, но люди не изменились. Как жили их предки, так они и продолжали жить. Весь уклад жизни, быт оставались прежними. Все та же грязь, неустроенность, насекомые довлели над людьми, но они даже не пытались исправить что — то к лучшему, а вернее всего не знали, как это сделать. Бабушка Вера пыталась, было, наладить быт своего семейства, но вынуждена была отступить от этой затеи из-за полного безразличия окружающих.
Ко второй половине двадцатых годов крестьяне залечили раны, крепко встали на ноги. Земли было достаточно, урожаи радовали. Значительно прибавилось скотины. Но с этим достатком появилась у крестьян и новая забота. Они не знали, куда деть хлеб. Хлебозаводы и элеваторы закупали только сортовые зерна, а откуда им было взяться у крестьян, если они веками культивировали только свои захудалые семена. Горевали и Пономарёвы. Никита побывал во всех местах, где можно было сбыть зерно, доехал до Ростова на Парамоновские мельницы, но там и своего хлеба некуда было девать. Сергей лучше других понимал сложность этой ситуации, зная, что ни взятки, ни высокие цены на зерно, ни случайная продажа не решает этой проблемы, тут нужно что-то другое. Он припомнил рассказы Корольского о ведении сельского хозяйства и земледелии в Западной Европе, в Америке, и решил последовать их примеру. Но для того, чтобы перестроиться по западному образцу, закупить инвентарь, приобрести семена и удобрения, нужны были деньги, и деньги не малые. Сергей прикинул, что если продать по хорошей цене все зерно и скот, то и тогда не наберется достаточной суммы. С отцом и братьями строить планы не было смысла, и он решил посоветоваться с бабушкой Верой. Выбрав время, когда в малой избе она осталась одна, он пришел к ней и рассказал о своей задумке. Бабушка Вера сразу же одобрила его планы и пообещала оказать ему посильную помощь. Кроме того, она пообещала привлечь к этому делу не только отца и братьев, но и дядей. Одному ему будет не только трудно собрать деньги, но и уговорить отца и братьев решиться на такой шаг.
— А пока, — сказала она ему, — ты никому об этом не говори, а поезжай на Воронеж, где, судя по газетам, проходит сельскохозяйственная выставка. Посмотри на новинки, поговори со специалистами, посоветуйся с ними, как и с чего начинать, а потом и поговорим!
Выбрав момент, Сергей подался в город. Побродив полдня по выставке, он познакомился с новинками сельхозинвентаря и ценами на него, элитными семенами пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса, даже пробовал их на зуб, а потом заглянул в отдел животноводства. Неожиданно он наткнулся на группу людей, явно интеллигентного вида, которые о чем-то оживленно разговаривали. По своему виду они никак не походили на крестьян, и его заинтересовало, что они здесь делали.
— Может быть, это начальство? — подумал он, и решил подойти со своим вопросом. И не ошибся. Случай свел его с заведующим Воронежской опытной станцией Нечаевым, на территории которой располагалась выставка. Когда Сергей подробно рассказал ему о своей задумке и попросил совета, тот внимательно выслушал его и, обратившись к своим спутникам, сказал:
— Ну что я вам говорил? Вот и ответ на ваши сомнения. К нам приходит крестьянин и просит продать ему не борону или плуг, а помочь ему наладить сельское хозяйство на базе новой технологии. Это уже что — то значит. Я уверен, что первая ласточка покажет путь сюда и остальным. Прошу всех пройти ко мне в кабинет, и расспросить подробнее нашего гостя о положении дел в деревне!
Кабинет располагался в одноэтажном деревянном домике из двух небольших комнат и тамбура. Войдя в дом, Сергей был ошарашен обилием всевозможных цветов, растущих из плошек и стоящих во всех возможных местах. Возле окна стоял стол под зеленым сукном, окруженный рядом стульев. Нечаев пригласил всех присесть, позвал секретаршу, пожилую женщину со следами былой красоты, и попросил приготовить чай. Когда все расселись, он обратился к Сергею:
— Вы сказали, что вас величают Сергеем Егоровичем? Так скажите нам, Сергей Егорович, что заставило вас обратиться к нам? Что вас заставило приехать на выставку?
Сергей задумался, пригладил волосы и ответил:
— Это долгая история!
— А мы не спешим! Ты вот попей чаю и расскажи все по порядку, нам все очень интересно!
— Если честно, то заставила меня земля!
— Как это так? — спросил один из присутствующих.
— В нашем селе, при царе, большая часть земли, причем лучшей земли, принадлежала барину Сомову. Остальное было поделено между крестьянами. Наделы выделяли только на мужиков. Вот тут и выходила накладка, ведь у одного бедолаги рождались одни девки, а у другого — одни мужики. А ведь девки тоже есть хотели, их надо было отдать замуж, готовить им приданное. И мыкал такой мужик нужду до самой смерти. А теперь барина нет, землю раздали крестьянам, да еще стали ее нарезать на всех едоков, а не только на мужчин. Вот у нас в семье было четыре мужика и шесть женщин, и хоть землицы маловато, но кое-как перебивались, не голодали. Сейчас в нашей семье живет восемнадцать душ и землю нарезали на всех. Хоть семья и большая, но призадумаешься, что делать с этой землей? Мужиков как было, четверо, так и осталось. Если при царе можно было принять батраков из малоземельных и безземельных мужиков, то теперь все получили землю и говорить о найме не приходится. Да и не выгодно использовать наёмный труд, если землю обрабатывать приходится по-старому — сохой, да деревянной бороной. Сеять из лукошка, косить серпами, молотить цепами, веять решетом. Так сколько для этого нужно рук и времени? Вот я и пришел к выводу, что без техники и научного подхода результатов не получить!
— И сколько же времени, Сергей Егорович, понадобилось вам, чтобы прийти к такому выводу?
— Задумался я о своей крестьянской судьбе давно, еще в отрочестве. Прочитал несколько книжек о жизни в деревне, что заставило меня иначе взглянуть на окружающую жизнь. Но ничего поделать не мог, и поэтому, в надежде на перемены в лучшую сторону, не колеблясь, встал на сторону большевиков. Воевал, был ранен. В лазарете случай свел меня с грамотным человеком. Был он из поляков. Жил в Германии, Франции, учился в Московском университете. Вот он и рассказал мне о жизни людей в этих странах, о том, как там занимаются сельским хозяйством. Да я и сам видел, как обрабатывали землю на полях барина!
— А теперь скажи, Сергей Егорович, много ли в вашем селе найдется таких мужиков, как ты? — Допытывался любопытный Нечаев, явно заинтересованный необычным собеседником.
— Да как вам сказать? — спустя некоторое время ответил Сергей. — Думаю, что с десяток найдется!
— Они тоже думают так же, как и ты?
— Трудно сказать, чужие думки — потемки, но я считаю, что и они задумываются, как быть дальше!
— А почему только ты приехал к нам за советом? Почему же другие не приехали с тобой, не последовали твоему примеру?
— Тому много причин. Во-первых, многие из них просто не знают, что проходит такая выставка, ведь они не читают газет, да и спросить не у кого. Из города к нам никто не приезжал, чтобы рассказать людям, как надо вести хозяйство. Вот и живут они по старинке, как жили их отцы и деды, а если учесть, что крестьянин недоверчив и подозрителен, то новое не сразу приживется на деревне. Во-вторых, цены. Я вот походил у вас по выставке, увидел цены, и волосы встали дыбом. Чтобы купить борону, нужно продать почти сто пудов зерна. А зерно сейчас стоит гроши, да никто его и не покупает. Зерноссыпкам, вынь да положи твердые сорта пшеницы, а где их взять, если испокон веку крестьянин обходился низкоурожайной рожью. Студент Корольский мне говорил, что крупные помещики выписывали посевной материал из-за границы, а потом высокосортное зерно туда же и сплавляли. Приводил пример, что саратовский хлеб специально закупали для английского королевского двора. Как-то давно мне попалась в руки брошюрка, где говорилось, что Россия вывозила за границу 20 % всего валового урожая пшеницы, 200 миллионов штук яиц, обеспечивала до 80 % всего мирового сбора льна. Правда, особой выгоды от этого крестьяне не имели, но государство копило валюту, имело возможности закупать за границей необходимые товары, вести строительство важных объектов для страны. Сейчас у нас зерна тоже полно, но продавать некому, вся торговля на нуле!
— И что же ты, Сергей Егорович, предлагаешь? — подзадоривал Нечаев, видя, что тот увлекся своим красноречием.
— Я понимаю, — разошелся Сергей, — что у государства нет средств, чтобы делать закупки, но их нужно найти любыми путями. Вот если у меня нет средств на что-нибудь, то я стараюсь их найти. Продаю корову, лошадь, овцу, свинью, бабьи холсты, ее приданое. Наконец, занимаю у соседа. Так неужели у государства нет возможности найти средства, чтобы помочь крестьянину? Не верю! Ведь у него золото, драгоценности. Нет средств — займите у соседей, но помогите крестьянам встать на ноги. Продайте ему в кредит необходимый сельхозинвентарь, обеспечьте его высокосортным зерном, породистым скотом и через два года этот крестьянин не только расплатится с государством по кредитам, но и наполнит казну валютой!
— Все о чем вы, Сергей Егорович, говорили, правильно и справедливо, — выслушав его, заметил Нечаев, — но нам с вами не дано право решать проблемы в масштабе страны. Вот у себя, на местах, мы обязаны внедрять самые лучшие приемы агротехники, учить крестьян культурному ведению хозяйства. Мы с коллегами и стараемся это сделать. На своей опытной станции совместно с сельскохозяйственным институтом работаем над выращиванием элитных сортов различных культурных растений, но база у нас невелика, да и сама работа требует длительного времени. И еще, как ты сам сказал, мужики — народ косный, недоверчивый, а для того, чтобы переубедить его, потребуется не меньше времени, чем для получения элитных семян. Вот и давай, Сергей Егорович, помогать друг другу. Одно дело, когда мужик просто познакомиться с достижениями опытной станции, другое, когда он своими глазами увидит то же самое у соседа через межу. Ну, Сергей Егорович, по рукам?
— Выходит, что я должен у себя такую же опытную станцию создать?
— Вовсе нет, работай, как работал, но от тебя потребуется применить в земледелии новую технику, новый семенной материал, и на деле показать своим соседям преимущество нового перед старым. Кстати, ты рассчитываешь на работу только одной семьи?
— Хоть нас и четыре мужика в семье, да и хозяйство у нас неслабое, но и нам не под силу будет купить всё необходимое. Поэтому я думаю, что необходимо привлечь к этому делу семьи братьев отца, а если получится, то я приглашу еще знакомых и друзей.
— Ну что ж, друзья, соловья баснями не кормят! — Нечаев повернул голову к присутствующим — Думаю, все убедились, что Сергей Егорович, человек дела, а поэтому мы должны в силу своих возможностей помочь ему, тем более что он сам первым обратился к нам. Он просил у нас совета, вот и дадим ему совет. В первую очередь ему нужно подобрать инвентарь. Если он думает для обработки земли объединить три семьи, то для этого им понадобится, как минимум, три двухлемешных плуга, три бороны, и хотя бы две пароконные сеялки. Это все для посевной кампании. Потом, позже, придется приобрести три веялки, две конные косилки и конную молотилку.
— Да если бы мы собрали деньги со всего села, то и тогда хватит на все! О чем вы говорите? — замахал руками и замотал головой Сергей.
— А ты, Сергей Егорович, не горячись! — усмехнулся Нечаев. — Я перечислил инвентарь, который вам будет нужен в первую очередь, но это не значит, что вы должны его сразу весь купить, можно приобрести и по частям. Я могу помочь тебе в приобретении некоторого количества элитных семян для посева, но за них тебе не придется платить. Проведем мену, баш на баш! Ты привезешь мне свое зерно, а я тебе дам свое. Правда, за два мешка твоего зерна я дам один и это потому, что мое зерно стоит в два раза дороже, чем твое. А вот насчет инвентаря нужно обратиться к начальнику облземотдела товарищу Базилевскому. К нему мы сходим завтра. У тебя есть, где переночевать?
— У меня здесь живет сестра!
— Вот и хорошо. Приходи завтра к девяти часам утра к памятнику Никитину, я буду тебя ждать, а сегодня я постараюсь попасть в облземотдел и подготовить наш завтрашний визит.
Наутро в небольшом кабинете на втором этаже Облисполкома их встретил Базилевский, крупный человек с заметной сединой, одетый в полувоенную форму. Он вышел из-за стола, пожал Нечаеву с Сергеем руки, жестом пригласил их присаживаться, а сам остался стоять на ногах.
— Прошу извинить меня, что не могу уделить вам много времени, вызывают в Обком, но я уже дал указание своему заместителю и главному бухгалтеру разобраться, оказать всякое содействие и дать человеку все, что ему нужно!
Базилевский в упор посмотрел на Нечаева.
— Поддержите его, ведь он создает кооператив, а за этим будущее! Насколько мне известно — это только первый шаг у нас в области.
— Но даже за минимум инвентаря ему придется выложить огромную сумму денег! — заметил Нечаев.
— А банк для чего? Он распух от денег, а крестьяне даже не знают о его существовании. Дадим Пономареву все, что ему нужно под наше поручительство, допустим, сроком на три года под пять процентов годовых. Я понимаю, что сроки жесткие, но если он толковый хозяин, то вытянет. А главное, если он справиться, то это будет примером для других. Но деньги ему на руки не дадим, все расчеты будет вести наша бухгалтерия, и рассчитываться за кредит он будет тоже с нами, а не с банком. Главный бухгалтер в курсе дела и всю документацию оформит от имени облземотдела. Весной пришлите в село толковых агрономов, чтобы они помогли наладить работу. А теперь извините за то, что оставляю вас, некогда. А вы, не откладывая в долгий ящик, идите к моим заместителям и оформите отношения!
Вернувшись домой, Сергей сразу же пошел к бабушке Вере. Он подробно рассказал ей о своей поездке в город. Кого там встретил, о чем говорил, что ему обещали, какие бумаги подписал. Одним словом, обо всем. Бабушка высказала свои опасения тем, что уж очень короткий срок кредита и, чтобы выплатить его в срок, придется хорошо поработать и потуже затянуть пояса. На это Сергей ответил, что Нечаев ему намекнул, что в случае чего установленный срок можно будет продлить. Бабушка Вера вышла из-за стола, тихо прошла по горнице, думая о чем-то своем сокровенном. Сергей невольно любовался своей бабушкой, которая в свои девяносто лет еще не выглядела дряхлой старухой. Потом она, словно очнувшись, подошла к столу, села на скамью и тихо заговорила:
— Я, Сергей, искренне поддерживаю твою мечту об обработке земли на новый лад — это похвально. Настало время работать по-новому. Но понимаешь ли ты все трудности, с какими тебе придется столкнуться? Заранее знаю, что не понимаешь. На этом пути тебе встретится столько камней и ухабов, что обойти их понадобиться много сил, терпения. Теперь, Серега, поговорим о деньгах. Конечно, при хорошем урожае можно поднатужиться и выплатить долги, но будет очень трудно. А если неурожай? Залезешь в кабалу и век не рассчитаешься. Надежды на одну родню никакой не питай, а поэтому приглашай в пай и посторонних мужиков. И чем их будет больше, тем лучше. Мужиков нужно пригласить серьёзных, работящих, многосемейных, лучше всего тех, у кого взрослые дети — мужчины. Если каждая семья внесет свой пай в общую копилку, то легче будет расплатиться с кредитом, а платить придется, ох как много. Я ведь читаю и знаю, что и сколько стоит. Вот пишут, чтобы купить ребенку карандаш, крестьянину необходимо продать пуд зерна, а ты задумал купить не карандаш и не ручку, а машины. Вот такие дела, внучек! Думаю, нужно пригласить свата Рыбина, свата Чульнева, кума Ивана Лавлинского и свата Попова, а там видно будет. Ты сам обойди всех, поговори с ними, но не открывай пока всех карт, не пугай их трудностями, а больше говори о выгодах совместной работы, о возможностях приобрести сельхозтехнику. Учти, что тебя люди уважают, и воспользуйся этим!
Этим же вечером в дом Пономарёвых стали собираться родственники и знакомые. Первыми пришли братья Лавлинские — кум Пономарёвых Иван Иванович и Николай Иванович. Хотя они были родными братьями, но между ними не было никакого сходства. Если старший, Иван, был среднего роста, плотного телосложения, плечист, и от всей его фигуры веяло какой-то первозданной силой, то Николай, наоборот, был высок, худощав, жилист, с красивым лицом, в отличие от брата, у которого и лицо, и голова были словно высечены из каменной глыбы. Потом появились младшие братья Егора Ивановича — Митрофан и Алексей. Первый был копией старшего брата: невысокого роста, худощавый, с небольшой бородкой и усами. Алексей же был выше среднего роста, с хорошо выбритым лицом, с кудрявой светло-русой головой и благообразным лицом. С гамом и стуком в избу ввалились Рыбины — три сына Митрона Глухого, все высокие, стройные, плечистые, от них так и веяло силой и удалью. Следом за ними в дверях показалась медвежья фигура самого Митрона. С приходом Митрона в избе как-то стало теснее, словно она уменьшилась в размерах. Его квадратная фигура, с плечами в косую сажень, сразу заполнила все пространство от дверей до печки. Дом у Рыбиных был обширней и выше, чем у Пономаревых и Митрон, остановившись посередине избы, окинул взглядом стены и потолок, словно убеждаясь в их прочности, и поспешил к задней стене. Последними пришли сват Попов Никанор и сын Митрофана Пономарёва — Симон. Оба низкорослые, худощавые. Никанор был по своей природе тихим, а тут при виде уважаемых людей совсем стушевался и поспешил забиться в угол. Симон, всегда деятельный и подвижный, ввиду своей молодости тоже держался тихо и старался не выпячиваться.
Мужики расселись по лавкам, скамейкам, некоторые сидели на корточках у печки. В плотной пелене дыма от цигарок, висевшей от пола до потолка, слышался приглушенный говорок. Ни детей, ни баб в избе не было. Кто был у бабушки Веры, кто гулял на улице, другие управлялись со скотиной, дабы не мешать серьезному разговору.
Разговор начал Сергей:
— Вы, наверное, хорошо помните нашего барина, хорошо помните и его поля. Кто из вас не завидовал его урожаям? А почему? Он обрабатывал землю не так, как мы. У него, в отличие от нас, был железный плуг, а отсюда и глубина пахоты. У него были так же железная борона, косилка, веялка и сеялка. Кроме того, он, несмотря на свою жадность, всегда приглашал агронома, а мы так толком и не знаем, как сеять и что сеять. У Сомова с руками забирали зерно, а мы не знаем, как его сплавить. Дело в том, что он сеял элитные семена и собирал отборное зерно, а у нас наполовину с половой. Я привел в пример Сомова не зря. Потому что жить так, как мы живем, больше нельзя, тем более так работать.
Сергей замолчал, боясь, что до мужиков не дошли его слова. Молчали и мужики, переваривая сказанное. Наконец, покашляв в кулак, заговорил Иван Лавлинский. Сергей обрадовался, зная, что друг не подведет и поддержит в любом случае.
— И что, Серёга, ты предлагаешь?
— Ну, в первую очередь, нужно закупить такую же технику, какую имел Сомов, не хуже!
В это время в избу вошел сват Григорий Чульнев с двумя сыновьями — Петром и Семеном. Все трое рослые, жилистые, словно сделаны на одну колодку. Поздоровавшись за руку с мужиками, они расселись, и Григорий спросил, обратившись ко всем присутствующим:
— О чем речь идет?
— Да вот, Сергей говорит, что нужно закупить новую технику, а старье сжечь — усмехнувшись, ответил Иван Лавлинский, — а как ты, Григорий, думаешь?
— Ты, Хохол, не смейся, я уже слышал об этом. Дело стоящее.
— Но Сомову присылали эту технику германцы, а кто нам пришлет? — Подал голос Егор Иванович.
— А нам германцы не нужны, — ответил Сергей. — Все, что нам нужно, имеется в Воронеже. Только что я приехал оттуда и все видел своими глазами. Мало того, если мы всерьез возьмемся за дело, то нам не только дадут все необходимое, но и заплатят за все, а мы будем должны отдать долг в течение трех лет. Даже обещали прислать агрономов, чтобы обучить нас правилам земледелия и даже снабдить элитными семенами.
— Свежо придание, но вериться с трудом! — съязвил Егор Иванович, — наобещают золотые горы, а потом в кусты.
— Ты, батя, никому и ничему никогда не верил, — вспылил Никита, — вот и ковыряй землю своей сохой, а мне надоело!
— Прошу всех успокоиться, — подал голос Чульнев, — Серега дело говорит, а поэтому нужно подумать и все обсудить.
Сергей помнил слова бабушки Веры насчет отца и боялся, что тот может испортить всю обедню. Ему хотелось привлечь на свою сторону Рыбиных, но они молчали. Его беспокоило, что сам Митрон плохо слышит и не все понимает, а сыновья, без его согласия, ничего не решают. Другие молчали потому, что не имели своего мнения и ждали реакции состоятельных мужиков.
— Серега, — спросил Григорий, — вот ты говоришь, что отдать долги за технику нужно в течение трех лет, а если будет неурожай? Как тут быть?
— Мне сказали, что если будем хорошо работать, но не сможем по каким-то, не зависящим от нас причинам, вовремя отдать долги, то нам продлят срок выплаты.
— А как быть с работой? Вот соберемся всеми, но семьи — то разные. У одних больше работников, у других больше или меньше земли, а как будем урожай делить? Поясни, дядя Серёжа! — спросил Симон и даже привстал с лавки.
— Вопрос правильный. Я долго думал об этом и отвечу, что ничего делить мы не будем. Сколько есть у кого земли, пусть она у них и остается. Мы создадим кооператив только для совместной обработки земли. Каждая семья будет убирать урожай со своей земли для себя. Сколько соберёт урожая, столько и засыпет в закрома. А вот пахать, сеять, косить и молотить будем совместно. Пока попробуем так, а там видно будет, толкач муку покажет. Сначала нужно привыкнуть помогать друг другу. В случае чего мы должны помочь любому из нас, если у него что-то случиться. Теперь вопрос о деньгах. Я считаю, что не нужно ждать три года, а сейчас же собрать, сколько сможем денег и сделать первый взнос, чтобы не влезть в кабалу.
— А как быть, Серёга, с долей взноса? Кто и сколько должен отстегнуть в общий котел? — подал голос Алексей Пономарев.
— Я, дядя Леша, знаю, что у всех, кроме тебя и свата Никанора, наделы приблизительно равны. Вот вы и вложите настолько меньше других, насколько ваши наделы меньше их наделов. Думаю, что это справедливо.
Сергей чувствовал, что идея совместной обработки земли заинтересовала большинство присутствующих, а это уже победа. Особенно порадовал вопрос дяди Алексея, отвечая на который, он всем доходчиво объяснил щекотливую проблему формирования начального капитала. Его беспокоили Рыбины, от которых пока не услышал, ни да, ни нет. И тут он опять вспомнил слова бабушки Веры, которая предупреждала о сложности в решении денежных вопросов. Как только разговор зашел о деньгах, мужики заткнулись, словно спрятались в улитку. Наконец Хохол сказал, что если так нужно, то он готов. Следом дали согласие Чульневы. Остальные, пока отмалчивались. Сергей прекрасно знал, что у всех хоть небольшие, но деньжата водились, но извечная подозрительность и крестьянская жадность перевешивали здравый смысл. В избе нависла тягостная тишина. Неизвестно чем бы все закончилось, если бы в избу внезапно не зашла бабушка Вера. Она поприветствовала мужиков, подошла к столу, поставила четверть самогона, а потом обратилась к внуку:
— Что, Сергей, зажались мужики? А ты ждал от них чего другого? Ведь наш мужик, что баран, упрется в ворота, ничем не своротишь. Вот они сидят и думают, а вдруг их обманут. Деньги отдашь, а как их потом вернуть? А вдруг будут неурожай? А вдруг его поле засеют плохо, вдруг последним? А вдруг у него урожай будет хуже, чем у других? И будут они думать и чесать затылки до тех пор, пока не расчешут их до крови. Придется нам, бабам, взять землю в свои руки и повести этих мужиков за собой!
Бабушка Вера замолкла, осмотрев насмешливо мужиков, потом достала из кармана юбки десять золотых двадцатирублевок и бросила их на стол:
— Вот мой взнос на новое дело и, думаю, не последний!
С этими словами она повернулась и бодро ушла к себе. Не успела она закрыть за собой двери, как в избу вошли три снохи Егора Ивановича и стали споро накрывать на стол. Мужики зашевелились и начали рассаживаться вокруг огромного стола. После первой рюмки начался обмен мнениями. То ли самогон, то ли блеск золота вдохновил мужиков, но они друг за другом стали давать обещания на участие в покупке сельхозтехники. Сергей сгреб золото в руку и протянул отцу:
— Быть тебе, Егор Иванович, теперь кассиром. Соберешь взносы со всех и запишешь в тетрадь, кто и сколько сумел внести задатка!
После долгих лет военного и голодного лихолетья природа словно сжалилась над горемычным крестьянством и подарила им несколько лет хороших урожаев. Крестьяне ободрились, воспрянули духом, и, казалось, даже посветлели лицами. Амбары ломились от хлеба, во дворах было тесно от скотины, да к тому же были мизерные налоги. Повезло и кооперативу. За два года они рассчитались с кредитом, да еще кое-что прикупили. Этому способствовало то, что они ввели правильный севооборот, тщательную обработку почвы, вносили удобрения, применяли современную технику и сортовые семена. В течение всего сезона радовали сначала глаз дружные и густые всходы, затем правильные ряды высокой нивы и, наконец, крупные, налитые золотом колосья. Причиной тому были не только дружная работа кооператоров и беззаветная любовь к земле, но и на первый взгляд, бескорыстная помощь со стороны заведующего опытной станцией Нечаева. Вначале Сергей так и думал, но потом убедился, что эта помощь не совсем бескорыстна. До него дошло, что начальство из Воронежа пытается превратить поля кооператива в своего рода филиал опытной станции и СХИ. Побывали у кооператоров не только Нечаев, но и профессор СХИ Минин, председатель Облземотдела Базилевский, не говоря уже об агрономе Дементьеве, который бывал частым гостем в деревне. Потом к ним зачастили мужики из соседних сел, дотошно допытывались до всех мелочей, восхищались урожаем, разнося весть по всей округе. Восхищаться было чему. У кооператоров урожай зерновых превышал урожай соседей в два-три раза, зерно было отборным и его с большим желанием брали государственные ссыпки и частники, а это было важно, ибо малопродуктивный и засоренный хлеб не находил сбыта. Правда, излишки хлеба позволяли держать больше скота, но мясо было так дешево, что производить его было не выгодно. И все же излишки хлеба позволяли крестьянину не думать о куске насущном. Как следствие благополучия, участились свадьбы, что не могло не сказаться на повышении рождаемости на селе.
Кооператоры, почувствовав преимущества коллективного труда, теперь не только совместно вели сев, косили, молотили, веяли, держали единый семенной фонд, но и стали совместно распоряжаться собранным урожаем. В первую очередь на каждый двор выделялось необходимое количество зерна на еду людям, на корм скоту и птицам. Излишки зерна, после засыпки посевного материала, шли на продажу, а эти излишки были внушительными. Кооператив обзавелся конной молотилкой, сеялками, в каждом дворе были плуги, бороны и веялки. Кооператоры богатели. К ним не только присматривались, но и стали проситься принять к себе. Против этого возражали все члены кооператива, и Сергей советовал приходившим к нему мужикам создавать свои коллективные хозяйства. Мужики вздыхали, чесали затылки, но ничего не делали. Кооператоры, в порядке взаимопомощи, помогали друг другу в строительстве, в заготовке сена, уборке овощей и во многих других крестьянских делах. По этой причине Алексей Пономарёв и Никанор Попов заявили о своем выходе. Все хорошо понимали, что им, семьи которых состояли только из двух человек, не было смысла тянуть ту же лямку, которую тянули многосемейные кооператоры. С ними согласились, но пообещали, в случае необходимости, оказывать помощь. Вместо выбывших, в кооператив были приняты Дымков Никифор и Попов Егор Яковлевич. Семья Дымковых была многочисленной, религиозной, работящей и не скандальной. Из этой семьи происходила жена Егора Ивановича, Домна. Одним словом, они приходились Пономарёвым сватами. Попов Егор был полной противоположностью Никифору. Слыл дерзким, неуравновешенным, никому не давал спуску и легко, если было нужно, пускал в ход кулаки. Об этом знали все члены кооператива, но против никто не стал возражать, поскольку Егор считался очень падким, даже жадным на работу и был женат на двоюродной сестре Егора Ивановича. Урожаи все эти годы были отменными, были высокими и доходы. Удалось повысить урожай не только зерновых, но и пропашных культур. Завели высокопродуктивный скот и птицу. Все это и дало возможность Егору Ивановичу быстро и без нужды отселить сыновей, Сергея и Никиту, построив им добротные дома. Расселились Рыбины и Лавлинские. Дымковы и Чульневы продолжали держаться за дедовские обычаи, жить большими семьями, а Попов Егор не делился потому, что два его сына были еще подростками.
Шел 1928 год. Став полноправным хозяином, Сергей обустраивал усадьбу и полностью погрузился в хозяйственные дела. Хотя его перебитые руки и давали о себе знать, он срубил конюшню, коровник, свинарник, амбар, курятник и посадил сад. Фасад украшали ворота и калитка, набранные из тёса в «елочку». Бессмертным спутником в его делах был сынишка Ваня. Хотя ему к этому времени исполнилось всего пять лет, но отец хотел уже с этого возраста приучать его к труду. Правда, помощник из него был слабенький, но отцу с ним было веселее, да еще их объединяла и мужская солидарность. Девчата были старше Вани, жили своими заботами и для отца интереса не представляли. Старшая Мария, тихое, робкое существо, была загружена по горло заботой о младших, уходом за скотиной и работой по дому. Вторая, Татьяна, была полной противоположностью Марии. Бойкая, шумная, за словом в карман не лезла и не признавала никаких указаний в свой адрес. Если её пытались заставить выполнить ту или иную работу, то эта затея всегда заканчивалась провалом. Всё делала только по собственному желанию, и находила тысячу причин, лишь бы не выполнить порученное. И приходилось бедной Марии отдуваться за двоих. За свой нрав Татьяне часто перепадало от матери, но сломить её характер, подчинить её своему влиянию мать так и не смогла. Самым незаметным и тихим существом в семье была третья дочь. К этому времени Анюте исполнилось семь лет и, по крестьянским меркам, она была достаточно взрослая, чтобы выполнять посильную работу. Как-то: нянчить детей, доить коров, носить из родника на коромыслах неполные ведра с водой и множество других работ. Мать хотела научить её выполнять некоторые обязанности, но из этого ничего не вышло. Она внимательно выслушивала наставления, не возражала, не отнекивалась, покорно соглашалась, но выполнять работу не спешила. Она так долго собиралась с духом, так долго и медленно спешила взяться за дело, что Дарья, женщина горячая в работе, в конце концов махнула на нее рукой, оставив ее в покое со своими тряпичными куклами. Жена Сергея, вселившись в новый дом и, освободившись от страха перед свёкром и бабушкой Верой, дала волю своему характеру. Выросшая в семье, где правил отец, державший всех в страхе и нужде, она боялась всего. Боялась темноты, собак, лошадей, боялась мышей, боялась всевозможных зверюшек и особенно людей. При этом она ненавидела свою трусость, а заодно и всех окружающих. А как известно, именно страх рождает жестокость. Дарья не была исключением из этих правил. Все, что накопилось у нее в душе за свою тридцатилетнюю жизнь, полную страха и самоунижения, она теперь с избытком выплеснула на голову мужа, начав осаду с мелочей, но методично. Старалась всячески унизить все его начинания и всё, чтобы он не делал. Ей не нравилась планировка дома, словно она до этого жила в тереме. Ей не нравились надворные постройки, хотя там, где она родилась и выросла, во дворе был один обвалившийся сарай. Пилила она Сергея за то, что при разделе ему достался самый паршивый скот, самая плохая сбруя, что он вообще рохля и бездарь. Попытки Сергея возражать ей и доказать, что она не права, упирались в стену насмешек и сарказма. Дарья прекрасно понимала, что Сергей не только создал кооператив, был его руководителем, но и пользовался всеобщим авторитетом, слыл грамотным и умным человеком, с которым советовались. Дарья решила покончить с ореолом славы мужа и стала методично внушать Сергею, что он не такой уж умница, что другие мужики умнее его. Они не лезут в начальники, а делают свои дела по-тихому. Каким бы ни был Сергей покладистым и терпеливым, но, в конце концов, не вытерпел, и начались скандалы. Он защищал мужскую честь и достоинство, она же, закусив удила, несла по ухабам и кочкам, прибегая к хитростям, на которые способны только женщины. И кончилось это тем, что в один из летних дней, когда кооператив управился с посевной, Сергей оделся и пешим подался в Воронеж.
Зеленя вдоль дороги радовали дружными всходами и ласкали глаза ровным изумрудным ковром будущей нивы. В другое время Сергей непременно зашел бы посмотреть посевы поближе, но сейчас его думы были заняты другим. К тому же, не успел он выйти за околицу села, как начал капать дождик и вскоре пошел как из ведра. Ветер усилился, его дыхание становилось резким и пронизывающим. Тучи серыми клубами все ниже и ниже опускались над землёй, потом они уступили место почти черному цвету, и небо превратилось в сплошную мглу. Когда Сергей дошел до опушки Сомовского леса, он промок до нитки. Ноги разъезжались по вязкому чернозёму, ветер дул в лицо, каждый шаг давался с трудом, но он шел с упорством обречённого, кипя злостью и обидой. В лесу ветер стих и только крупные потоки дождя непрерывно шумели в листве деревьев. Дойдя до Семилук и остановившись на развилке дороги, круто спускавшейся к Дону, он решил дойти до Ендовищ, где жил Павел Никифорович Приходько, по образованию и опыту работы агроном, который частенько помогал своими советами кооператорам. На дождь Сергей уже не обращал внимания, так как был мокрым с головы до ног. Спустившись по пологому спуску к селу и, не встретив ни души, быстро прошел мимо красивой, выложенной из красных кирпичей церкви, и зашагал к домику Павла Никифоровича. Хозяин словно ждал гостя, стоя на крыльце, прислонившись к дверному косяку. Он пожал Сергею руку и, ни о чём не спрашивая, жестом пригласил в дом. Видя, что гость основательно промок, хозяин достал из сундука сухую одежду и заставил Сергея переодеться. Потом вынул бутылку водки, налил полный гранёный стакан и подал гостю. Сергей выпил водку одним залпом, полез на теплую печь и тут же уснул. Павел Никифорович выжал мокрую одежду и расстелил её сушиться на горячие кирпичи печки. Сергей, проспав почти до вечера, встал свежим и бодрым. Дождь перестал, и на небе весело сияло солнце. Он послал хозяина за водкой и, когда тот принес бутылку, приготовили закуску и принялись за трапезу. Так продолжалось целую неделю. Сергей старался заглушить обиду и злость, но, как не старался, добиться этого не мог. С каждым днем повальной пьянки мутный осадок обиды только копился у него в душе. Под пьяную руку он рассказал другу о своих проблемах. Выслушав откровения Сергея, Павел Никифорович долго молчал, а потом ответил:
— Видишь ли, Сергей! Противостояние между мужем и женой существуют с тех пор, как существует семья. Когда вы жили в семье, то твоя жена терпела и боялась свёкра и свекрови, боялась пересудов соседей, боялась священника, и этот страх сковывал её волю. Вместе с этим копилась ненависть и злость к окружающим и, особенно к тебе, потому, что ты не ограждал её от замечаний свекра и свекрови, пересудов снох и золовок. А когда вы отделились, то вся ненависть вылилась тебе на голову. А как это делать, женщину не надо учить. Еще наш классик написал, что у бабы ум догадлив, на все хитрости повадлив. И если бабе попала шлея под хвост, то её ничем нельзя будет ни переубедить, ни доказать свою правоту. Недаром говориться, что спорить с бабой, это все равно, что носить воду решетом. Кроме того, если мужчины по своей психологии, по уму, развитию, по взглядам резко отличаются друг от друга, все они разные, то женщины все сделаны на одну колодку. Я прожил жизнь и не встретил ни одной умной женщины, ибо они думают не головой, а сердцем. У них абсолютно нет логики. Всё, что они делают, все их поступки подчинены не трезвому рассудку, а ежеминутному капризу. Есть анекдот, в котором свекровь, желая показать свою власть над молодой невесткой, замучила её придирками. Чтобы она не сделала, свекровь упрекала её, говоря, что всё не так. Однажды молодка не вытерпела и спросила: «Скажи, мамаша, а как надо делать?» И в ответ на это услышала: «Я сама не знаю как, но не так!» Вот и твоя жена не является исключением из правил. Дай ей время пожить без тебя. Жить можешь у меня, у меня никого нет, я бобыль!
Поблагодарив за предложение, Сергей отказался, а наутро, попрощавшись с хозяином, на попутной подводе уехал в Воронеж.
Прошло больше месяца после ухода Сергея, а от него не было ни слуху, ни духу. Мужики неоднократно ездили в Воронеж, искали его везде, но все было напрасно, словно в воду канул. По селу прошли слухи и пересуды. Особенно в этом деле старались снохи и золовки, мстя Дарье за ее вздорный и ехидный характер. Никто не осуждал Сергея, виня во всем только жену. Многие, злорадствуя, спрашивали у нее: «Что, мол, Сергей еще не приехал?» Наконец, она не вытерпела и, скрепя сердце, пошла к свекру. Егора Ивановича дома не было, и Дарья зашла к бабушке Вере поделиться горем. Та высказала ей все, что она думала о ней, не щадя ни ее чувств, ни гордыни. Сноха плакала навзрыд. У бабушки на лице не дрогнул ни один мускул, и она сказала, что нужно было плакать чуть пораньше, а теперь нечего зря распускать сопли. Иди домой, а я отправлю Егорку в город, чтобы привез Сережку, а сама не будь стервой.
Вечером бабушка Вера позвала к себе сына и объявила, чтобы он ехал в город, нашел Сергея и привез его домой. Егор Иванович пожал плечами и попытался объяснить, что его уже искали мужики, но не нашли. Где же еще он его искать будет?
— Твои мужики такие же тупые, как и ты, а поэтому поедешь в воскресенье на хлебный базар, найдешь там Ваньку Жандара. Спросишь у него, где искать Сергея, он и скажет.
Мудрая бабушка Вера знала, что советовать сыну. Иван Поляков или Ванька Жандар, родился и рос в этом же селе, в котором жили Пономаревы, а теперь обретался в Воронеже, где возглавлял шайку уголовников. Путь Ваньки в преступный мир был извилистым и непростым. Семья Поляковых жила недалеко от Пономаревых. Жили они не очень богато, но и не бедно. В одну из несчастных ночей, когда вся семья спала мертвым сном после трудового дня, загорелся у них дом, крытый соломой. Пока били в колокол, пока собрался народ, дом вспыхнул факелом, похоронив под обуглившимися бревнами всю семью. В живых от огромной семьи остался только Иван, бывший с лошадьми в ночном. Приютила его родная тетка Нюрка Полякова, сестра отца Ивана. Жила она бобылкой, была веселого нрава, разгульная и жадная до умопомрачения. Хотя жила она одинокой, но достаток в её доме был, и не хватало только мужских рук. И вот, если не было счастья, то несчастье помогло нежданно и негаданно. В доме появился работник в лице племянника. К тому же люди спасли скотину, которую Нюрка прибрала к рукам. Слыла она в селе, да и в округе первой самогонщицей и все прохожие и проезжие выпивохи в любое время суток могли утолить у нее жажду. За самогон она брала не только деньгами, но не отказывалась от продуктов и тряпок. Мужики несли ей кур, яйца, муку, пшено, сало, мясо, несли холсты из сундуков своих баб и даже подушки с валенками. Всем этим и объяснялся достаток в доме Нюры. Так как она круглосуточно была занята своим ремеслом, в перерывах пьянствовала, а после попойки отсыпалась, то вся работа по хозяйству свалилась на плечи Ивана. За все с него спрашивала строго, наказывала, а кормила впроголодь. Кроме картошки в мундире, да кислых, пустых щей Ивану не доставалось ничего, хотя погреб, кладовки ломились от мяса, сала, сметаны и других лакомств. А так как он рос и организм требовал еды, то он стал потихоньку приворововать. Сначала приноровился собирать в курятнике яйца, потом, когда тетка после попойки спала мертвецким сном, снимал у нее с шеи ключи, забирался в погреб и тащил оттуда сало, сметану и соленья. Не хватало ему только хлеба, ибо тетка не только вела строгий учет караваям, но и метила постным маслом каждую краюху хлеба. Но однажды тетка застукала Ивана в погребе, закрыла на замок ляду и продержала его там двое суток, очевидно рассчитывая отучить от воровства. Выпустив Ивана из погреба, она поняла, что допустила промах и чуть не порвала на себе волосы. За двое суток Иван основательно подъел сметану, опорожнил все горшки с молоком. Сало без хлеба много не съешь, но Иван, желая досадить тетке, пообкусывал все хранящиеся в погребе соленые куски и побросал их на земляной пол. Нюрка за это так выдрала племянника, что он не мог ни лечь, ни сесть. Однажды, выждав, когда тетка уехала в город на базар, Иван сложил в мешок продукты, одежду и обувь, облил углы дома керосином, поджег и, прячась от людей, подался в город. В Воронеже, поначалу, Иван просил подаяния, а потом стал воровать с возов на хлебном базаре. Вскоре его приметили воры. Поначалу его поколотили для порядка, но все же приняли в воровскую шайку. Здесь, под руководством опытных воров, он окончил с отличием воровской университет и стал опытным и хитрым грабителем. С годами Иван вытянулся, раздался в плечах, окреп, возмужал и налился силой. Век преступника не долог. Если не пристрелят во время налета, то сам зачахнет от частых побоев. Но Иван, ловкий в делах, сильный и отважный, постепенно, шаг за шагом, подбирался к вершине власти преступного мира города. Кличка Жандар, искаженное от слова жандарм, как не лучше характеризовала характер Ивана. Его уважали за риск и удачливость в делах. Даже ближайшее его окружение боялось расплаты, если плохо выполняли его приказы. Его знали в городе и боялись не только члены шайки, но и городские жители, и крестьяне со всех окрестностей. Вот к нему и послала своего сына за помощью бабушка Вера.
Егору Ивановичу повезло. Не успел он пройтись по базару, как увидел Жандара, который, заложив за спину руки, вальяжно шествовал между рядами многочисленных повозок, тесно прижатых друг к другу. Глядя на этого верзилу, Егор Иванович даже оробел, но помня наказ матери, собрался с духом и двинулся ему навстречу. Подойдя к нему, он поднял козырек фуражки и поклонился, словно встретил своего благодетеля. Жандар, улыбнувшись, крепко пожал его маленькую руку, а потом, узнав, раскинул свои клешни, и крепко прижав к своей груди голову Егора Ивановича, похлопал его по спине. Мужики и бабы, наблюдая сцену, поспешили припрятать за свои зады узлы и уздечки.
— Да, дядя Егор, давненько мы не встречались с тобой! — Весело проговорил Жандар. — Я, ведь частенько вспоминаю наше село, наших людей. Особенно бабушку Веру, которая и кормила меня, и обшивала. Как она там, жива ли?
Они нашли свободное местечко и продолжали разговор, словно закадычные друзья.
— А ведь ты, дядя Егор, не случайно встретился со мной, у тебя какое-то дело ко мне?
— Не случайно, конечно, Иван! — И Егор Иванович рассказал о своей заботе, о своей нужде и горе.
Жандар похлопал его по плечу:
— Твоему горю, дядя Егор, я постараюсь помочь. Ты приехал на лошади? И это хорошо, так как нам придется кой — куда проехать. Так что? Поехали?
— Ты, Иван, не сомневайся, я ведь могу заплатить!
— Ты за кого меня принимаешь? Я не забываю плохое, но помню и хорошее. Меня бояться и хорошо делают, но вы Пономарёвы и особенно бабушка Вера сделали мне столько добра, что не забуду до конца своих дней.
После этих слов Жандара, Егор Иванович посмотрел на него другими глазами. Он только сейчас заметил, что Иван был красив. Темно русые кудри кольцами спадали на сильную загорелую шею. Точёный нос, темно-серые глаза, обрамленные темными дугообразными бровями, упрямый подбородок выдавали в нем не только широкую душевную щедрость, но и упрямство в достижении своей цели. И только одно вызывала у Егора Ивановича недоумение — то, что Иван был одет очень бедно. Застиранная белая рубашка навыпуск, такие же штаны и огромные, грязные, босые ноги. Егор Иванович не знал, что весь этот маскарад был придуман Иваном для отвода глаз от его персоны. Он выдавал себя за босяка, а не грозного повелителя городского преступного мира. Между тем они проехали конный ряд, минули Новодевичье кладбище и выехали на просторную накатанную дорогу, ведущую к реке. Лошадь бежала бойко и скоро они запутались в паутине Чижовской слободы. Возле небольшого приземистого домика Иван приказал остановиться и спрыгнул с телеги. Он пригласил Егора Ивановича и, открыв низкие двери, вошел в сени. В маленькой комнатке Егор Иванович увидел несколько пьяных мужиков, но при появлении Жандара все, хоть и с трудом, но встали. На грязном столе, с остатками еды, громоздилась целая батарея пустых бутылок из-под водки. Жандар махнул рукой, чтобы сели и, указав пальцем на менее всех пьяного громилу, приказал:
— Клин, приведи Серёгу!
Тот быстро вышел в другую комнату и через минуту вернулся с Сергеем. Егор Иванович посмотрел на своего сына и не узнал. Перед ним стоял опустившийся человек, с опухшим лицом и явно с глубокого похмелья. Сын был одет в грязное исподнее. На нём не было ни рубахи, ни штанов, ни сапог, ни пиджака, словно он находился в бане. Жандар дал Егору Ивановичу немного полюбоваться и сказал:
— Клин! Все шмотки Серёге вернуть, одеть его, обуть и привести в божеский вид.
— Скажи, Иван, почему он раздет и разут? Почему он в таком виде?
— А потому, дядя Егор, что он всё проиграл в карты.
Вскоре Егор Иванович, Жандар и Сергей тряслись в телеге обратно в город. На хлебном базаре Егор Иванович хотел было распрощаться с Жандаром, но тот велел поставить лошадь во дворе трактира и предложил им перекусить. Егор Иванович с опаской и страхом въехал в довольно широкий и тщательно подметённый двор. Жандар легко и проворно спрыгнул с телеги. Бородатый, благообразный дворник в белом фартуке с метлой в руке с удивлением взирал на нахалов, без спросу вторгнувшихся в его владения. Узнав Жандара, дворник поспешно снял с голову картуз и низко поклонился ему, словно перед ним был не босяк, а глава города. Тот не обратил на поклон дворника никакого внимания, а только спросил, у себя ли хозяин? Получив утвердительный ответ, Жандар велел дворнику распрячь лошадь, напоить и накормить её, а потом знаком пригласил Егора Ивановича и Сергея следовать за ним. Войдя через черный вход в трактир, они увидели довольно чистое помещение, заставленное длинными деревянными столами, чисто выскобленными и вымытыми. Посетителей было не очень много, в основном работники базара. Не успели они войти в трактир, как некоторые посетители поспешно вылезли из-за столов и заторопились к выходу. Тут к ним поспешил половой в чистой белой рубахе, в плисовых штанах и тщательно начищенных сапогах. По тому, с каким добродушием половой встретил Жандара, было видно, что он прекрасно знал, кто перед ним, но ничем не выдавал своего знакомства. Он проводил их в дальний угол, усадил за квадратный стол, накрытый выутюженной белой скатертью с синими полосами по краям. Перед столом стояли не скамейки, а венские стулья. Пока гости рассаживались, половой на миг отлучился и тут же появился хозяин. Был он в годах, среднего роста, крепок телом, с румяным лицом, обрамленным аккуратно подстриженной бородой и пышными усами. Волосы на голове были аккуратно расчесаны на прямой пробор и все без единой сединки. Одет он был изыскано, а через весь живот из одного кармана в другой тянулась массивная золотая цепочка. К столу он подошел плавной походкой и, расцветая лицом, подал руку Жандару, потом Егору Ивановичу и Сергею.
— Давно, Иван, ты не наведывался в наше заведение, уже стал подумывать, а не случилось, что с тобой.
— А что со мной может случиться? — Не совсем ласково ответил хозяину Жандар. — Решил, Анисович, со своей родней навестить тебя в твоей берлоге, а поэтому прошу любить и жаловать. Давай, обслужи нас по первому разряду!
Хозяин сделал незаметный знак половому, который стоял в стороне и не спускал с него глаз. Тот тут же исчез и, спустя некоторое время, на столе появился графин с водкой, холодная заливная осетрина, холодец, овощная закуска, мягкий ржаной хлеб и яичница, приправленная салом. Потом пошли паровые котлеты, жареный гусь, фаршированный гречневой кашей, жареные куры и другие мясные деликатесы. О существовании некоторых поданных на стол блюд ни Егор Иванович, ни Сергей даже и не подозревали. Голод давно уже давал о себе знать и они, не ожидая приглашения, с ожесточение набросились на эти яства. Основательно выпив и насытившись, они откинулись к спинкам стульев и на некоторое время погрузились в сладостную дремоту. А Егор Иванович стал прикидывать в уме, сколько будет стоить эта еда и хватит ли у него денег, чтобы расплатиться с хозяином. Жандар, видя, что гости наелись, пригласил к себе хозяина и завел с ним какой-то непонятный разговор.
— А что, Анисович, не балуют у тебя весёлые ребятишки?
— Бог миловал! Недавно зашел Хлыст с братвой, подвыпившие все и начали куражиться. Я его отозвал в сторону и сказал, что пожалуюсь тебе, и он тут же увел свою компанию.
— Понятно, больше он никогда не зайдет к тебе!
Потом повернулся к своим спутникам и сказал:
— Ну, нам пора домой!
Жандар встал абсолютно трезвым, и пошел к выходу. Егор Иванович и Сергей последовали за ним. Лошадь была уже запряжена и ждала хозяина, нетерпеливо роя ногой землю. Жандар попросил Егора Ивановича дать трешку дворнику. Тот подал деньги и спросил:
— Иван, а как же быть с хозяином, ведь ему тоже надо заплатить?
— А вот это, дядя Егор, не твоя забота! Считай, что ты был у меня в гостях, а как известно, с гостя денег не берут. Он мне больше должен, чем я ему. А почему так, все равно не скажу. А ты, Серёга, поезжай домой и больше не чуди! Ты крестьянин, а не босяк и не урка. У тебя дети, жена, хозяйство — вот и занимайся. Брось пить и никогда не играй в карты. Мои шулера учатся этому мастерству с детства, и даже я, зная все их фокусы, не сяду с ними в очко играть. А теперь счастливого вам пути, предавайте от меня привет всем родным и знакомым, особенно бабушке Вере!
Он пожал им руки, повернулся, широкими шагами пересек улицу и вскоре затерялся в базарной толпе.
Выехав из ворот, Егор Иванович повернул лошадь вправо, но Сергей остановил его, сказав, что хорошо было бы подождать до вечера и не показываться днем на глаза людям. Егор Иванович не стал возражать и предложил заехать к дочери, сестре Сергея, которая жила неподалеку, рядом со Щепным базаром. Они пересекли Большую Московскую улицу и остановились у старенького двухэтажного домика, где на втором этаже размещалась семья дочери. Поставив лошадь во двор и, вручив рублевку дворнику, они по ветхим и скрипучим ступенькам поднялись на второй этаж. В квартире из двух проходных небольших комнаток их встретила Верка, обрадовалась, засуетилась, усаживая гостей. Потом захлопотала с обедом, но отец отказался, сказав, что они сыты и им нужно только отдохнуть до вечера. Зятя дома не было, не было и детей и они, убаюканные тишиной, быстро уснули. Разбудил их пришедший с работы зять. За окном сгущались сумерки, нужно было торопиться с отъездом. От еды гости отказались, и не потому, что было уже поздно, а потому, что не хотели выслушивать нравоучений, на которые был богат недалёкий, но претендовавший на ум зять. Попрощавшись с хозяевами, отец с сыном вышли во двор, запрягли лошадь, дали еще рублёвку дворнику и повернули лошадь к воротам. В это время выбежала Верка и вручила Сергею узелок с какими-то гостинцами. К селу они подъехали затемно, но к дому поехали не по Большаку, а пробрались тихими гумнами.
1928 год был на исходе. В тот год осень выдалась погожей, сухой, солнечной и теплой. Над убранными полями плывет серебристая паутина, переливаясь в лучах низкого солнца. Оно уже не жжет, как в июле, не разливает утомительного зноя, как в августе, а только блестит. Пустынны нивы и скот свободно, без присмотра, лениво бредет по вольным кормам, а с ним и пастырь, неизменный сельский пастух Ефимка Култышкин. Если перейти мост, перекинутый через сонную Ведугу, и подняться по крутому склону Пристинка, то перед вашими глазами откроется строгая и величавая степная даль в золотистых лучах заходящего солнца. Иногда однообразный вид этой равнины оживляется ярким изумрудом озимых, одиноким осевшим стогом, сиротливо приютившимся на краю луга или обвалившимся шалашом. Над селом стоит стон от мерных и частых ударов цепов. На гумне Митрофана Пономарёва стрекочет молотилка, гудят веялки. Люди молотят хлеб, отдают долги, запасаются на зиму продуктами, ремонтируют постройки, ибо крестьянину не на кого и не на что надеяться, кроме своих погребов и амбаров. Надо кормить себя, детей, скотину, кормить всю страну, которой всегда мало. А еще страна хотела, чтобы хлеб хранился не в амбарах крестьянина, а в «закромах Родины». И наполнять эти закрома большевики из Политбюро ЦК ВКП (б) решили поручить тем, кто всю жизнь не пахал, не сеял, не жал. Такой опорой на селе для партии стал Митька Жук-секретарь партийной ячейки.
Своей кличке — Жук, Дмитрий Степанович Лавлинский был обязан отцу, человеку безграмотному, недалекому, задавленному нуждой и беспросветной работой, хотя ни в его облике, ни в его повадках не было ничего жуковского. Был он светловолос, синеглаз, выше среднего роста, стройный, поджарый, быстрый в движениях. Пять дочерей, которыми наградила Матрена своего Степана, богатства в его дом не добавили. До революции землю на баб не давали, и крутился Степан на своем пятачке, перебиваясь с кваса на хлеб. Что только не делала Матрена, чтобы Господь послал им сына, но вновь и вновь рождались девки. Грешно было, но Степан с Матреной всякий раз в душе радовались, когда Бог прибирал очередную нахлебницу, лишний рот и заботу. Бабки — знахарки протягивали Матрену через хомут, запрягали в сани, сажали верхом на свинью, поили настоем из трав и куриного помёта, но она друг за другом родила одиннадцать девок, из которых в живых осталось пятеро. Наконец, спустя много лет, когда уже была потеряна всякая надежда, Матрена к удивлению всех родила мальчика. Родители не могли на него надышаться, а для взрослых сестер он стал игрушкой и забавой. И когда его сверстники пасли овец и свиней, ездили в ночное, пахали и боронили землю, Митька, обстиранный, обмытый и расчёсанный, беззаботно отсыпался на сеновале или печке. Учёба в школе ему не давалась и он, не окончив и двух классов церковно-приходской школы, категорически отказался ходить в неё. Дома все согласились с его мудрым решением, думая, что он будет хорошим помощником отцу, но, покинув стены школы, он не спешил ни в поле, ни в ночное. Шли годы безалаберного Митькиного житья. Так и рос он, ничего не делая, ничему не учась, словно репейник на меже. Но вот в 1919 году, к удивлению всего села, Митька ушел добровольцем в армию Будённого, проходившей через село. Вернулся Митька в конце 1920 года из Крыма лихим кавалеристом, в длинной до пят шинели с разговорами, в красноверхой кубанке, синими галифе с кожаными разводами, саблей и наганом на боку. Огорошенный блеском сына Степан, всю свою жизнь проходивший в разбитых лаптях, посконной рубахе и портах, развел руками и сказал: «Ну и Митька, ну и… жук!». С тех пор и пошло за ним по селу это прилипчатое слово, заменившее собой и фамилию, и имя, и отчество. Служба в армии сложилась для Митьки удачно. Заметив шустрого и симпатичного паренька, один из командиров взял его к себе денщиком. Поход на Варшаву закончился не кровопролитными боями, а беспробудной пьянкой, насилием и грабежами на польской земле. Брать Перекоп армии Будённого Фрунзе не доверил, заменив ее второй конной армией Миронова. Армия Будённого вошла в Крым уже после разгрома Врангеля с поручением произвести зачистку полуострова от отдельных групп белогвардейцев, дезертиров, бывших сильных мира сего, а так же купчиков и аферистов всех мастей. С этой задачей они справились блестяще, заодно основательно почистив карманы, баулы, повозки и дома арестованных. Потом начались расстрелы, которыми руководили пламенная Землячка и венгерский коммунист-интернационалист Белла Кун. За четверо суток было расстреляно более 70 тысяч воинов генерала Врангеля, представителей дворянства и интеллигенции. Все это время Митька исправно нёс службу. Обязанности денщика были разнообразными, но не утомительными: он должен был следить и содержать в исправности обмундирование своего начальника, его постель, ухаживать за его конём, заботиться о еде, а также обслуживать командиров и комиссаров, когда их приглашали в штаб дивизии. При походной жизни он целые дни бил баклуши, не любил своих обязанностей, но зато преображался, когда на совещания собирался командный состав, и жадно слушал их рассуждения, высказывания, набирался ума и разума. Ближе к окончанию боевых действий все чаще и чаще в разговорах начальства звучала озабоченность за свою будущую судьбу. Война подходила к концу, и каждый задумывался о дальнейшей жизни. Большинство считало, что война еще не окончена и что Красную Армию обязательно бросят вслед за остатками армии Врангеля, поскольку пролетариат Западной Европы ждет и не дождется ее прихода, чтобы покончить с акулами империализма. Многие из комиссаров и командиров говорили, что после разгрома Врангеля им дадут немного отдохнуть, набраться сил и тогда снова вперед — на Европу. Все эти рассуждения и мечты людей, оторвавшихся от реальной жизни, от народа, от земли и научившихся только убивать, находили благотворную почву в душе малограмотного и недалекого Митьки. И когда его демобилизовали, он был полностью уверен, что это только кратковременный отпуск перед решающими боями с мировым империализмом. Даже участвуя в кровавой расправе с обезоруженными пленными в Крыму, Митька по своей наивности считал, что эти бывшие русские крестьяне, волей случая попавшие не в красную, а в белую армию, и были гидрой империализма, которой он, Митька, своей твердой рукой безжалостно рубит голову. Возвратившись, домой, он тут же заявил отцу, что хозяйством ему заниматься некогда и ему, Митьке, еще предстоят впереди жаркие бои с врагами трудового народа. Из этих слов Степан вывел заключение, что его сын приехал только на побывку, махнул на него рукой и оставил в покое, тем более, что теперь с него, как с члена семьи красноармейца, не брали налоги. Мать украдкой вытерла слезу, а младшая сестра с мужем, жившие в родительском доме, были рады такому повороту дела, посчитав своего братца свихнувшимся раз и навсегда. Такого же мнения были и односельчане. Через некоторое время, не дождавшись мировой революции, Митька подался в уезд и там ему объяснили, что мировая революция откладывается на неопределенный срок, а пока нужно налаживать жизнь на селе. Оттуда он привез бумагу с печатью, которая гласила, что ему предписывается создать в бывшем имении барина Сомова коммуну из бывших батраков и беднейшего крестьянства. Уговорить голодных людей переехать в имение барина не представляло труда, тем более, что свои обещания он подкрепил конкретным делом, получив из каких-то фондов тридцать пудов ржи, две лошади и телегу. Заколотив свои хатёнки, люди с чугунками и барахлом потянулись к бывшим барским хоромам. Всего в коммуну записалось тринадцать семей: десять мужиков, семнадцать баб, шестьдесят восемь ребятишек. В конюшне у них лежало три лошади, четыре коровы, две овцы, а по двору ходило четыре десятка кур. Овец и кур коммунары съели на устроенном празднике в честь открытия коммуны с гордым названием «Вперед, к победе мировой революции!». Зима в тот голодный год выдалась лютая и снежная. Деревни вымирали сплошь и рядом. Голодом было охвачено 34 губернии России. Поели собак, кошек, не говоря уж о скотине, кое-где дошло до людоедства. Отец Василий не успевал отпевать усопших, хотя и сам от голодухи еле волочил опухшие ноги. К началу весенней посевной, когда ввели НЭП, коммунары съели и коров, и лошадей и семенной фонд, но зато, благодаря Митьке, спасся от голодной смерти весь цвет сельской бедноты, ставшей впоследствии его опорой и надеждой. С введением НЭПа, Митька вновь оказался не у дел. Мировая революция задерживалась, коммуна лопнула, крестьяне получили землю, трудились на полях и все перестали обращать внимание на Митькины выкрутасы. Да и как было не трудиться после долгой голодной зимы и более страшной весны 1921 года, если вся надежда у крестьянина была только на свои руки и будущий урожай.
Прошло некоторое время и люди встали на ноги. Завелся хлеб, а с ним и скот. Люди стали постепенно отстраиваться, жениться, рожать детей, и только Митька Жук все эти годы жил бобылем, словно одинокая былинка при дороге, обдуваемая всеми ветрами. Он по-прежнему не помогал отцу и жил на его шее, не ведая ни стыда, ни совести. Но даже ему, принципиальному тунеядцу, надоело садиться за отцовский стол. И он решил жениться. Стал Митька перебирать невест в селе и остановил свой выбор на Сашке, младшей дочери Егора Ивановича. До этого он никогда не встречался с ней, а видел только мельком. Да и вообще с девками не знался, ни за кем из них не ухаживал и они для него просто не существовали. А выбрал он потому, что была она красивой и статной. К тому же, из семьи зажиточных людей, которые должны были дать за невесту богатое приданое. Егор Иванович, считал Митька, не поскупится самое малое на корову, лошадь и несколько овец, даст немного денег, а там, глядишь, и дом построит. Однажды он заявил отцу, что надумал жениться. Степан, хлебавший пустые щи, поперхнулся, вытер ладонью губы, положил на стол ложку и уставился на сына выпученными глазами, словно перед ним возникло привидение. Когда до него дошел смысл сказанного, Степан в душе возблагодарил Бога за то, что тот наставил сына на путь истинный и что его сын, в конце концов, взялся за ум.
— Ты, что ж, и невесту приглядел?
— Приглядел, и давно. Хочу сватать Сашку Пономарёву, — ответил Митька и ударил ребром ладони по столу, словно отрубил концы своей холостяцкой жизни.
— Что ж, эта Сашка, чья будет? Чьих Пономарёвых?
— Чьих, чьих! Да Егора Ивановича, младшенькая!
— Что ж, девка она видная, красивая, все при ней, да и люди они самостоятельные, работящие, живут крепко, — словно рассуждая с самим собой, медленно перебирая слова, говорил Степан.
— Только, Мить, не отдаст Егор Иванович девку за тебя!
— Это почему же? Что я калека, урод? Рыло не красивое?
— Да нет, парень ты видный, только ты не от мира сего. Работать не работаешь, а занимаешься, черт знает чем, одно паскудство. Пономарёвы люди работящие и такой зять, как ты, им будет не ко двору.
— Хватит скулить! Ты бы лучше приоделся, вечерком сходил бы к Пономарёвым, да закинул бы крючок насчет сватовства, а то, не изведав броду, сунемся в воду.
В одно из ближайших воскресений Степан в новых лаптях и чистых онучах, пригладив лампадным маслом жиденькие волосы на голове, направился к Пономарёвым. На высоком крыльце тщательно поскреб лаптями доски пола, хотя на улице было сухо, тихонько вошел в дом. Пономарёвы как раз ужинали. Из большой глиняной миски, стоящей посередине стола, поднимался вкусный запах наваристых щей. Степан, войдя в избу, снял с головы рыжий картуз, перекрестился и поздоровался с хозяином. Егор Иванович пригласил его к столу. Он долго отнекивался, но дал себя уговорить и присел на краешек скамейки. Фёкла передала ему деревянную ложку, предварительно вытерев её фартуком. После ужина, поблагодарив хозяев за еду, Степан пригласил Егора Ивановича на пару слов. Они вышли на крыльцо, присели на скамейку, закурили, и Степан изложил хозяину суть своего прихода. К удивлению и радости гостя, Егор Иванович отнесся с вниманием к его предложению, но сказал, что это нужно обсудить в семейном кругу и спросить согласия у дочки. Степан, окрылённый словами Егора Ивановича, помчался домой, не чувствуя под собой ног.
Когда стемнело, зажгли лампу, и вся семья собралась в большой избе, Егор Иванович рассказал им причину прихода Степана. Младшая сноха Дуняша фыркнула, зажала рот ладонью и выскочила в сени. Старшие снохи переглянулись, улыбнувшись, но не стали смеяться, боясь гнева свёкра. Никита, куривший у печки, покачал головой, бросил цигарку на пол, растоптал ее сапогом и насмешливо сказал:
— Он, что ж, в коммунию её поведёт, аль как?
— А ты погоди зубоскалить, тут дело серьёзное, — оборвал его отец.
— Да уж куда серьёзней, — не унимался Никита, — а кто их кормить будет? Может быть, Стёпка? Или мы будем выделять им осьмину с урожая? Он в поле ни разу не был и отец до сих пор его кормит, а тут еще жену приведёт. Так лучше уж сразу выдадим Сашку за Степана!
— Пахать и сеять не такая уж сложная штука. Приведёт жену, остепениться, возьмётся за ум, ведь жена — не хомут, а шею трёт.
— Ну, батя, пойми сам, что гусь свинье не товарищ. Мы, Пономарёвы, и — Митька Жук. Да мы станем посмешищем в селе!
— Мы, мы, Пономарёвы! — Передразнил Никиту Егор Иванович. — Что, мы? А чем Стёпка хуже нас? Мужик он работящий, а что его нужда заела, то это не его вина, а его беда. При былом безземелии не каждому было дано прокормить и отдать замуж пять девок, а все они живут ладно. Вон недавно опять построили дом дочери. Вы лучше посмотрите на себя и своих жён. Они из каких семей? У Дарьи отец — пьяница и бабник, свою жену в гроб загнал. Фёкла, правда, из работящей семьи, богатой, но их, Рыбиных, все считают придурками. А про Дуньку и говорить нечего, ее отец так и не научился плести лапти, сбруя вся верёвочная, а дуга вечно лежит у лошади на спине. А вот Верка вышла замуж за балбеса, и ничего себе живут, аж в Воронеже. Городские, мать их! Маруська с Парашкой замужем не за королевичами, а тоже живут хорошо. А у Стёпки в роду дураков не было!
— Если не было, то мы будем первыми, — в сердцах выпалил Никита, сплюнул и добавил:
— Вы как хотите, но я — против, и на эту собачью свадьбу не пойду!
Он еще раз плюнул и вышел из избы, хлопнув дверью. В избе повисла гнетущая тишина. Мужики, молча, курили. Снохи, загнав детишек на полати, стали стелиться. Первым нарушил молчание Егор Иванович:
— Вы видели, как взъерепенился Никита? Я знаю его задумки. Ему бы, Шибаю, сейчас разделиться, пока Сашка еще не замужем, и прихватить её приданное. Он знает, что её я не обижу и наделю хорошо, да и сама свадьба станет в копеечку. Кроме всего прочего нужно думать, что Митька — секретарь партячейки, а это что-нибудь да значит. Вот в газетах только и пишут о партиях. Троцкого выгнали, НЭП прикрыли, того и гляди возьмутся за нас, а Митька, будь нашим зятем, при надобности как-нибудь пригодиться.
— Ну, как знаешь, батя, я в этих делах тебе не советчик!
Сергей встал, подошел к двери, снял с крюка фуражку и пошел на двор посмотреть скотину.
Прошло время, Степану было дано знать, чтобы слал сватов. Сватом пошел Иван Хохол. В свахи взяли Домну Жилякову, бабу языкастую, веселую, сосватавшую чуть ли не половину всех невест на селе. Шествовали они как-то вразброд, каждый сам по себе. Домна все куда-то торопилась, то забегала вперед, поджидая остальных, то вновь рвалась вперёд и без умолку тараторила, не заботясь о том, слушают ее или нет. Хохол, с вышитым полотенцем через плечо, выбритый, в хромовых сапогах с галошами, шёл размеренным шагом, держась с достоинством. Рядом с ним шел жених в постиранной гимнастерке, в галифе, в начищенных сапогах и неизменной кубанке с красным верхом на светло-русой голове. Замыкал шествие Степан. На нем была чистая рубашка, сверху приличный пиджак, такие же штаны и новые лапти с чистыми онучами. Он шел, нагнув голову, словно стесняясь, держа под мышкой четверть с самогоном. День был воскресный и выдался на редкость теплым, тихим. Многочисленные зеваки с интересом провожали взглядом сватов и разбирали по косточкам странное, по их мнению, сватовство, предсказывая, что ничего из этого не получиться. Но вопреки всем предсказаниям сватовство состоялось. Егор Иванович дал согласие на брак дочери с Митькой и даже назначил свадьбу на покров. Правда, поговаривали, что невеста не вышла к сватам, сославшись на болезнь. При сговоре не присутствовали братья и у них не спрашивали согласия, что, по приметам, не сулило ничего хорошего. Егор Иванович заверил сватов, что это блажь девичья, скоро всё пройдет и нужно готовиться к свадьбе. И подготовка началась. В помощь снохам Егора Ивановича были приглашены бабы кооператоров. Он ничего не жалел для младшей дочери, стараясь пышной свадьбой заслужить её благосклонность и сгладить напряженность в отношениях. День и ночь гнали самогон, жарили молочных поросят, кур, варили холодец, жарили гусей, фаршированных яблоками и гречневой кашей. Из лучшей муки пекли пироги, варили лапшу. Забили бычка и несколько овец. Пригласили всех, кто хотел прийти. Столы и скамейки были расставлены в большой и малой избе и даже в сенях. О свадьбе говорили в каждом доме, у колодцев и на завалинках. Егор Иванович предложил справить свадьбу в доме у Пономарёвых. Одна только невеста ни на что не обращала внимания, ни словом не обмолвилась о свадьбе, словно вся эта кутерьма поднялась не ради неё. В день сватовства, в разговоре с отцом, она заявила, что ни за что не сядет за стол с Митькой, но теперь успокоилась, держалась ровно, без напряжения. Успокоился и Егор Иванович, глядя на её поведение без слёз и капризов.
В канун свадьбы, ранним утром, когда весь дом спал непробудным сном после трудового дня, Сашка встала, оделась и взяла узелок с бельем. Зайдя в большую избу, сняла с крючка ключи от амбара и вышла во двор. Ей навстречу кинулся огромный пёс, по прозвищу Волк, и положил свои лапы на плечи, перепугав Сашку до смерти. Придя в себя, она почесала его за ухом, оттолкнула и подошла к амбару. Смазанный замок открылся бесшумно. Она юркнула в открывшуюся щель и плотно закрыла за собой двери. Зажгла спичку, нашла подвешенный к матице фонарь «Летучая мышь» и зажгла его. Фонарь моментально рассеял мрак, и она увидела стоящую на полу и на полках целую батарею четвертей с самогоном, тазы с холодцом и бесчисленное количество жареной и пареной снеди. Взяв в углу легкий толкач, оставленный кем-то и неизвестно зачем, Сашка стала методично, не торопясь бить им всё, что попадалось ей под руку. Всё что нельзя было разбить, было перевернуто и растоптано. Разгромив всё, что только было можно, Сашка потушила фонарь, вышла из амбара, пересекла двор и через заднюю калитку вышла на гумно, таясь от людских глаз. В село она больше никогда не вернулась.
Наутро Пономарёвы встали рано. Подняли и ребятишек. Хотя на улице было темно, но во всём чувствовалось приближение рассвета. Ревели коровы, горланили петухи, хлопали двери и стоял тот неясный шум, который извещал, что начались деревенские хлопоты. Фёкла и Дуняша пошли доить коров, мужики отправились обходить скот. Когда снохи вернулись с полными подойниками молока и процедили его, началась уборка. Дарья колдовала над тестом, готовясь печь блины и варить лапшу. Собрали постели и вынесли в поветку. Потом умыли детишек, накормили их и одели в праздничные одежды. Взрослые тоже приоделись, и за этой суетой никто не вспомнил о невесте. Кинулись только тогда, когда пришли к ней подружки, чтобы готовить невесту к венцу. Сначала отсутствию не придали особого значения, мало ли где может быть невеста, но время шло, и тревога росла. Стали разбирать вещи и обнаружили, что нет её лучшей одежды. Послали старших сестер к родным и знакомым, но никто её не видел. Как в воду канула. Отец послал Сергея на гумно проверить ригу, овин, сараи — не наделала ли она чего над собой по глупости, но везде было пусто. А между тем уже рассвело, стали собираться родные и соседи, а у Пономаревых паника. Наконец Никита сделал предположение, что она просто где-нибудь спряталась и горевать нечего. Чтобы рассеять гнетущую обстановку он предложил угостить пришедших. Егор Иванович не любил пьяных, но на этот раз промолчал, ибо возле дома собралось достаточно мужиков, любителей дармовой выпивки. Потом стали искать ключ от амбара, но он как сквозь землю провалился. Егор Иванович распорядиться сбить замок. Сергей и Яшка вошли в амбар и, увидев полный разгром учиненный Сашкой, лишились дара речи. Позвали отца, и когда тот посмотрел на все своими глазами, то невольно пошатнулся, схватился за косяк и, согнувшись, пошел в дом.
С колокольчиками под дугой, обвитой лентами, с голосистой гармошкой, с гиканьем и свистом тройка Пономарёвых, запряженная в расписной тарантас, остановилась у дома невесты. Никто из Пономарёвых, убитых поступком Саши, не догадался предупредить Степана о случившемся. Не успела тройка остановиться, как все ездоки спрыгнули на землю и подошли к толпе, запрудившей всю улицу. Иван Хохол постарался одеть в свою одежду Степана и тот выглядел в непривычном одеянии не хуже, чем многие мужики, приодевшиеся по случаю праздника покрова. Хохол завел тройку во двор и стал распрягать. Егор Иванович опять, как и во время сватовства Сергея, доверил этот выезд только ему. Степан пошел к Егору Ивановичу, поздоровался с ним за руку и спросил о здоровье. Тот, отводя глаза, пригласил его в дом. Там он и рассказал Степану все, что случилось у них ночью. Степан, сгорбившись, вышел из дома, с трудом спустился с крыльца, махнул рукой сыну и пошел вдоль улицы. Митька, не понимая, что случилось, кинулся догонять отца. Отойдя от толпы, они остановились, о чем-то поговорили и, не оглянувшись, зашагали к себе домой.
Долго ещё Степан избегал людей, боясь взглянуть им в глаза, словно был в чем-то виноват перед ними. Митька, напротив, внешне ничем не проявил своего отношения к провалу своего сватовства, как- будто это его не касалось. Народ говорил, что с него, как с гуся вода. И напрасно, так как Митька не только не забыл своего позора, но и запомнил его на всю жизнь, поклявшись себе втайне отомстить Пономарёвым. Если бы знала Сашка, чем обернется для нее и её родни сумасшедший поступок, то смирилась бы со своей судьбой, принеся себя в жертву обстоятельствам, смирила бы свою гордыню и не подвергла своих родных тяжелым испытаниям. Но девичьи пути неисповедимы. Если бы думали они головой, а не сердцем, то многое в жизни было бы по-другому.
Дня через три после скандала со свадьбой, Митьку Жука и председателя сельсовета Александра Ивановича Попова вызвали в уезд, в комитет ВКП (б). До этого Митька был в уезде только один раз, когда создавал сельскую коммуну. Они ехали молча, хмурые. Каждый думал о своем, теряясь в догадках. Зато возвращался Митька в приподнятом настроении и даже пытался напевать какой-то мотив. Попов, наоборот, был по-прежнему хмур и неразговорчив. Приехали они домой к вечеру и тут же распорядились собрать актив. Собралось тринадцать человек, в основном тех, кто побывал в коммуне. Митька Жук оглядел присутствующих, расположившихся на скамейках, встал, одернул гимнастерку, постучал рукой о край стола и сказал:
— Товарищи, мы собрали вас по очень важному вопросу. По решению уездкома партии нам нужно провести собрание беднейшего крестьянства. Считаю собрание открытым. И прошу не курить, так как у нас есть женщины. На собрание выносится несколько вопросов, которые нам рекомендовал представитель Обкома партии товарищ Полозов. Он дал нахлобучку уезду, да и многим селам за то, что мы плохо внедряем в жизнь решение XV съезда ВКП (б) и пятилетнего плана коллективизации. Досталось и нам с Александром Ивановичем. Мы с вами ни разу не прорабатывали решение последнего съезда, а ведь эти решения являются программой всей нашей жизни. Главное в них — это перестройка деревни, переход к общественному хозяйству — колхозу. Мы же все отдали в руки кулаков, а сами смотрим, что нам достанется. Отныне мы сами будем руководить селом и для того, чтобы объединиться, нужно размежеваться, как сказал товарищ Полозов. Для этого необходимо составить списки бедноты и списки кулаков. Бедняки все находятся здесь, а поэтому не будем о них рассуждать. Тех, кто не пришел, мы включим в списки после. А вот список кулаков нужно обсудить. Теперь мы совместно будем решать все вопросы нашей жизни и получим положительный результат только в том случае, если все будем заедино. В противном случае кулаки нас сожрут, а потому сразу переходим к составлению списка кулаков. Первичная партячейка предлагает внести в этот список следующих граждан:
1. Поляков Михаил Михайлович, мельник;
2. Рыбин Митрофан Ильич, две коровы и две лошади;
3. Рыбин Иван Митрофанович, две коровы и две лошади;
4. Рыбин Илья Митрофанович, две коровы и две лошади;
5. Лавлинский Иван Иванович, две коровы и две лошади;
6. Лавлинский Николай Иванович, две коровы и две лошади;
7. Дымков Никифор с сыновьями, шесть коров и семь лошадей, молотилка и косилка;
8. Чульнев Григорий с сыновьями, четыре коровы, две лошади, молотилка и косилка;
9. Пономарёв Митрофан Иванович, шесть коров и шесть лошадей, молотилка и косилка;
10. Пономарёв Егор Иванович, две коровы и две лошади, веялка, косилка и молотилка;
11. Пономарёв Сергей Егорович две коровы и две лошади, веялка, косилка и молотилка;
12. Пономарёв Никита Егорович, две коровы и две лошади, веялка, косилка и молотилка;
13. Попов Егор Яковлевич, две коровы и две лошади, веялка, косилка и молотилка;
14. Преображенский Василий Васильевич, священнослужитель, настоятель церкви села.
15. Шмидт Альберт Альбертович, бывший управляющий имением барина Сомова.
16. Пономарёв Владимир Иванович, кузнец, своя кузница.
Митька положил список на стол.
— Вот список на ваше усмотрение!
Все промолчали.
— Выходит, что с предложением партячейки все согласны, — сделал заключение Митька. Но тут подал голос председатель сельсовета Попов:
— Я не согласен. Во-первых, Пономарёв Никита — орденоносец, Сергей Пономарев — заслуженный красный командир, Поляков Владимир — кузнец, ещё пригодится, Шмидт — больной старый человек и не имеет никакого имущества. Священник не имеет земли, и даже коровы. Как можно их относить к кулакам? Во — вторых, Дымкову, Пономарёвым Митрофану, Сергею, Егору Ивановичу, Никите, Попову Егору — всем записаны молотилки, а у них она одна на десять семей, — возразил председатель сельсовета. — Предлагаю для начала этих людей обсудить на уровне района, а потом решать вопрос об их учете.
Вопрос по утверждению списка кулаков решили не голосовать и прислушаться к доводам председателя сельсовета. Митька вынужден был согласиться.
— А теперь переходим к третьему вопросу, пожалуй, самому важному. Речь идет о заготовке хлеба и взимании единого сельхозналога.
Митька посмотрел в какую-то бумажку, почитал и продолжил:
— Центральный Комитет партии требует решительно проводить в жизнь постановление Совета Народных Комиссаров о налоговой компании. В стране не хватает хлеба, а кулачество саботирует его сдачу. Наша с вами задача выявить излишки хлеба в селе и эти излишки изъять. ЦК ВКП (б) ставит задачу сломить сопротивление кулаков и шире привлекать к этому сельскую бедноту, то есть вас. Это почётная и очень трудная задача. Партия предупреждает, что новая налоговая политика не должна ущемлять бедняка, а проводиться только с целью увеличения обложения налогом кулацких элементов. Партия объясняет, что налог на бедняков должен быть минимальным, а некоторых мы вообще будем освобождать от него. Мало того, нам дается право выделять до четверти всего собранного на селе хлеба на нужды бедняков. Надеюсь, товарищи, всем понятна установка партии и правительства, а кто не уяснил, то мы разберемся в рабочем порядке. Прошу всех завтра поутру явиться в сельсовет. И последнее — нам нужно укрепить партячейку и принять в ее ряды новых членов, а поэтому прошу по вопросу вступления в ряды партии обращаться прямо ко мне. А теперь уже поздно и можете идти по домам!
Оставшись один, Митька Жук стал ходить по сельсовету. Он был весел и счастлив. Наконец-то, после сонного прозябания, он заполучил в свои руки настоящую власть. Отныне он, Дмитрий Степанович, становится истинным хозяином судеб многих людей. На радостях он сбегал к Нюрке Поляковой, попросил у нее самогону, вернулся в сельсовет, выпил целую бутылку и тут же уснул за столом. Разбудил его утром Александр Иванович. Посмотрел на опухшее лицо, усмехнулся и спросил:
— Ты так и ночевал здесь? Пойди, умойся, а то на чёрта похож!
Митька в ответ пробурчал что-то неопределенное и пошел умываться. Спустя некоторое время в сельсовет начали подходить члены группы бедноты. В этот раз люди, как никогда, появились дружно. Митька поднялся из-за стола, огляделся и стал пересчитывать пришедших, тыча пальцем в каждого из присутствующих, словно грозя карой за неповиновение.
— Товарищи! Прошу тишины. В данный момент пришло пятнадцать человек. Думаю, что для дела этого будет достаточно. А дело состоит в том, что мы должны оповестить всех жителей села о том, что на основании распоряжения уездкома партии мы обязаны собрать дополнительно пять тысяч пудов зерна, а поэтому каждому дому необходимо сдать в трехдневный срок дополнительно тридцать пудов хлеба. Если кто будет артачиться, то скажите им, что в случае отказа, налог будет удвоен и наложен денежный штраф. Такая разнарядка касается только середняков, а на кулацкие хозяйства дополнительно полагается по сто пудов зерна и по сто рублей денег. Все бедняки от налога освобождаются. Каждому из вас придется обойти примерно по десять домов и под расписку уведомить хозяина о распоряжении уезда. Каждый из вас получит у секретаря повестку с фамилиями тех, кого вам придется обойти. Хочу напомнить, что если соберете полностью контрольное задание, то четвертую часть от зерна разделите между собой. У меня все!
После краткого выступления Митьки, люди окружили секретаря Мишку Жогова и просили его не посылать их к тем, кто приходился им родственником, кумом или сватом. Митька, услышав эти просьбы, постучал по столу и громко сказал:
— Ты, Мишка, им не потакай! Вон у Дымка половина села ходит в кумовьях, а будем считаться, то не успеем. Возьми похозяйственную книгу и пиши в повестку фамилии по списку.
После этого дело пошло быстрее и вскоре сельсовет опустел. Остались Митька Жук и Александр Иванович. Молчали. Потом председатель сельсовета вздрогнул и взглянул в глаза секретарю партячейки.
— Я давно, Дмитрий, хотел поговорить с тобой. В последнее время я тебя не узнаю. По-моему заболел ты вождизмом. Все дела ты решаешь единолично, а ведь власть на селе называется Советом. Ты не только не советуешься с народом, а даже со мной, председателем сельсовета. Вот ты вчера собрал бедноту и выступил с программой устройства жизни на селе. А кто тебе дал право делать это, не посоветовавшись ни с членами партии, ни с членами сельсовета. И знаешь ли ты, как называется этот метод руководства массой?
— И как?
— Это называется троцкизмом!
— Ты говори, да не заговаривайся. Ведь это я первым выступил на окружной партконференции с разоблачением Троцкого, а ты тогда мне помогал. Я за советскую власть кровь проливал. Я у Будённого служил, а ты называешь меня троцкистом!
— Как ты мог разоблачать Троцкого, если ты ни разу не прочитал его работ и даже их не видел. Ты никогда не читал труды Ленина, да и сейчас не читаешь газет. Это вы со своим Будённым просрали польскую компанию. Вы не воевали, а занимались грабежом, пьянством и насиловали полячек. Кровь проливали за Советскую власть Пономарёвы — Сергей и Никита. Ты же всю войну чистил сапоги у командира. А то, что я назвал тебя троцкистом, это правда. Ели бы ты читал его, то знал бы, что он требовал закручивать гайки для рабочего класса, а лучшим методом управления для крестьянства считал его нищету и голод.
— А причем тут я, если хочу добра нашим крестьянам, хочу вывести их из невежества векового, хочу чтобы они жили богато?
— Если это так, то тогда почему ты обираешь крестьян, обрекая их на голодную смерть? Какой дурак подсказал тебе собрать с села пять тысяч пудов зерна? Это значит, что ты не только заставишь голодать людей, но и сорвешь весенний сев, что в свою очередь повлечет новый голод. Так какая разница между тобой и Троцким?
— А им не придется сеять, ибо к весне мы создадим колхозы и покончим с проклятым прошлым!
— Ничего ты не понял. Недаром говориться, что если Бог не дал человеку ума, то это надолго!
Александр Иванович глядел на Митьку и ждал, что критика, доводы и прямая насмешка должны были бы вызвать у Митьки хотя бы вспышку гнева, но тот, было видно по всему, был далек от сказанного и не хотел принимать критики в свой адрес. Если бы Митька вспылил, нагрубил, начал бы стучать кулаками по столу или даже бросился в драку, то Александру Ивановичу было бы легче. А так он понял, что свой пыл потратил зря. Очевидно горбатого только могила исправит. Кипя от гнева, Александр Иванович вскочил на ноги и направился к дверям.
— Ты куда? — С тревогой в голосе спросил Митька.
— Домой, куда же еще! — ответил председатель от выхода.
— А я думал, что мы с тобой обойдем кулаков и вручим им повестки насчет налога.
— Наверное, Дмитрий, ты окончательно свихнулся! — Сказал в сердцах Александр Иванович, остановившись у дверей. — Но все, же скажи мне, зачем ты отправил людей по домам, а не собрал общее собрание жителей села? А теперь еще зовешь меня в поход?
— Во-первых, на такое собрание придет не более трети народа, а, во-вторых, теперь все будут знать, что с нами шутки плохи и мы сумеем заставить людей прислушиваться к нашему голосу.
— А в-третьих, я тебе не товарищ в этой авантюре!
— Ты что ж? Против линии партии в деле ущемлении кулака? Ведь за это можно лишить партбилета.
— А ты, гнида, мне его давал? Я не против линии ЦК, я против таких идиотов, как ты. А завтра я соберу членов сельсовета и заявлю, что снимаю с себя обязанности председателя!
Он хлопнул в сердцах дверью и быстро сбежал по ступенькам.
Александр Иванович Попов был старым большевиком и в партию вступил во время работы на заводе в Воронеже. При царе побывал в ссылке, провоевал всю Гражданскую войну, был ранен. После ранения приехал в свое родное село, да так и остался в нем, отказавшись от всех должностей, которые ему предлагали в Обкоме, сославшись на плохое здоровье. Митька понимал, что вступать в борьбу с Поповым ему было не по силам, а поэтому при разговоре с ним прикинулся дураком, зная, что спорить с грамотным и заслуженным партийцем было не только бесполезно, но и опасно. И когда Александр Иванович приписал ему троцкизм, он не на шутку перетрусил, зная, что стоило тому поднять этот вопрос в райкоме партии, как он, Митька, в два счета вылетит из партии. А поэтому, когда Александр Иванович заявил, что уходит из сельсовета, Митька вздохнул свободно. Он молил Бога, что в жизни ему встретился такой благородный и душевный человек.
Село гудело, как растревоженный улей. Люди ходили друг к другу, сбивались в стайки, наведывались в сельсовет, пытаясь развеять свои мнения по поводу дополнительного сельхозналога. Некоторые предлагали жаловаться в Обком и даже в ЦК партии. Все думали о незаконности вторичного налогообложения, но сходились в одном, что эта напасть исходит от местной власти. Александр Иванович отмалчивался и на все вопросы только пожимал плечами. Члены группы бедноты, принимавшие участие в принятии решения о дополнительном налоге, сами ничего не понимали в происходящем и ничего вразумительного тоже не могли пояснить.
Ничего не мог понять в этом и Сергей, хотя лучше других разбирался в сложившейся обстановке. Он был согласен, что продразверстка в период Военного коммунизма была вынужденной, необходимой, но теперь, когда крестьяне окрепли, крепко встали на ноги, когда у них появились излишки хлеба, не мог сообразить, зачем обирают крестьян. И после долгих сомнений решил обратиться к учителю Павлу Ивановичу Озерскому. Павел Иванович, на языке сельчан Палваныч, проживал в доме Сергея в маленькой отдельной комнатке за печкой вот уже год. За это время они так и не сблизились, не стали друзьями, хотя жили дружно. Постоялец был незаметен, редко выходил из своего помещения. Даже убирал он у себя сам. Встречались с ним, когда он уходил, или приходил из школы. Еду относили к нему в комнату, и детям заходить к нему было запрещено. Два раза в месяц он просил у Сергея лошадь и ездил в город. Оттуда он привозил книги, журналы и газеты. Привозил он из города сверток выстиранного белья и вычищенные костюмы. В церковь Палваныч не ходил, ни с кем в селе не дружил. Сергей, повидавший на своем веку представителей многих сословий, сразу, по некоторым чертам его поведения, признал в нем аристократа. По тому, как он обращался к человеку, его речь, его манера носить одежду, приверженность к чистоте и другие мелочи жизни, говорили о том, что он прошел основательную школу воспитания, которая присуща только высшему свету. Из немногих минут общения с ним Сергей понял, что учитель был высокообразованным человеком. Только одно смущало Сергея, что такие люди, как Палваныч, давно перебрались за границу, а этот укрылся в деревенской глуши и жил отшельником, не желая менять свой образ жизни. Почему? Какая причина? Зарплата учителя в деревне была мизерная, разве хватало только на керосин и тетради, но у Палваныча деньжонки водились. Ему хватало и на книги, и на одежду и на еду. Откуда? Но эта сторона мало беспокоила Сергея. Ему не хотелось беспокоить своего постояльца своими проблемами, да и что сможет посоветовать в данном случае человек далекий от деревенской жизни. Но Сергею не с кем было поговорить, излить свою душу. И он решился поговорить просто с умным человеком. Набравшись духу, Сергей постучал в дверь и вошел в комнату. Увидев хозяина, учитель встал с венского стула, шагнул ему навстречу и пожал протянутую руку.
— Прошу, Сергей Егорович, к столу! — Постоялец указал рукой на стул, усаживаясь на топчан. — Мы так мало видимся, что я очень рад этой встрече. Очевидно, серьезные причины привели вас ко мне, иначе мы бы еще долго не смогли бы поговорить друг с другом.
Сергей, идя сюда, приготовил оправдание своему приходу, но учитель опередил его. Это сразу сняло напряжение и он почувствовал большое облегчение.
Павел Иванович был выше среднего роста, хорошо сложен. Такая фигура дается природой или длительной тренировкой. Его шикарная шевелюра с обильной сединой и такие же усики выгодно обрамляли благородные черты лица с гладко выбритым подбородком. Живые темные глаза светились умом и доброжелательностью. Он явно изучал Сергея, словно увидел его впервые.
— Надеюсь, Сергей Егорович, вы пришли не для того, чтобы справиться о моем здоровье. Привела вас ко мне более веская причина. А причиной тому является дополнительное налогообложение. Я не прав?
— Именно так. Я ничего не понимаю в происходящем, но уверен, что сегодня вечером ко мне придут мои кооператоры за советом, а что я им скажу, если я сам ничего не знаю? Вот я и решил посоветоваться с вами. Может что-нибудь да подскажите?
— Конечно! Самое дешёвое в жизни — это совет и, главное, сам советчик за это не отвечает и не несёт наказания. А вообще, что говорят люди на селе? Что они думают?
— Говорят разное, но, в основном, сходятся на том, что все это идет от местных властей, желающих выслужиться перед высшими начальниками.
— Извечное заблуждение русского народа. Злодей барин и добрый царь-батюшка! — Тихо проговорил, словно в раздумье, Павел Иванович и вновь умолк, собираясь с мыслями.
— Я, Сергей Егорович, давно наблюдаю за вами, и убедился, что вы человек честный, бесхитростный и деловой. Вы достаточно грамотный и много видели на своем веку. Вы симпатичны мне, а поэтому жалко вас. Вам не место в деревне, здесь вас сгубят!
— А как же вы, Павел Иванович, живете здесь, хотя, уверен, не ваше это место?
— Мое дело другое. Меня здесь не удерживает ни земля, ни семья, ни родственные связи. Я вольная птица. Сегодня я здесь, а завтра, допустим, в Париже. Между тем хочу сказать, что скоро уеду. Меня зовут товарищи!
Для Сергея это была неожиданная новость. До сих пор, ни о каких знакомых, родственниках, близких людях не было даже речи. К нему никто никогда не приезжал, он даже не получал ни одного письма.
— А раз так, то я с вами буду откровенен, не боясь последствий, да и надеюсь на вашу честность, что вы никогда и нигде не упомянете моего имени. Хотя мне, между прочим, теперь безразлично. А теперь к делу, давайте разберёмся с тем, зачем вы ко мне пришли. Все, что творится в селе, не является выдумкой местной власти, а целенаправленная, хорошо продуманная акция большевистского руководства страны!
— Но, Павел Иванович! То, что делается, приведет к голоду. Вот заберут зерно у крестьян, отберут семенной фонд, а чем они будут сеять весной?
— А им плевать на всех! В свое время Троцкий утверждал, что усмирить крестьян и подчинить их себе можно только голодом. Поэтому голод тоже входит в расчеты правительства, поскольку взят курс на порабощение деревни. Коллективизация Сталину нужна по двум причинам. Иметь право отбирать хлеб у крестьян бесплатно — раз и монопольное право продавать этот хлеб — два. Это новое рабство в сталинском варианте. Рабы в Риме не имели ни земли, ни другой собственности, не имели гражданских прав, а имели единственное право — на труд. Вот Сталин и старается возродить рабство в России, а для этого необходимо ликвидировать крестьянство как класс. Не только кулаков, а именно все крестьянство, и лишить крестьян права распоряжаться плодами своего труда. Одним словом — сделать крестьян бесправными.
— А не случится ли то же самое, что было в Тамбовской губернии, ведь крестьяне окрепли, почувствовали вкус права распоряжаться, как вы сказали, плодами своего труда?
— Не думаю. Большевики научены восстанием тамбовских крестьян, и больше не допустят такой ошибки. Думаю, что они, прежде чем создавать колхозы, нанесут удар по прогрессивным, но еще слабым силам деревни. И не обязательно это будут кулаки. Вот в вашем селе много кулаков? Нет. С трудом можно назвать одного мельника, но и он никого не эксплуатирует, работает один. А я уже слышал, что в кулаки у вас зачислено больше десятка семей. Это первый ход к разобщению людей и дальнейшего их покорения. Кулаки будут злиться на бедняков, бедняки будут злорадствовать над кулаками, а середняки притихнут, боясь попасть в число кулаков. Второй ход был сделан, когда прислали директиву о взимании дополнительного налога. Сделано все с той же целью — разобщение народа. Бедноту освободили от налога, на середняков наложили дополнительно по 30 пудов на семью, а на кулаков по 100 пудов на семью и по 100 рублей деньгами. А кто мешает тем же беднякам и середнякам жить зажиточно? Но не дай Бог, где-нибудь люди станут возмущаться, а тем более выступать против коллективизации. Их согнут в бараний рог и не остановятся перед расстрелами. Недаром же укрепляют войска ОГПУ. У нас, говоря откровенно, нет боеспособной, кадровой армии, но зато имеются укомплектованные, хорошо вооруженные три дивизии чекистов, не считая милиции. Для какой надобности? Разве они будут воевать с агрессором? Нет, Сергей Егорович, их подготовили для борьбы с собственным народом. Думаете, что я преувеличиваю или это плод моего больного воображения? Нет. И чтобы вы убедились в правоте моих слов, я покажу вам один интересный документик, который затрагивает ваши интересы.
Павел Иванович взял со стола какую-то книгу, перелистал и достал из нее листок бумаги, протянул его Сергею и попросил прочитать написанное на нем. Текст гласил:
«Всем парткомам.
Центральный Комитет партии подверг специальному обсуждению вопрос о мероприятиях связанных с взиманием единого сельхозналога и констатировал крайнюю слабость работы по проведению налоговой компании. Принятое по этому вопросу Постановление Совета Народных Комиссаров от одиннадцатого сентября полностью совпадает с постановлением ЦК. Центральный Комитет партии предлагает принять к руководству все конкретные директивы, указанные в постановлении и добиться решительного усиления всех партийных, профессиональных и советских организаций по энергичному и правильному проведению налоговой компании. Проведение всех мероприятий по исправлению недочетов и извращений ни в коем случае не должно привести к ослаблению темпа взимания сельхозналога. Необходимо шире развернуть в среде бедняцко-середняцкой массы политическую агитационную и организационную работу, особенно по разъяснению классного характера налога. Ввиду увеличения суммы налога известные трудности неизбежны, особенно в связи со злостным сопротивлением, которое оказывают кулацкие элементы. Тем более необходимо усилить политическую работу на селе и особенно организацию бедноты. Постановление СНК получите в исполнение.
Секретарь ЦК ВКП (б) Л. М. Каганович».
Сергей прочитал и надолго задумался. Директива была отпечатана на машинке, на тонкой бумаге и не вызвала сомнений в подлинности. Наконец он поднял глаза, и посмотрел в глаза учителю.
— Теперь мне все ясно. Только зачем отбирать хлеб, потом торговать, взваливать на себя эту обузу. Не лучше было бы оставить, как было, и пусть болит голова у крестьян? — Понимаете, Сергей Егорович, ради этого и революция делалась, чтобы в результате величайшего в мировом масштабе обмана, к власти пришла небольшая группа лиц, которая от имени государства будет продавать и выставлять на продажу все, что производится в стране, в том числе и хлеб. Большевики объявили, что одним из главных завоеваний социализма в России является национализация земли, а суть национализации, что бы ты знал, заключается в отмене частной собственности на землю и передаче земли в общенародную собственность без права продажи. То есть, сначала всю землю необходимо конфисковать у ее владельцев, а затем передать в управление колхозам, которые подчинены органам власти. Все делается по плану, которым предусмотрено во что бы то ни стало обеспечить в стране высокопроизводительный труд крестьян в организованной форме. Комиссия Политбюро во главе с членом ЦК Яковлевым, выполняя решения 15 съезда о коллективизации, предложили Сталину модель такой организованной формы в виде колхозов, по подобию кооперативов еврейских переселенцев в Палестину, так называемых кибуцев. Основным принципом таких кооперативов является отсутствие у членов частной собственности, вплоть до личных вещей. Сталину предложение понравилось. Особенно то, что крестьяне, не имея ничего за душой, за регламентированный, нормированный труд в колхозе будут получать ровно столько, сколько посчитают нужным большевики, а не купцы на хлебном рынке. Доходы должно считать Политбюро ЦК партии решил он. Ну, а если кто организовываться в колхоз не собирается, сам решил хозяйничать, объявить кулаком и подвергнуть репрессиям в назидание остальным. Так что, Сергей Егорович, за что боролись, на то и напоролись!
Павел Иванович махнул рукой, как отрезал.
— Наверное, я надоел вам своими разговорами? Что ж поделаешь, обидно и стыдно за Россию. Проснется ли она исполненная сил?
— Что вы, Павел Иванович, я так вам благодарен, что даже не могу выразить. И все же последний вопрос: что нам делать?
— Могу посоветовать только одно: смириться и ждать лучших времен. Все авантюрные государства рано или поздно разваливались, а народы остались. Много еще выпадет лишений на долю русского народа, но он все перенесет, все переборет и широкую дорогу проложит себе. Вам лично, Сергей Егорович, я посоветовал бы продать все имущество, даже раздать и бежать отсюда, куда глаза глядят. Правда в городах все еще процветает безработица, но я помог бы с трудоустройством. Сгубите вы здесь себя, поверьте моему слову!
Павел Иванович встал и пожал Сергею руку. Через неделю после этого разговора он уехал в приехавшей за ним из города повозке.
До 1929 года посторонние люди в селе бывали редко. Даже в гражданскую войну красные и белые долго в селе не задерживались, правда, раза три побывал продотряд. Теперь же зачастили уполномоченные, которые вечно куда-то торопились, требовали немедленных собраний жителей села и грозили за невыполнение их требований суровыми карами. Одни создавали комсомольские ячейки и пионерские отряды, другие распространяли облигации займов, третьи читали лекции по антирелигиозной тематике, четвертые помогали группе бедноты. Они так надоели не только местной власти, но даже членами группы бедноты, что, заслышав о приезде очередного уполномоченного, все старались укрыться в безопасном месте. Обычно в сельсовете находился Петька Лобода, в виде бесплатного сторожа и рассыльного. Петька не был коренным жителем села. Откуда привез его барин Сомов, для односельчан оставалось тайной. Люди, хорошо знавшие барина, долго судачили о его странном приобретении. О жадности Сомова ходили анекдоты. Во-первых, он был не женатым и не нанимал прислуги, не имел ни сторожей, ни объездчиков, даже поваров. А тут привез сразу четыре рта. Впоследствии оказалось, что он привез только жену Петьки Ганну, по-русски Анну, которую в селе стали называть Нюркой. Муж и два сына были просто бесплатным приложением к Анне в прямом и переносном смысле, ибо барин запретил ей тратить на них его продукты. Хотя бы бабой была видной, под стать барину, а то черт ее знает что. Длинная, как каланча, жилистая, словно свитая из веревок. Длинные ноги, длинные руки, длинный нос на узком лице и все это без заметных выпуклостей спереди и сзади. Ходила она, сутулясь, с опущенной головой, шагала размашисто, словно мерила землю и никогда не смотрела по сторонам. Всем своим видом она смахивала на колодезный журавль, и казалось, что как и он, скрипела всеми своими суставами. При всей своей несуразной фигуре, Ганна обладала нечеловеческой силой, в чем вскоре, после воцарения ее в барском имении, убедились местные мужики.
У Ивана Хохла подгнили вереи у ворот. Для их замены нужны были два дуба. Просить их у барина дело безнадежное, не даст. А так как барин никогда из-за своей жадности не держал сторожей, то все мужики пользовались этим самым бессовестным образом и брали все, что им требовалось, без спросу. Подгадав, когда барин уехал в город, Хохол кликнул брата и они, прихватив поперечную пилу с топором, нырнули в лес. Два подходящих дуба приметили загодя, и поэтому быстро принялись за дело. Только успели спилить один дуб и обрубить сучья, как перед ними, словно в сказке, возникло привидение в лице Ганны Лободы. Нужно сказать, что хотя братья были неробкого десятка, да и силой их Бог не обидел, но в тот момент, как потом рассказывал Хохол, они лишились дара речи. Не потому, что их застали за воровством, а потому, что это была баба, осмелившаяся в одиночку выследить воров в глухом лесу. Ганна не стала ругаться, не стала стыдить, а показав на срубленный дуб, сказала, чтобы они отнесли его в имение. То ли дуб оказался неподъемным, то ли со страху у них подкосились ноги, но как они не старались, поднять его так и не смогли. Тогда Ганна подошла к дубу, отстранила мужиков, взялась за корень, подняла на колено, потом взвалила бревно на плечо и понесла. Братья, понурив головы, плелись следом. Подойдя к забору усадьбы, она сбросила дуб на землю, а мужикам сказала, чтобы они шли вон. Сильно переживали братья, боясь гнева барина, но проходили дни, недели, а никто их не вызывал, не требовал с них штрафа.
С тех пор Ганну стали не только бояться, но и уважать. Этот случай доказал, что не такой уж барин был дурак, поселив у себя приезжих людей. Пока управляющий имения был в силе, он сносно управлялся со своими несложными обязанностями, но болезни подкосили его здоровье, и требовалась замена. Вот барин Сомов и нашел ему замену в лице Ганны Лободы. Она была и экономкой, и горничной, и поваром, и прачкой, и дояркой, да к тому же верным сторожевым псом. После Февральской революции барин Сомов покинул свое имение, куда ему больше не пришлось возвратиться. Поговаривали, что он уехал за границу, но перед отъездом, за верную службу, распорядился поставить Ганне на краю села пятистенок, снабдить ее скотом, семенами, инвентарем и посудой. То есть, всем, что необходимо было ей для жизни и работы. А работать Ганна умела. Она, как заправский мужик, сама пахала, сеяла, ездила на мельницу, на базар, ухаживала за скотиной, не ожидая помощи от своих мужиков. Ее муж, Петька Лобода, был противоположностью своей жены. Маленький, едва достававший ее до груди, пухлый, с заметным брюшком и шарообразной головой без шеи. Голова была совершенно голой, как колено и только за ушами далеко на затылке торчали во все стороны кустики сальных волос. На плоском его лице торчал пуговкой носик, под которым кустились жиденькие мочальные усы над толстыми губами, обрамленными снизу такой же, как и усы, растрепанной жиденькой бородкой. Но главной отличительной чертой Петьки от жены было то, что он был принципиальным бездельником. Он не только не хотел, но абсолютно не умел ничего делать. А так, как Петька принципиально не хотел работать, то Ганна перестала его кормить, обшивать и обстирывать. Воровать он не умел, да и боялся. И наступили для Петьки черные дни. Ходил он теперь немытым, нечесаным и голодным. Зимой и летом в своем неизменно рваном полушубке, в валенках разного цвета, из дыр которых торчала грязная солома. К своей одежде он привык, но привыкнуть к голоду не мог. Нет, он не стал наниматься на поденную работу, а стал ходить по чужим дворам в надежде поживиться едой.
Он не просил подаяния Христа ради, а решал эту проблему чисто философским путем. Зная сострадательный характер русского человека и его хлебосольство, Петька старался зайти в дом, когда хозяева садились за стол, будь то завтрак, обед или ужин. Как уж повелось на Руси, хозяева в этом случае обязаны были пригласить гостя к столу. Петька, поломавшись для приличия, снимал с головы облезлый треух, присаживался к столу и вылезал из-за него последним. А поскольку не все его кормили досыта, то при удаче он ел впрок, набивая живот про запас, и так раскормил свой желудок, что не знал в еде ни укорота, ни нормы. Он так наловчился, так привык к шатанию по дворам, что мог по запаху, поднимавшемуся из печной трубы, безошибочно определить, что готовят в том или ином доме. Однажды на пасху, когда многочисленная семья Пономарёвых пошла в церковь, в доме осталась только одна Дарья. Праздничный стол она уже приготовила, и осталось только напечь блинов. Тесто в двухведерном чугунке подошло, печка разогрелась, и она стала печь блины двумя сковородками. В семье она тогда только появилась, боялась свекра и свекрови, да и не хотелось ей своей стряпней ударить в грязь лицом. Дрова горели дружно, из печки дышало жаром, блины хорошо снимались, и на душе было легко. И этот момент в избу зашел Петька Лобода. Дарья уже знала, что Пономарёвы всегда кормили чужих людей, а поэтому пригласила гостя отведать блинов. Она налила в чугунную миску сметаны и стала бросать на стол блины. Дарья пекла, Петька, макая блины в сметану, ел. Она кончила печь, Петька прикончил все блины, надел на голову облезлый треух и был таков. Когда Пономарёвы вернулись после обедни, то застали Дарью в слезах возле пустого чугунка.
Так и ходил бы Петька по дворам незваным гостем, но многочисленные уполномоченные требовали срочного созыва собраний и Петьку, ввиду его постоянного присутствия в сельсовете, тут же отправляли оповещать жителей села. Вначале это ему не нравилось, но вскоре он понял всю выгоду своего положения рассыльного. Теперь он входил в любой дом не как попрошайка, а как представитель Советской власти, тем более что его и сына, Семёна, зачислили в группу бедноты и избрали секретарём комсомольской ячейки. Времена были тревожные. Люди каждый день ждали неприятностей и очень нуждались в последних новостях. Петька, постоянно ошиваясь около начальства, первым узнавал новости, поэтому его повсюду принимали, если не с радостью, то с тревогой и волнением. Он очень быстро почувствовал интерес к своей особе со стороны крестьян и стал пользоваться этим для своей выгоды самым бессовестным образом. Зайдя в дом, он садился прямо к столу и ждал пока его не накормят, и только после этого сообщал хозяевам свежие новости, ценность которых, была прямо пропорциональна количеству и качеству еды. Когда крестьян повторно принудили сдать сельхозналог, то не все поспешили расстаться со своим хлебом. Пришлось для изъятия «излишков» зерна подключить не только группу бедноты, но и уездную милицию. Для счета сюда включили и Петьку. За активное участие в этой акции и успешное выполнение задания беднякам было выделено по одному мешку на каждого члена группы бедноты. Получил впервые в жизни, таким образом заработанный хлеб и Петька со своим сыном Семёном. Раздачу зерна обставили торжественно, с речами, красными флагами и доставкой зерна на дом. Сгрузили два мешка с зерном и у дома Ганны Лободы. Петька, уперев короткие руки в бока рваного полушубка и, наступив ногой на мешок, с торжественным видом ждал жену, за которой пошел Семён. Вскоре она вышла, посмотрела на мужа, подняла мешок и взвалила его на спину Петьки. Второй мешок, не ожидая приказа матери, поднял на плечо Семён и шагнул к двери дома, но на его пути стала мать и приказала им отнести зерно туда, где они его взяли. Мужики, было, заартачились, побросали на землю мешки. Тогда Ганна, схватив сразу обоих за грудки, так встряхнула, что у них щелкнули зубы. При этом сказала, что если они не отнесут зерно назад добровольно, то она запряжет их вместо лошади в телегу и они повезут не только мешки, но и её. И вот с окраины села, к сельсовету, потянулась странная процессия. Впереди длинновязый Семён с мешком на горбу, за ним, поминутно спотыкаясь и скуля, тащился Петька, а следом, нагнув голову, размеренным шагом шла Ганна, глядя себе под ноги. Семён унаследовал не только облик матери, но ее силу и поэтому нес свою ношу легко, а Петька выбивался из последних сил, мешок поминутно сваливался со спины, ноги подкашивались, а пот с его одутловатого лица катился градом. Через каждые пять шагов он останавливался, подкидывал мешок задом, что не мешало тому опускаться ниже. Наконец его ноги заплелись, не выдержали ношу, и он упал на землю, придавленный мешком. Ганна подошла к мужу, встряхнула его за воротник, двинула кулаком в бок и поставила его на ноги. Он сразу перестал ныть и стоял перед женой с опущенной головой, маленький и жалкий. Это был воскресный день. Один из тех осенних дней, когда природа дарит свое последнее тепло, тишину и радость. Люди, уставшие от полевых работ, наслаждались прекрасной погодой. Старались хорошо отдохнуть, с пользой провести свободное время.
Все, от малых и до старых, высыпали на улицу, весело общались друг с другом и поэтому стали невольными зрителями разыгравшейся комедии. Одни смеялись, другие удивленно покачивали головами, не зная как реагировать на эту сцену. Ребятишки увязались за процессией, и шли следом на некотором расстоянии, сопровождая до самого сельсовета. Семен на крыльцо поднялся легко и быстро скрылся за дверью, а отец, едва ступив на первую ступеньку, споткнулся, упал и не пытался больше подняться. Ганна сняла со спины мужа мешок, поднялась на крыльцо, распахнула ударом ноги дверь и с такой силой бросила его внутрь, что опрокинула стол и сбила Митьку вместе со скамьей, на которой тот сидел. Следом за мешком в сельсовет влетела Ганна и, встав перед валявшимся на полу Митькой, грозно его предупредила, что если ее идиоты опять привезут домой зерно, то он, Митька, выбьет своим лбом двери с обратной стороны.
В этот год зима пришла к Михайлову дню. Почти две недели падал снег, покрыв окрестности толстым покровом. Потом ударили крепкие морозы, заковав стужей всю деревенскую жизнь. Уполномоченные перестали приезжать. Митька Жук молчал, не собирал собраний. Даже Петька не ходил по дворам. Мужики говорили, что это не к добру и надо ждать какой-нибудь пакости. И они не ошиблись. В святочный вечер Егор Иванович в избе был один. Сноха Дуня ушла проведать родителей. Яшка убирался во дворе, бабушка Вера на женской половине была чем-то занята с правнучкой Варей. Ничто не предвещало нарушить внешний покой и благополучие, но что-то неладно было на душе у Егора Ивановича. Вроде и войны не предвиделось, власть затаилась и не напоминала о себе, но предчувствие нехорошего, неотвратимого, как призрак витало в воздухе. Это неотвратимое появилось в лице Петьки Лободы. Он уверенно вошел в избу, без спроса сел у стола, не сняв шапки, и уставился своими оловянными глазами на Егора Ивановича, словно спрашивая, будут его кормить или нет? Правда на этот раз, он еще с порога прекрасно понял, что кормить точно не будут, так как хозяин был один и не станет угощать незваного гостя. Поэтому Петька, выждав некоторое время, достал из-за пазухи несколько бумажек, перебрал их пальцами и положил одну из них на стол перед Егором Ивановичем.
— Крышка вам, Егор, пришла! Хватит вам, кулакам, жиреть, теперь мы будем править, а вас, как вошь под ноготь!
Не сразу дошли до Егора Ивановича Петькины слова. Он хотел что-то спросить, но тот уже хлопнул дверью. Егор Иванович взял со стола бумажку, поднес ее к лампе и прочитал, что ему, в порядке самообложения, надлежит на следующий день сдать дополнительно сто пудов зерна, обеспечив доставку на своей поводе. В противном случае, было написано дальше, зерно будет изъято силой. Егор Иванович перевернул бумажку, посмотрел на чистую сторону, покачал головой и в недоумении пошел к матери узнать, что она на это скажет.
— Ну и чего тебе здесь не понятно, Егор? — спросила мать, возвращая ему бумагу. — Тут сказано, что ты должен завтра отвезти в сельсовет сто пудов зерна!
— Я же выплатил сельхозналог, сдал дополнительно сто пудов зерна, а теперь требуют еще сто. Так их у меня нет. Если я попрошу хлеба у Сереги и Никиты, то мы все равно останемся без семян. Что ж нам сидеть на одной картошке, и чем сеять весной?
— Не знаю, что и сказать тебе, Егорка. Нужно узнать, кому еще принесли такие бумажки. Если их разнесли по всем дворам, то это одно дело, если их опять принесли состоятельным мужикам, то дело другое. Может сходить к Митрошке?
— Мне кажется, что отдуваться придется только нам!
— Это почему же?
— Так Петька сказал мне, что мы теперь всех кулаков основательно прижмем к ногтю!
— Ах, вон оно что! У Петьки, правда, мозги набекрень и говорит он постоянно только о чувстве голода. А эти слова, видимо услышал в сельсовете от Митьки. Значит, Жук основательно взялся за вашего брата и делает все для того, чтобы заставить мужиков вступать в колхоз.
— Удивляюсь тому, что у Митьки хоть и не намного больше ума, чем у Петьки, а сумел все село скрутить в бараний рог.
— Да и у вас ума не больше ихнего. Вы думаете, что все это Митькины выдумки? Отнюдь, за его спиной стоят очень умные люди. Он только исполнитель, он марионетка, которую дергают за ниточки. Все вы вклюнулись в землю и не можете поднять от нее своё рыло, чтобы поглядеть, что же делается вокруг. Если бы вы огляделись, то давно бы поняли, что не только Митька, но даже Обком партии сам нечего не выдумывает. Ничего в стране не делается без воли главных руководителей партии. Ведь Совет народных комиссаров не принимал решения о коллективизации крестьян — это было решением партийного съезда. В газете так прямо и написали. Значит, правит страной не правительство, а партия. Так что шутки в сторону. У неё в руках не только партийные органы, но и армия, и НКВД, и милиция. И прав был Сергей, когда предлагал уехать в Москву!
— Легко сказать в Москву, а что бы я там делал?
— Ты, Егорка, всю жизнь строил из себя хлебороба, хотя в сельском хозяйстве ничего не понимаешь. Все, что ты сейчас имеешь, нажито благодаря мне и Сергею. «Что я делал бы в Москве?». Да у тебя же золотые руки, а ты никогда не понимал и сейчас не понимаешь, что это дороже любого богатства. Ты же стал посмешищем для людей. Ты не только не учил своих сыновей ремеслу, но даже не допускал их к верстаку. Ты не только ничего не делал для людей, но и сам нанимал Егора Бендерешу, чтобы тот тебе набил обручи на бочку. Ты сделал великолепную пролетку графу Толстому и в тоже время нанимал плотников поставить курятник. Если бы ты жил в Москве, да делал бы пролетки для лихачей, собирал шкафы, другую мебель, да тебе бы цены не было, перед тобой бы господа снимали шляпы. Но ты своим упрямством и недалеким умом сгубил жизнь себе и своим сыновьям. А теперь согни спину и иди сдавать свой хлеб в сельсовет!
— Так у меня нет такого количества!
— Продай всю скотину, купи у людей зерно и отвези туда, куда покажут. Оставь одну лошадь, корову, десять овец и столько же кур, сделайся середняком или бедняком, авось Бог тебя помилует. А теперь иди, Егорка, и думай!
Не успел Егор Иванович вернуться от матери, как в избу вбежал Митрофан.
— Ты знаешь, что принес мне этот ублюдок? — с порога выпалил брат, протягивая Егору Ивановичу бумагу.
— Я получил такую же, — ответил тот.
— Что будем делать, Егор? — усаживаясь на коник, спросил Митрофан, — Может быть посоветоваться с Серёгой?
— Не спеши! Нужно сначала узнать, кто ещё получил эти бумажки? Ты сбегай к Рыбиным, а я к Чульневым!
Но идти некуда не пришлось. В избу ввалились глухой Митрон с двумя сыновьями, потом пришли Чульневы, появился Дымков с сыновьями и братья Хохлы. Когда все расселись и закурили, молчание прервал Иван Хохол:
— Ну, мужики, что будем делать? Я вижу, что Митька решил нас доконать. Не наберу я столько хлеба, если даже отдам семенной фонд. А чем я буду кормить семью, скотину, что будем сеять весной?
— Не только у тебя так, — подал Григорий Чульнев, мужик тихий, степенный, рассудительный, — у всех нас то же самое.
— Где Серёга, Егор Иванович? — спросил Иван Рыбин, — Может быть, он что посоветует?
— Придушить этого гада Жука, чтобы не смердел на селе, — сказал всегда осторожный Хохол.
— Нет, Иван, не дело ты говоришь. Ну, убьешь ты Митьку, поставят Гришку, а то из района партийного пришлют, а тебя к стенке. Вспомни, как потрошил нас продотряд. Семен Поляков с сыном заартачились было, а кончилось тем, что их шлёпнули во дворе и дело с концом.
— Не знаю, мужики, как вы, — вновь заговорил Хохол, — а я не сдам ни зернышка, хоть десять Митек приходи. А милицию позовут, то я при них оболью зерно керосином, и пусть везут. Ишь, какую моду взяли — хлеб не покупают, а отбирают.
— Может быть, спрятать хлеб или по соседям раздать? — высказал свое мнение Дымков, — Ведь прятали же от продотряда?
— Поляковы тоже прятали, — опять напомнил Егор Иванович. — Хорошо если не найдут, а вдруг? Расстрелять, может быть, не расстреляют, а в тюрьме точно сгноят или всю скотину отберут.
— А что бабушка Вера советует? — спросил Дымков.
— Что советует? — Ответил вопросом на вопрос Егор Иванович. — А советует она, отдать хлеб и, если не хватит, то продать часть скотины, а может быть всю и купить его у людей, добро, что хлеб у них имеется.
— А как же жить без скотины? Ну, уж нет, без нее совсем жизни не будет, — возразил Хохол. — Вы как хотите, но я не дам ни фунта, что хотят со мной пусть делают. Весной засею в обрез, чтобы только хватило до урожая.
Все согласились с Хохлом и решили завтра хлеб не отдавать, а подождать немного и посмотреть, чем все это закончится.
В эту ночь Егор Иванович спал тревожно. Ему снились кошмарные сны. Снился командир продотряда Коробов, который в восемнадцатом году лично расстрелял Семена Полякова с сыном за то, что тот не хотел отдавать последние крохи хлеба. Снился Митька Жук, нагло требовавший четверть самогона и, напившись, плясал среди улицы. Снился Иван Хохол, бегавший по селу с окровавленным топором и, ворвавшись в дом Егора Ивановича, стал крушить все, что попадало под руку. Егор Иванович в испуге закричал и проснулся. Сильно билось сердце, готовое выскочить из груди. Пели третьи петухи, но было еще темно. Он хотел полежать, но давняя привычка вставать с петухами заставила его слезть с печи. От бессонницы у него звенело в ушах, и кружилась голова. Внизу на лавке, спал Яшка с женой. Егор Иванович, держась за дрогу, стал спускаться с печки, но в темноте наступил на растянувшуюся во весь рост свинью, которая мирно спала возле печки, окруженная многочисленным потомством. Огромная свиноматка вскочила на ноги и Егор Иванович, не удержавшись, грохнулся на скопище завизжавших поросят. Боясь оказаться посмешищем в своем нелепом положении, он встал на четвереньки и стал быстро выбираться на свободное место. И ему почти удалось, но овца, бдительно охранявшая от поросят своих ягнят, очевидно, почувствовала угрозу со стороны ползущего человека и, недолго думая, что было силы, ударила лбом Егора Ивановича в лицо. От этого удара он перевернулся на спину, в глазах засверкали искры, во рту стало сухо, к горлу подкатилась тошнота, и он потерял сознание. Тянувшийся по полу холод быстро привел его в сознание. Он поднялся, нащупал рукой скамейку, сел и, убедившись, что никто из спящих не поднялся, а следовательно не видел его позора, успокоился и стал ощупывать свой лоб. Кожа на лбу саднила и стала вздуваться шишка. Но вскоре эти неприятности опять вытеснили думы о хлебопоставках. Эти думы не давали ему покоя, и он решил пойти к Сергею, разбудить и еще до наступления утра посоветоваться. Обувшись и надев полушубок и шапку, Егор Иванович отправился к сыну. Пройдя через двор, гумно и сад, вошел в поле. До дома сына было каких-нибудь шагов двести, и по плотному насту он быстро дошел до усадьбы Сергея. Этому способствовал свежий морозный ветер, забиравшийся по полушубок, обжигавший лицо и заставлявший Егора Ивановича быстрее добраться до тепла. Как было принято на Руси, дома никогда не закрывались на замок. Не был исключением и дом Сергея Пономарева. Егор Иванович открыл двери и сразу почувствовал удушливый угар. Он нашел спички, зажег лампу, огляделся и увидел, что вся семья угорела, и никто не обращает на него никакого внимания. Он поспешно стал перетаскивать всех к настежь открытой двери. Приведя всех в чувство и убедившись, что беда прошла мимо, Егор Иванович, так и не посоветовавшись, ушел домой. Сколько раз уже потом вспоминали, что если бы Егор Иванович в ту ночь не спас семью Сергея от гибели, то он бы спас ее от будущих невзгод, выпавших на их долю.
Наступил день. Люди ездили на Пристинок за ключевой водой, топили печки, и никто не нарушал обыденной жизни села. Вечером к Егору Ивановичу пришел Петька, и сказал, что того вызывают в сельсовет. Егор Иванович чувствовал себя неважно, а тут совсем расклеился. От удара раскалывалась голова, да очевидно, еще нанюхался угарного газа, а поэтому окончательно вышел из строя. С трудом одевшись, он в полуобморочном состоянии добрался до сельсовета, едва поднялся на крыльцо и, войдя в помещение, тяжело опустился на широкую скамейку. Перед глазами все плыло словно в тумане, и он плохо узнавал людей, заполнивших сельсовет. За столом сидел Митька Жук, рядом с ним развалился Гришка Казак, только что назначенный председателем сельсовета и принятый кандидатом в члены ВКП (б). Митька, с каким-то торжественным выражением на лице, пристально вглядывался в каждого входящего и что-то отмечал в бумажке. Убедившись, что все бунтовщики собрались, он бросил карандаш на стол, сурово оглядел зал и с металлическими нотками в голосе сказал:
— Ну, что, саботажники, мать вашу в душу, решили бастовать? Да знаете ли вы, кулацкое отродье, что срываете задание партии по обеспечению города хлебом? Вы что хотите? Задушить рабочий класс голодом? Да знаете ли вы, что за это положена тюрьма?
Все молчали, но в гнетущей тишине чувствовалась напряженность, готовая взорваться и вылиться в непредсказуемые последствия. Первым нарушил молчание Иван Хохол. Он не стал возмущаться, кричать и оправдываться, а, подперев широкой спиной дверной косяк, с насмешкой сказал:
— Ты чего, Митька, слюной брызжешь и материшься, как последний байбак? Ты кого материшь и пугаешь? Ведь половина из них тебе в отцы годиться, хотя никто не захочет иметь в сыновьях такого дурака, как ты. Ты требуешь с нас сто пудов зерна, хотя мы все уже расплатились с продналогом и сдали уже сверх по сто пудов. Если мы выскребем все до зерна у себя, да еще займем у соседей, то и тогда мы не наберем столько, сколько ты просишь. Нам нужно кормить семью, скотину, да еще оставить на весенний сев. Значит, рабочий класс я должен кормить, а своих детей посылать побираться? Ты же хорошо знаешь, а не знаешь, то спроси у своего отца, что хлеб имеется у мужиков, и если бы ты взял с каждого двора всего по десять пудов, то ты бы отвез рабочему классу в три раза больше хлеба, чем сдали бы мы!
— Ты меня не учи, как и что делать! — Заорал Митька, стукнув кулаком по столу. — Я вас спрашиваю, повезете ли вы хлеб или вас нужно заставлять?
Мужики молчали. Мужики думали. Митька выждал минутку, повернулся в пол-оборота и сухо произнес:
— Товарищ Грибанов, прошу всех этих саботажников в кутузку, авось на морозе одумаются!
Из темного угла у печки поднялся высокий милиционер, прибывший из уезда накануне, поправил на боку револьвер и попросил всех следовать за ним.
Кутузкой служил пустой амбар Мишки Жогова. Как и у всякого нерадивого хозяина, у Мишки в хозяйстве все было наперекосяк. У повозки одна оглобля была тоньше другой и обычно короче, обод всегда соскакивал с колеса и его привязывали веревкой, плетень больше лежал на земле, чем находился в вертикальном положении, хотя его все время подпирали кольями. В таком же виде был и амбар, торчавший на улице перед окнами дома. Обычно амбары ставили на высокие камни или дубовые сваи, чтобы пол амбара обдувало ветром. У Мишки амбар хотя и был рубленным, но стоял прямо на земле и без пола. Знал Митька об этом амбаре хорошо, ибо в этот злополучный амбар обычно запирали дебоширов и пьяниц, чтобы они на холодной земле опомнились и набрались ума. Вот в этот амбар и посадили двенадцать взбунтовавшихся мужиков, повесив снаружи амбарный замок. К их удивлению в амбаре нашлось немного соломы, хотя во дворе у Мишки она была редким гостем. Все они расселись на соломенной подстилке, прижавшись друг к другу, закурили. Шло время и, несмотря на овчинные полушубки и валенки, мороз начал донимать мужиков основательно. Первым не вытерпел глухой Митрон. Он встал, зажег спичку и стал ходить вокруг стен амбара. Найдя в одном месте под нижним венцом углубление, просунул туда руку, дернул, но амбар не поддался, видимо примерз к земле. Тут к нему подошел Хохол, встал рядом с ним на колени и общими усилиями они приподняли стенку и, подставив под нижний венец колени, позвали других мужиков. К ним на помощь подошли другие арестанты и общими усилиями подняли одну сторону. Амбар заскрипел, наклонился и все увидели снег. Еще немного усилий и амбар, повалившись на бок, с гулом ударился о землю и развалился.
— А теперь, мужики, марш по домам и ложитесь спать! — Спокойно сказал Хохол и зашагал по Большаку к своему дому.
Утром, на следующий день, когда Пономаревы позавтракали, и Егор Иванович прилег отдохнуть на печке, в избу ввалился Гришка Казак с милиционером и двумя членами группы бедноты. Он прошелся по избе, подошел к печке, заглянул на нее и насмешливо скривив губы, сказал:
— Ты глянь! Кулак лежит на кулаке, забыв, что для этого имеется подушка. Вот что значит привычка! Хватит дрыхнуть. Вставай, одевайся!
Потом сел на лавку, закурил и стал ждать.
— Это куда одеваться?
— После расскажем, а теперь поспеши! — Процедил сквозь зубы Гришка Казак.
Весь его облик, начиная со щеголеватых усов, ладной невысокой фигуры и ног с небольшой кривизной, действительно напоминал донского казака. Да и кличку Григорий Федорович Лавлинский получил недаром. Его отец, Федор Лавлинский, женился перед самой русско-японской войной. Взял девку из рода Жирковых, но не успел намиловаться с ненаглядной, как забрали его в солдаты и отправили в далекую Маньчжурию воевать за веру, царя и отечество. Много слез пролила молодка, ворочаясь по ночам в пустой постели. Свекор и свекровь жалели ее, работой особенно не загружали, и она понемногу стала отходить. В Воронежской губернии, как нигде, всегда было засилье помещиков. Тучные черноземы, благоприятная природа, центральное положение тянуло сюда, как мух на мед, всевозможных господ. Поэтому самая густонаселенная губерния в России страдала острым недостатком пахотных земель. Крестьяне владели разрозненными лоскутками земли, да и те иногда располагались на десятки верст друг от друга. Поэтому тысячи крестьян иногда целыми семьями снимались с родных мест и уезжали на Дон к казакам на заработки в сенокос и жатву, получая за это натурой, реже деньгами.
В тот год прошел слух, что казаков призвали на войну и на усмирение взбунтовавшихся рабочих, а поэтому на Дону не хватало рабочих рук на покосе. Желая заработать сена или пшеницы, собрался на заработки и Василий Лавлинский. Ехать с ним попросилась и молодая сноха. Свекровь согласилась с этим, сославшись на то, что им вдвоем будет легче, веселее, да и постирать на мужика будет кому. Недалеко от Усть-Хоперской станицы, нанялись они к молодой казачке, муж которой где-то справлял службу. Как не тяжело было на жатве, но молодость брала свое и сноха с казачкой собрались на гулянку.
Окончилась страда. Вернулись свекор со снохой домой с неплохим заработком. Шло время, и свекровь стала замечать, что с невесткой что-то неладное. Она поделилась своими подозрениями с мужем, а тот с пристрастием допросил сноху. Та в слезах призналась, что ее попутал бес, и она согрешила с одним казаком. Так как свекор в этой беде обвинил себя за то, что не досмотрел за снохой, то было решено пока сыну на фронт не писать, а ждать его приезда. А через месяц пришло извещение, что их сын Федор Лавлинский погиб смертью храбрых. После этого отношение к невестке резко изменилось. Свекровь почему-то вбила себе в голову, что Господь наказал их за ее грехи. Начались придирки, упреки, скандалы и наконец, невестка не выдержала и ушла к родителям, тем более что незадолго до этого умерла ее мать, а отец остался один и часто прихварывал. Родила вдовушка крепкого, здорового мальчика, дав ему имя Григорий, очевидно в честь своего чубастого казака, ибо в ее роду, ни в роду мужа Григориев не было. Рос Гришка бойким и настырным, за это ему частенько перепадало от ребят. Его не то что не любили, а просто презирали. Большую роль сыграли пересуды взрослых о его матери, как о распущенной девке. Ему был объявлен негласный бойкот, выражавшийся в том, что его не принимали ни в одну компанию, не допускали к играм, не брали его с собой в лес, на речку, на рыбалку. Даже став парнем с привлекательной внешностью, он не находил отзыва в сердцах девчат. Кличка Казак выводила Гришку из равновесия, ибо всякий раз напоминало ему не только о его незаконном рождении, но и распутстве матери. Мать на злые языки не обращала никакого внимания, стойко переносила свою отверженность, сносно вела хозяйство и после смерти отца, растила сына и цвела неувядаемой красой. Видно сильно запал ей в сердце бывалый казак, если она так и не вышла замуж, да кто бы взял ее, помеченную печатью порока, в жены. И вдруг всем на удивление, после большого перерыва она родила девочку, которую люди тут же прозвали Казачкой. Поговаривали, что она вновь повстречала своего казака в корпусе Шкуро, проходившего через село. Другие утверждали, что она спуталась с первым попавшимся, чтобы отомстить людям за презрение к себе и своему сыну. Но никто так и не узнал всей правды, а она никому ее не открыла. Гришку поступок матери окончательно подкосил, он замкнулся в себе и возненавидел весь мир, перестал разговаривать не только с людьми, но и с матерью. Так и рос Гришка нелюдимым, отвергнутым людьми и обществом. Неизвестно как сложилась бы дальше судьба Гришки, если бы не началась ломка деревни. Он вступил в группу бедноты, и с этого момента началось его сближение с Митькой. Они потянулись друг к другу, почувствовав родство душ. Их отличало только то, что Митька рвался в диктаторы, в Наполеоны, а Гришка мечтал о том, что войдя во власть, отомстит всем, кто презирал и насмехался над ним. Вот и сейчас, пока Егор Иванович одевался, Гришка упивался своей властью над этим беспомощным стариком. Нет, он ничего не имел против его, не таил на него зла, ибо Пономарёвы никогда ему лично ничего плохого не делали. Просто, наконец, он понял, что такое власть и что на его улице наступил праздник. Теперь можно приказывать людям, распоряжаться их судьбой и они никуда не денутся. Когда Митька назначил его председателем сельсовета, он рассудил, что может наступить время и вся власть на селе окажется у него в руках. А пока будет смотреть в рот секретарю партячейки и все его распоряжения выполнять ревностно, со всей душой. Когда Егор Иванович оделся, Гришка распорядился, чтобы он следовал за ними. В сельсовете уже толпились все, кого сажали в амбар. Увидев вошедших, Митька встал из-за стола, сказав, что арестованные все в сборе, и попросил милиционеров отправляться с ними в дорогу. Милиционер скомандовал выходить. Все встали и вышли на улицу, где их уже ожидали пять повозок. Через несколько минут по Большаку потянулся обоз с арестованными под охраной милиционера.
В сельсовете остался только секретарь Мишка Жогов, да несколько баб, пытавшихся узнать судьбу мужей. Мишка молчал и делал вид, что ничего не знает. Яшка Пономарёв, узнав о случившемся, прибежал тоже и без толку покрутившись в сельсовете, кинулся к Сергею рассказать об аресте отца и мужиков. Когда они, уже с Сергеем, пришли в сельсовет, то Мишка рассказал, что арестовали всех, кто не сдал дополнительного налога, и повезли в город. А накануне Митька ездил в уездком партии, где, очевидно, получил на это разрешение, так как иначе не прислали бы с ним милиционера. Из их разговоров Мишка знал, что мужиков повезли в городскую тюрьму. Через час Сергей выехал со двора на облучке и кинулся вслед за арестованными.
Было пасмурное сырое утро. Мороз спал, потеплело, и в воздухе висела морозящая мгла. От сырого пронизывающего ветерка Сергея стало бить озноб. Его трясло, как в лихорадке, хотя и был одет тепло. Когда в горячке он гнал лошадь в город, в голове вертелось единственное — как попасть к Варейкису, которого совсем недавно утвердили в роли первого секретаря Областного комитета партии, и что ему сказать? Уже на постоялом дворе, напротив Щепного базара, куда он поставил лошадь, его охватило сомнение в том, что стоило ли ему вообще приезжать сюда? Да и вообще, станет ли секретарь Обкома разговаривать с ним? Допустят ли его к нему? А может быть, его в Воронеже нет? Он чуть было не собрался ехать домой, но обида на самоуправство Митьки, обида за стариков, над которыми тот издевается, обида за себя, ставшего калекой в борьбе за Советскую власть и вынужденного теперь терпеть унижения, заставило его, во чтобы — то ни стало, добиться приема у Варейкиса. И неважно, сколько для этого потребуется времени — неделя или целый месяц. Принятое решение немного успокоило и придало уверенности.
Когда Сергей вошел в вестибюль, он окончательно успокоился и только молил, чтобы Варейкис был на месте. Милиционер, стоявший у стола, приложил ладонь к виску и вежливо спросил, что ему нужно. — Мне необходимо встретиться с Иосифом Михайловичем! — ответил Сергей, поздоровавшись с милиционером.
— Он вас вызывал?
— Нет, не вызывал, но мне очень нужно его увидеть!
— У вас есть партийный билет?
— Нет, я не член партии!
— Тогда я ничем не могу вам помочь!
Сергей помялся, хотел было уйти, но увидев на стене за спиной милиционера телефон, спросил, можно ли позвонить.
— Нет, это служебный телефон!
— Тогда позвоните вы и скажите Варейкису, что его хочет увидеть Сергей Егорович Пономарёв, товарищ по Восточному фронту, старый его знакомый!
Милиционер с любопытством посмотрел на Сергея, словно не веря сказанному, но все же взял трубку и, позвонив куда-то, точно, слово в слово, передал его просьбу. Прошло немного времени, телефон зазвонил и постовой, приложив трубку к уху, сказал: «Слушаюсь!» Затем попросил Сергея раздеться в загородке, где стояли деревянные вешалки и, когда он разделся, объяснил, что нужно подняться на второй этаж и найти дверь с табличкой «Приемная», где его встретят. В просторной приемной стоял кожаный диван, несколько венских стульев и массивный резной стол, на котором стояло несколько телефонов и лежало стопкой несколько разноцветных папок. На стене висел небольшой портрет Ленина, который смотрел на входящих прищуренным, насмешливым взглядом. Из-за стола поднялся молодой человек в военной форме и то ли спросил, то ли утвердил:
— Сергей Егорович?
— Да!
— Иосиф Михайлович вас ждет! — сказал он и распахнул обитые кожей высокие двери.
Сергей перешагнул порог и увидел идущего к нему навстречу Варейкиса. Он был одет в защитную, полувоенного покроя гимнастерку, стянутую широким ремнем, и в хорошо начищенных, хромовых сапогах. Пока они шли друг другу навстречу, Сергей отметил, что Варейкис за эти годы почти не изменился. Та же легкая походка, та же элегантность, те же смеющиеся темные глаза. И та же пышная темно-каштановая шевелюра, слегка подернутая легкой сединой.
— О, Сергей Егорович, сколько лет, сколько зим! — Широко расправив руки для объятий, приветливо улыбаясь, воскликнул Варейкис. Секретарь с недоумением посмотрел на эту умилительную сцену и тихонько прикрыл дверь.
— Ну, что же, садись, коли пришел! — Указал на стул хозяин кабинета и пригласил гостя к столу. Усадив его, Варейкис взял другой стул и уселся напротив.
— Это сколько же мы с тобой, Сергей Егорович, не виделись? Наверное, с той поры, когда я тебя отправил на лечение в Москву, — сразу перешел на «ты» Варейкис, тем самым давая знать, что между старыми друзьями не должно быть никаких барьеров. От этого Сергей как-то сразу почувствовал себя раскованно и уютно.
— Как твои руки?
— Руки, Иосиф Михайлович, как руки, грех жаловаться, могло быть и хуже. Вот пальцы левой руки не сгибаются, но работает большой палец. Правая рука лучше и я могу работать топором, косой, лопатой, одним словом, особых затруднений не испытываю и привык обходиться тем, что есть.
— А как вообще-то живешь? Как детишки, как жена? У тебя их, кажется, двое?
— Четверо, Иосиф Михайлович!
— О, да ты молодец, а у меня двое. Ну, а вообще-то, как идут у тебя дела в селе? Какое настроение у крестьян? — Глядя темными, с лукавинкой, глазами на своего собеседника, как бы мимоходом поинтересовался Варейкис, и тем самым затронул тот вопрос, с который Сергей приехал в город.
— Дела, Иосиф Михайлович, идут хорошо, грех жаловаться. Землю дали, люди работают, село стало жить богаче, но нужно многое менять.
— А что именно?
— Селу нужна техника, нужны агрономы, нужна грамотность во всем. Но о какой технике можно говорить, если несчастный плуг стоит столько же, сколько стоят двести пудов хлеба, не говоря уже о сеялке, косилке, а тем более молотилке. Вроде я не глупый человек, читаю газеты, но ничего не могу понять в этой жизни. Говорят, что стране нужен хлеб, но государство его не покупает, хотя у крестьян он есть.
— Но для того, чтобы купить, нужны деньги, а их у государства нет. А деньги нужны не только для закупки хлеба, но и для закупки за границей оборудования для развития промышленности, строительства фабрик, заводов, железных дорог, жилья для рабочих, одним словом, нужны деньги и большие.
— Выходит, чтобы иметь деньги, нужно грабить крестьян? Но, это же порочный путь! Я так понимаю, что наше правительство хочет сначала ограбить крестьян, на эти деньги построить фабрики и заводы, которые потом снабдят село техникой. Но этого нельзя сделать, ни за год, ни за два. Боюсь, что когда наша промышленность начнет выпускать технику, то в селе некому будет работать. А не лучше ли бы было сначала поддержать крестьян, дать им кредиты, добиться расцвета сельского хозяйства, а потом уже на этой базе развивать промышленность?
— Может быть ты и прав, но ты не учитываешь того, что нам нужны не только косилки и сеялки, но и самолеты и пулеметы, пушки и другое оружие, а для этого нужны и заводы, и шахты и доменные печи, а этого нам никто не даст.
— А зачем нам нужны сейчас пушки? В газетах пишут, что весь запад сейчас находиться в кризисе, фабрики и заводы закрываются, миллионы рабочих выброшены на улицу, так что сейчас не до войны. У нас в России, кризис начался с началом первой мировой войны, и длиться больше десяти лет. У них тоже продлиться не меньше. А чтобы поставить на ноги сельское хозяйство, нам потребуется самое многое четыре года, если, конечно, поможет государство. Возьмем, к примеру, наш кооператив. Он существует пятый год и результаты налицо!
— Впервые слышу об этом. Интересно узнать поподробнее. Расскажи, Сергей Егорович, что это такое — кооператив? — Глаза у Варейкиса загорелись и он, откинувшись на спинку стула, скрестил руки и приготовился слушать.
— Собственно говоря, тут и рассказывать нечего. Вы, конечно, слышали о товариществах по совместной обработке земли? То же самое и у нас, но мы не только совместно обрабатываем землю, но еще продаем общий урожай и делим уже деньги, которые выручили после продажи продукции. Даже совместно возим на мельницу зерно.
— А как вы делите, если у вас разные семьи?
— Мы делим по количеству рабочих душ.
— Землю вы тоже объединили?
— Нет, хотя и хотелось бы уничтожить межи.
— А то же вам мешает?
— Чтобы иметь единое поле, необходимо новое межевание, а на это крестьяне не пойдут!
— Это почему же?
— Мужик подозрителен, недоверчив, боясь, что его обманут и вместо хорошей земли нарежут плохой.
— Выходит, что землю нужно объединить в единое поле?
— Хотелось бы, но не вижу в этом никакого смысла!
— Как так?
— Тут дело не в объединении земли, а характере мужика. Он никому не верит, уж очень долго его обманывали и не в его пользу. Если на Западе крестьяне владеют землей уже сотни лет, то у нас сотни лет мужик под гнетом. При татарах все, что выращивал крестьянин, отбиралось, при крепостном праве лучшие земли присвоили себе помещики, выделив мужику лоскутки земли, да еще он должен был платить тому же помещику подати. Советская власть дала землю крестьянам, а теперь хотят ее объединить, то есть опять отобрать у них. У нас мужика называют сермяжным, серым, но когда его грабят, он прекрасно понимает откуда это зло идет и кто за этим стоит. Тогда он берется за топор и примером тому служат восстания Разина, Пугачева, тамбовских крестьян. Живу я среди крестьян и хорошо знаю их натуру. Говорят, что у нас мужик забитый, не образованный, но он не умом, а нутром чувствует, откуда ему ждать беды. А беду и подвох он ждет от нашего правительства. Вот вы, Иосиф Михайлович, сказали, что нам нужна промышленность, нужны предприятия, нужно вооружение, а вот мои мужики, когда я им также стал объяснять, задали мне вопрос. Они спросили: «Если государству нужны деньги, то куда же делись те деньги, золото и бриллианты, когда грабили помещиков и купцов, фабрикантов, дворянство, разрушали храмы и монастыри? Растащили, а теперь, выходит, грабить некого, остались только крестьяне?» Даже для меня такие откровения стали полной неожиданностью. Вот эти вопросы я и адресую вам — руководителю областной партийной организации. Вы извините меня, Иосиф Михайлович, за прямоту, но я не могу поступить иначе. Вы меня знаете давно, вы в свое время назвали меня своим другом, я и говорю вам это, как другу. Колхозы, о которых последнее время так много говорят, не что иное, как новая грабиловка. И еще я не верю, что наш сельский секретарь партячейки творит все безобразия по своему произволу. Для этого ему не хватит мозгов. Ему дает установку и во всем консультирует уездком, а он, в свою очередь, получает указания из обкома, то есть от вас. Неужели, Иосиф Михайлович, вы не видите, что такая политика ведет нашу страну к краху?
— Если бы, Сергей Егорович, все зависело от меня, то было бы немного по-другому. Но я не могу противопоставлять свое мнение политбюро!
— Я понимаю, что спорить с политбюро вы не в силах, но в области вы можете кое-что сделать?
— А что именно?
— А хотя бы оградить мой кооператив от произвола нашего секретаря партячейки!
— А как именно?
— Во-первых, всех членов кооператива, исключая меня и моего брата — кавалера ордена Красного Знамени, зачислили в кулаки. Во-вторых, на них наложены непосильные налоги. Они раз выплатили налоги, потом дополнительно наложили на каждый дом еще по сто пудов зерна и сто рублей, а потом наложили еще по сто пудов.
— И как же мужики реагировали на это?
— Очень просто — отказались платить. И что вы думаете сделал наш партийный руководитель? Вызвал милицию, арестовал членов кооператива, включая стариков, отвез в город и посадил в тюрьму. Собственно ради них я и приехал к вам!
Варейкис быстро поднялся со стула, зашел за стол и громко окликнул своего секретаря. Тот, такой же подтянутый и аккуратный, тут же появился в кабинете и встал навытяжку, держа в руках блокнот с карандашом.
— Саша, соедини меня с прокурором! — тихо распорядился Варейкис и Сергей увидел, как на его лице заходили желваки. Когда секретарь удалился, Варейкис сел за стол, облокотился на него, зажав голову руками. Так он просидел несколько минут и когда поднял голову, то глаза его приняли обычное выражение лукавинки и доброты.
— Не знаю, Сергей Егорович, что тебе сказать, да и не могу я всего, что знаю, рассказывать. А как бы ты поступил с деревней, если бы все зависело от тебя?
— Я бы запретил создавать крупные колхозы, объединяя в них целые деревни. Колхозы должны быть маленькими, в десять-двенадцать дворов и по родственным связям. Еще я прекрасно знаю, что государство выделяет для колхозов миллионы рублей, а зря! Крестьянам и особенно колхозам денег давать нельзя. Нужно давать банковские кредиты под залог имущества и земли, что бы каждый знал, что долги нужно платить. А так они эти деньги проедят, пропьют и опять станут просить. Крестьянин сам должен покупать технику, удобрения, семена и, обрабатывая землю, зарабатывать для этого деньги. В противном случае, он кое-как поковыряет землю, кое-как и скосит. Урожаи начнут падать, земля тощать, и останемся мы без земли и хлеба. Вот мои мнения, Иосиф Михайлович!
— Таковы, как ни странно, мнения и мои. У нас в Черноземье самые тучные черноземы, во всем мире нет таких земель. Кроме того Курская аномалия — это мировые запасы железной руды, в Липецке имеется металлургический завод, заложенный еще Петром Первым, и при этом люди живут по — нищенски. Об этом я говорил на Пленуме ЦК, но меня раскритиковали и сказали, что я последователь Бухарина!
В это время в кабинет вошел секретарь и доложил, что прокурора на месте нет, и приедет он, примерно, через час. Варейкис кивком головы отпустил его, встал из-за стола, подошел к Сергею и подал ему для пожатия руку. Обменявшись рукопожатием, он похлопал Сергея по плечу и сказал:
— Спасибо, Сергей Егорович, что навестил старого друга, спасибо за беседу. Будешь в городе, заходи. А насчет твоих мужиков не беспокойся — все уладится, а вашим партработникам я намылю голову. Счастливого тебе пути, передавай привет семье!
— Извини, Иосиф Михайлович, что по пустякам отнял у тебя столько времени. Поклон от меня и твоей семье!
На прощанье они обнялись, еще раз пожали друг другу руки и разошлись, чтобы больше никогда не встретиться.
Варейкиса расстреляли в 1939 году на Дальнем Востоке, а в тот день, после ухода Сергея, в Москве, на стол секретарю ЦК партии Кагановичу Л.М. легла телеграмма с просьбой направить для борьбы с кулачеством в Воронеж дополнительные вооруженные формирования. Телеграмму подписал секретарь ВКП (б) Центрально-Черноземной области Иосиф Михайлович Варейкис.
Пока Сергей мирно беседовал с Варейкисом, в тюрьме происходили иные события. Арестованных мужиков принимал сам начальник тюрьмы, крупный мужик, с оплывшим лицом и явно с похмелья. Развалившись на венском стуле, в расстегнутой шинели, он тупо смотрел в поданную Митькой Жуком бумагу, плохо соображая и с трудом вникая в текст. Потом поднял осоловевшие глаза на толпившихся возле дверей мужиков и охрипшим голосом спросил:
— Кто такие?
Митька ответил, что это саботажники, кулаки, направленные в тюрьму, где они должны ждать суда и приговора.
— Василенко! — Прохрипел начальник тюрьмы куда-то в пустоту и вновь погрузился в изучение бумажонки.
Вошел мужчина в годах, в ладно пригнанной шинели, с пышными фельдфебельскими усами на круглом лице и остановился перед начальником.
— Вот, Василенко, всех этих саботажников в двадцать первую камеру, — указывая на бумажку, прохрипел начальник.
— Так там сидят веселые ребята! — заметил Василенко, стараясь просветить своего начальника.
— Я и без тебя это хорошо знаю. Вот поэтому и нужно их поселить туда, чтобы вместе повеселились для пользы дела.
О пользе дела мужики узнали в камере. Дело было в том, что в этой камере зимовали воры в законе и воры всех мастей помельче. Летом они промышляли сбором всего, что плохо лежит, а на зиму, дав себя поймать на мелкой краже, садились в тюрьму на три-четыре месяца, где им был готов и стол и дом. Возглавлял эту шайку Иван Жандар, земляк арестованных Митькой мужиков. Вот и на этот раз Жандар со своими приближенными зимовал в тюрьме, в двадцать первой камере. Милиция города считала, что эту шайку легче держать под замком, чем гоняться за ними по злачным местам. В тюрьме они вели себя хорошо, с охраной были вежливы и покладисты. Других заключенных к ним не подсаживали, за исключением тех случаев, когда тюремному начальству нужно было избавиться от неугодного им арестанта. То ли с похмелья, то ли по злому умыслу, но начальник тюрьмы поместил арестованных мужиков именно в камеру к Жандару.
Жандар в это время сидел на верхних нарах, в окружении своих подручных, и играл в карты. На нем была чистая белая рубашка и новые шерстяные брюки. Он был босым и огромные лапищи ног лежали на животе пьяного Ваньки Клина, неизменного адъютанта. Вчера они от дружков с воли получили богатую передачу, были сыты и навеселе. Слабаки, охмелевшие после вчерашней попойки, валялись там, где их свалила водка, остальные же продолжали опохмеляться, распевая песни. И вот в почти семейную идиллию неожиданно вторглись незнакомые люди в лице арестованных деревенских мужиков. Воровская шайка вначале была потрясена бесцеремонным вторжением в их владения посторонних лиц. Мужики, сбившись в кучку около входа, молча озирались вокруг, не зная, что делать. Довольно большое помещение с одним тусклым, зарешеченным оконцем под самым потолком произвело на них удручающее впечатление. Справа и слева, во всю камеру, тянулись двухъярусные деревянные нары. Слева, в углу, стояла довольно вместительная «параша», накрытая деревянным кругом, справа, на табуретке, железный бак с кружкой. На нарах, под нарами, да и просто на полу, валялись странные люди. Все они были босыми, многие без рубашек и в одних подштанниках. Воровская аристократия, увидав новосёлов, удивленно и с интересом стали рассматривать толпившихся у дверей мужиков. Но немая сцена длилась не долго. С верхних нар слез верзила, голый по пояс, с большим крестом на шее и серебряной серьгой в мочке уха. Он упругой кошачьей походкой подошел к столпившимся мужикам, обошел всех по очереди, словно принюхиваясь к ним, и повернувшись к своим дружкам, процедил сквозь зубы:
— Братва, перед вами явно представители сельского кулачества, одним словом, мироеды. Посмотрите, как они одеты, как обуты, а мы, посмотрите на себя, ходим голые, без рубах и даже штанов. Справедливо ли? Нет несправедливо. Поэтому предлагаю реквизировать частную собственность и разделить между членами нашего благородного сообщества. Кто, за? Единогласно!
Сидевшие на нарах молчали, с улыбками наблюдая за комедией, разыгрываемой их товарищем. Очевидно, этот верзила не в первый раз потешал своими выходками теплую компанию, и она с нетерпением ждала от него нового номера. А он, войдя в раж, продолжал кружиться перед растерявшимися мужиками.
— Вот ты, дядя, — подойдя вплотную к Хохлу и, указывая на него грязным пальцем, процедил верзила, — скажи нам, зачем тебе шикарный клифт с белым воротником и опушкой? Тебе больше подойдет серый арестантский халат, а я скоро выйду на волю, и ходить по городу без прикида мне будет как-то неудобно, да и неприлично. Вот и скажи мне, что я не прав? Возражений нет, а коли так, то прошу одолжить мне на время свои шмотки. Ты сам изволишь раздеться или пригласить камердинера? Ты не стесняйся, говори! И я к твоим услугам приставлю всю братву вон с того балкона. Они тебя и разденут и разуют, и спать уложат. Да я вижу, что ты, брат, стесняешься, ну что ж, тогда я сам окажу тебе услугу и не стану упрекать себя в этом, ибо почту за честь!
Если бы верзила не был под хмельком или обладал бы более проницательным умом, он бы не стал паясничать, а избрал бы другую тактику. Но потакание шайке со стороны охраны, беззаконность и всевольность сыграли с ним плохую шутку. Он был так уверен в солидарности и поддержке своих дружков, что даже не ожидал получить отпор со стороны мужика. Хохол, по своей натуре, был человеком хладнокровным, мирным, мягким, но не терпел хамства, лжи и насилия. Тут он становился яростным и неудержимым. Пока верзила выламывался и паясничал, Хохол молчал, наливаясь ненавистью к этому клоуну и, когда тот протянул грязные руки к вороту полушубка, то получил такой удар в грудь, что нелепо подпрыгнул, взмахнув длинными ногами, перелетел через всю камеру и растянулся на полу. К его чести нужно отметить, что он тут же в горячке вскочил на ноги и словно разъяренный бык бросился на Хохла. Верзила был на голову длиннее и поэтому Хохол, пригнув голову, не видел его искаженного лица, но заметил, что по широкой груди верзилы стекала струйка крови, а массивный крест был помят и впился в тело. Второй удар Хохла вновь пришелся в крест верзилы и тот, взмахнув руками, навзничь свалился на пол. На этот раз он уже не поднялся.
Мужики, конечно, хорошо знали Хохла, хорошо знали его силу и возможности, но для ворья это было полной неожиданностью. Когда они увидели плачевный итог скоротечной схватки, то тут же спрыгнули с нар и бросились к мужикам, но в драку не полезли, боясь встретиться с кулаком Хохла. Кроме того, рядом с ним теперь возникла квадратная фигура Митрона Глухого. Но замешательство длилось не долго. Растолкав своих дружков, вперед вышел Ванька Клин, в его руке блеснуло тонкое лезвие, и он кинулся на Митрона. Клин был долговяз, жилист и подвижен, но Глухой ловко перехватил его руку и сжал с такой силой, что тот от боли присел, выпустил нож и стал на колени перед Митроном. Потом он поднял Клина над своей головой, размахнулся и словно бревно бросил его в кучку ворья. Удар был настолько сильным и неожиданным, что вся компания не удержалась на ногах и повалилась на пол, не в силах выбраться из этой кучи. Жандар, между тем, сидел на нарах и благодушно взирал всю эту кутерьму. Он сам не принимал участия в этой стычке потому, что считал ниже своего достоинства вмешиваться в эту разборку. Где-то в его сознании вдруг возникли видения из далекого детства, когда он наблюдал деревенские драки и особенно драки в семье Рыбиных, смотреть на которые собиралось чуть ли не все село. Когда ряды шпаны полегли на полу, Жандар, к своему удивлению, узнал в силаче бывшего своего односельчанина Рыбина Митрона. Если бы он узнал Митрона раньше, то, может быть, все сложилось бы иначе, но Жандар давно порвал с деревней и многих мужиков, стоявших около дверей, уже не помнил. И как только Жандар узнал бывшего своего соседа, он поднял руку и крикнул:
— Ша, братва, кончай базар!
Почему-то все, и мужики, и жулики, сразу притихли и повернули голову в сторону Жандара. Он легко спрыгнул с нар, шагнул навстречу мужикам, подошел и обнял широкие плечи Митрона, прижал его к своей груди и весело воскликнул:
— Дядя Митрон, да ты ли это? Сколько лет, сколько зим прошло, но тебя нельзя ни с кем спутать. Ты один такой на Руси, ты — же наш Илья Муромец!
Митрон тоже не признал в Жандаре своего бывшего соседа, шустрого и хулиганистого подростка. Теперь его обнимал огромный детина, на целую голову длиннее даже самых высоких мужиков Чульневых. Митрон в первый момент растерялся, посмотрел на мужиков и спросил:
— Кто он такой и что он говорит?
Егор Иванович успел перед этим шепнуть Хохлу, что начальником этой банды был ни кто иной, как Иван Поляков, племянник Нюрки Поляковой, спаливший её дом.
— Это, Митрон, Иван Поляков, твой бывший сосед. Он узнал тебя и хочет поговорить с тобой! — кричал Хохол в ухо Митрону. Тот, приложив ладонь, внимательно выслушав его, повернул голову к Жандару, и его лицо расцвело радостной улыбкой.
— Он что, совсем глухой? — Спросил Жандар мужиков.
— Да, маленько оглох, — ответили они.
— Ну ладно, земляки, раздевайтесь, а то тут у нас жарко. Сложите одежу вон там в угол и садитесь на нары. Нужно отметить встречу, поговорить. Да вы не бойтесь, никто ничего у вас не украдет, всё будет в целостности! — ободрил их Жандар, видя замешательство мужиков. — А ну, кишь отсюда!
Всех, сидевших на нарах, словно сдуло ветром. Мужики, видя доброжелательное отношение к ним главаря шайки, немного пришли в себя, успокоились и стали раздеваться. Когда по приглашению Жандара все расселись, вдруг, словно по волшебству появились несколько бутылок водки и богатая закуска. Тут были колбаса, пахнувшая чесноком, жареная рыба, ломтики сыра, балык, сало и даже икра. Мужики, было, полезли в свои узелки, но Жандар прикрикнул на них, чтобы не смели этого делать, пояснив, что они у него в гостях, а хозяин их обязан угостить.
— Выходит, что если я приеду к вам в гости, то должен буду привозить с собой еду? Так в высшем свете не делают!
Когда выпили по первой, мужики после всех переживаний накинулись на добротную еду и скоро подмяли всю подчистую. Жандар махнул рукой, и тут же вновь возникла гора закуски и водка. После второго круга мужики осоловели, языки развязались, и они наперебой стали изливать душу атаману шайки воров и грабителей. Выслушав рассказ о сельских новостях и страданиях мужиков в своей родной деревне, Жандар сказал:
— Вот, что вам, земляки, я скажу. Ваше дело, конечно, швах, но не смертельное. Все будет зависеть от судьи. Если попадется гад, то вам за саботаж могут припаять по два, три годика, а если попадется умный человек, то вас поругают, попугают и отпустят на все четыре стороны. Но не тужите и не переживайте, ведь в тюрьме сейчас живется лучше, чем на воле. Небось, не часто у себя дома вы едали такой закусон? Чем не жизнь? Тепло светло и мухи не кусают, да к тому же еда бесплатная. Выпил, нажрался и хочешь, спи, хочешь в карты играй. Нет тут ни Митьки Жука, ни хлебопоставок, ни партии!
— А скажи, Иван! — обратился к нему добродушный и бесхитростный Митрофан Пономарёв, показывая на остатки пищи, — это все тюрьма дает?
— Чудак ты, дядя Митрофан! Конечно, тюрьма. Ведь не могу же я сходить в магазин, вот и приносят охранники всё, что мы закажем!
— И бесплатно?
— А где мы деньги возьмем, если сидим в тюрьме. Мы не сами пришли, нас сюда привели, вот и пусть кормят!
— И то правда! — согласился Митрофан.
Неизвестно сколько бы времени еще потешался Жандар над доверчивым Митрофаном, если бы внезапно, с лязгом, не отворились двери, и в камеру влетел взъерошенный начальник караула. То ли от беготни по этажам тюрьмы, то ли от взбучки начальства, он в первый момент не мог вымолвить и слова, а только пялил глаза на притихших арестантов. Переведя дыхание, он прошелся взад — вперед по камере и, остановившись у двери, приказал:
— Немедленно навести порядок! Скоро здесь будет прокурор. Да смотрите мне, чтобы было тут без выкрутасов. Иначе вы у меня по-другому запоете!
И с этими словами он, как влетел, так и вылетел из камеры. При этом явлении Христа народу, никто из шпаны даже не шевельнулся. Очевидно начальник караула был для них не указ, но редкое появление прокурора в тюрьме было чрезвычайным происшествием и от этого визита ничего хорошего ждать не приходилось. Вся шайка боялась, что прокурор в гневе выгонит их из тюрьмы, и тем самым лишит всех теплого приюта. Мужики, видя беспокойство своих сокамерников, растерялись. Жандар распорядился навести порядок и, в первую очередь, затолкать под нары всех, кто не держался на ногах и прикрыть их тряпьем. Остальным было указано умыть пьяные рожи и надеть штаны и рубахи. Едва успели навести относительный порядок, как двери вновь отворились, и в камеру вошел начальник тюрьмы, прокурор и несколько охранников. Прокурор был высокого роста, в годах. На нем было дорогое драповое пальто с каракулевым воротником, на ногах ботинки с галошами. На голове очки и шляпа. Шею обвивал яркий шерстяной шарф, из которого проглядывал белоснежный воротничок рубашки с бабочкой. Во всем его облике, манере говорить и держаться, чувствовалась аристократическая косточка, что передается из поколения в поколение.
— Встать! — Прохрипел начальник тюрьмы.
Шпана по привычке, быстро вскочила и построилась в две шеренги, а мужики замешкались, не зная, что делать. Наконец они пристроились к своим сокамерникам, затаив дыхание. Прокурор окинул взглядом это сборище и, повернувшись к начальнику тюрьмы, спросил:
— Кто такие?
— Вот это уголовники, — указал он на шеренгу воров, а это саботажники из деревни, сегодня утром пригнали!
— Ясно, — тихим, спокойным голосом проговорил прокурор. — Жалобы имеются?
— Никак нет, гражданин начальник! — Дружно гаркнули грабители.
— Вот и хорошо, прошу пройти в следующую камеру!
Прокурор повернулся и вышел. За ним стайкой потянулись сопровождающие его лица.
Не успели арестанты разойтись по углам и обсудить внезапный визит прокурора, как двери вновь отворились, пропустив в камеру начальника тюрьмы. Все обернулись к нему.
— А ну, деревня, собирайте свои шмотки, и уматывайтесь отсюда, чтобы вашего духу здесь не было!
Мужики ошалело смотрели на начальника и ничего не понимали. Им казалось, что тот узнал про драку и выпивку, и ждали самого худшего.
— Ну чего выпучили глаза? — прикрикнул на них Жандар, — Сказано вам, чтобы убирались, вот и собирайтесь домой, а то начальник передумает, и будете здесь еще долго загорать!
Наконец, до мужиков дошло, что их отпускают, и стали поспешно собираться. Через минуту все были одеты и толпились у дверей, Жандар подошел, каждому пожал руку и пожелал доброго пути. Егору Ивановичу он наказал, чтобы тот поклонился бабушке Вере и пожелал ей здоровья. Начальник тюрьмы пересчитал мужиков, вывел в коридор и передал начальнику караула. Выйдя из тюрьмы, они потянулись на хлебный базар, надеясь найти там кого-нибудь из сельских и с ними вернуться домой, а Егор Иванович решил пойти к дочке.
Никто из них не знал, что своему освобождению они обязаны секретарю Обкома партии Варейкису Иосифу Михайловичу, который выполнил свое обещание, данное Сергею.
Конец первой части
Часть 2
Зима прошла спокойно. Наступила весна 1929 года. Местное начальство больше не беспокоило народ хлебопоставками, никого не арестовывало, молчало про колхозы. По селу ходили слухи, что правительство опасается резкого уменьшения посевных площадей, и поэтому не трогает крестьян. Кооператоры, кроме того, были уверены, что это секретарь Обкома Варейкис сдержал слово, данное Сергею, и намылил головы не в меру ретивым уездным и сельским партработникам. Но житейский опыт предсказывал, что тишина наступила перед бурей. Буря грянула на пасху.
В тихое солнечное утро, после всенощной, народ потянулся к церкви. Шли целыми семьями, не спеша. Мужики чинно раскланивались со знакомыми, слегка поднимая картуз с высокой тульей. Те, что побогаче, вырядились в шерстяные костюмы, яловые сапоги с голенищами-бутылками и обязательными галошами, несмотря на сухую погоду. Галоши служили не только признаком достатка в семье, но и предохраняли от стирания подошвы сапог, порой служивших нескольким поколениям. Бабы выглядели проще. В клетчатых поневах и высоких, со шнуровкой, сапожках. На голове у всех были белые платочки, подвязанные узелком у подбородка, Молодежь выглядела ярко и цветасто. Ребята красовались разноцветными шелковыми атласными рубахами, новыми пиджаками, картузами с блестящими козырьками, из-под которых выглядывали расчёсанные чубы. Брюки заправлены не только в яловые, но у кого и в лаковые сапоги. Обязательным был витой, с бахромой на концах пояс. Девчата все в расшитых сарафанах и в таких же, как у матерей, сапожках. На шеях поблескивали монисты, но головы обязательно покрывал скромный, белый платочек.
Те, кто простоял всенощную, высыпали на паперть и поджидали своих родных, а вновь пришедшие, крестясь, входили с серьёзным видом в церковь, выставляли на расставленные вдоль окон столы куличи, пасхи, крашеные яйца для освящения и шли под благословение священника. Из церкви выходили уже с просветлёнными лицами, с какой-то одухотворённостью и умилением во взорах. Даже ясное солнышко нежно и ласково смотрело на эту нарядную и весёлую толпу. Люди обнимались, целовались, пожимали друг другу руки, хлопали по плечам и спинам, поздравляя друг друга с воскресением Христовым. Ребята гонялись за девчатами, стараясь поймать свою избранницу, и предлагали похристосоваться, утерев пред этим губы рукавом. Девчата визжали, вырывались, но ради такого удовольствия от предложения не отказывались.
В этот миг всеобщей радости и ликования в калитку церковной ограды вошли Митька Жук, Гришка Казак, Петька Лобода с сыном Семёном, Варька Култышкина и ещё несколько членов группы бедноты. Митька поднялся на паперть, выждал мгновение, и громогласно заявил на весь церковный двор:
— Товарищи крестьяне! По постановлению партии и нашего правительства, а также по решению сельской парторганизации и сельсовета, церковь, как рассадник опиума среди народа, закрывается и отныне всякая церковная служба запрещается. А поэтому прошу всех разойтись по домам. Тех, кто вздумает баламутить народ и мешать справедливому делу борьбы с суевериями, будем арестовывать, и предавать суду!
На глазах онемевшей после такого выступления толпы, Митька, не сняв шапки, вошёл в церковь, в сопровождении подручных, и остановился перед старым священником отцом Василием. Посмотрев презрительно на батюшку, Митька вырвал у него из рук массивный серебряный крест и сказал, чтобы тот убирался вон. Отца Василия после всенощной плохо держали ноги, а известие о закрытии церкви подкосило его совсем. Он пошатнулся, схватился рукой за столик с праздничной иконой и с трудом, шаркая старческими ногами, пошел на улицу. За ним, крестясь и всхлипывая, потянулись те, кто ещё не успел освятить куличи и пасхи. Люди стали ставить пасхальные яства прямо на паперть и просить отца Василия освятить принесённое с собой, суя ему в руки захваченное в церкви кропило. Ведь грех вернуться домой и не разговеться освящённой пасхой. Священник поднял голову, оглядел свою паству и, видя скорбь и мольбу в их глазах, прибодрился и стал махать почти сухим кропилом над куличами, осеняя еду и людей крестным знамением. Церковь опустела. Остались там только Митька со своей свитой, но во дворе и за оградой продолжал толпиться народ, хотя после великого поста и скорбной недели люди очень нуждались в основательном обеде, чтобы восстановить силы.
Забрав ключи у дьячка и выпроводив всех на улицу, организаторы борьбы с мракобесием народа начали крушить обстановку в церкви, сдирать убранство, бить цветные витражи. Разгромив иконостас и алтарь, содрав со стен образа, они стали охапками собирать иконы и выбрасывать на улицу. Когда лики святых были свалены в кучу, их облили специально принесенным керосином и подожгли. Люди, окружившие необычный костёр, крестились и с ужасом глядели на дикое святотатство, говоря, что такое даром не пройдёт.
Когда сухие и промасленные иконы жарко заполыхали, люди не выдержали и бросились к костру, голыми руками выхватывая из него образа, прижимая их к себе, завёртывая в платочки, фартучки и торопливо унося домой. Первой бросилась к костру набожная бабушка Варвара Володякина. Она успела вытащить из костра икону Казанской Божьей Матери, небольшую икону Владимирской Божьей Матери и редкую икону Божьей Матери Троеручицы. Но многие иконы старинного письма так и не были спасены, сгорели в дьявольском костре. Все, что творилось в этот день вокруг церкви, не укладывалось ни в какие рамки здравого смысла. Партийные руководители и активисты — недалекие, оболваненные большевистской пропагандой нелюди, не разумели того, что они творили. Они не понимали, что, разгромив церковь, вынимали из русского человека душу. То, что они вытворяли, не делали даже татарские орды.
Расправившись с внутренним убранством довольно легко, вандалы зашли в тупик, рассуждая, как же снять с колокольни колокола и кресты. Давно в селе шли упорные слухи, что два огромных креста, венчающие купола церкви, сделаны из чистого золота. Ели бы люди могли здраво рассуждать, то они бы поняли, что не мог дед последнего барина отвалить на сооружение крестов десятки пудов золота и не потому, что ему этого было жалко, а потому, что он, военный, не имел никакого богатства. Весь род Сомовых тянул воинскую лямку, и богатства не накопил. На ноги они встали после Отечественной войны 1812 года, когда погиб в бою единственный сын деда, генерал, служивший в армии Багратиона. Неизвестно, чем угодил генерал царю, но сыновья генерала получили поместья не только в Воронежской губернии, но и на Украине, а дед решил увековечить память о сыне установкой позолоченных крестов на куполах сельской церкви. С тех пор Сомовы разбогатели, вошли в силу и считались одними из самых состоятельных людей в России.
Но, ни Митька Жук, ни его подручные не знали истории Сомовых и считали, что все баре купались в золоте. Это призрачное золото Сомовых затуманило недалёкие умы сельских активистов, которые просто жаждали поскорее добраться до крестов, но прежде нужно было сбросить с колокольни колокола. А как это сделать никто не знал. Кто-то подсказал, что колокола нужно сначала опустить на крепкие бревна, а потом сбросить их с колокольни на землю. Так и было сделано. Целых три дня ретивые добровольцы с помощью верёвок опускали колокола на брёвна, а потом сбрасывали их на землю. Искореженный, разбитый металл погружали на повозку и отправляли в город.
С крестами вышла заминка. Вся беда заключалась не только в том, что эти кресты были установлены на значительной высоте, но и в том, что пятачок, на котором они крепились, мог вместить самое большее два человека. Поэтому после долгих споров было решено послать двух человек, которые должны были привязать к крестам верёвки, спустить их до земли и общими усилиями свалить кресты на землю. Когда решение было принято, то выяснилось, что никто не желает подниматься на колокольню и рисковать своей жизнью.
На Руси ещё давно было замечено, что в богатом селе проживало не менее двух дураков, а в селах попроще, обычно, по одному. Не было исключением из правил и это село, в котором проживал дурачок Ванька Попов, парень лет тридцати, крепкое и безобидное существо. После закрытия церкви люди разошлись по домам, занялись своими повседневными делами, и только бездельники, типа Лободы и Култышкиной, каждый день болтались в церковной ограде, а вместе с ними, ввиду постоянной незанятости, тупо смотрел на возню взрослых людей своими телячьими глазами Ванька. Каждый сброшенный с колокольни колокол он встречал воплем и даже слегка подпрыгивал. Когда же мужики грузили обломки колоколов на подводы, Ванька с каким-то детским восторгом бегом подносил им осколки искореженного металла.
Разбитые колокола увезли и после долгих споров и препирательств, Семён Лобода вызвался залезть на колокольню и привязать верёвки к крестам. Договорились, что Семён поднимется наверх, спустит вниз верёвку, к ней подвяжут лестницу, которую потом будут поднимать до самой маковки. Когда Семен, обвязанный веревками, поднялся по крутым порожкам на колокольню, то увидел, что за ним ползет дурачок. Он хотел отругать его и отправить назад, но передумал, решив, что крепкий парнишка не будет ему помехой. До звонницы они вдвоем быстро подняли лестницу, а потом Семен, заставив Ваньку её придерживать, пополз выше. Добравшись до следующего яруса, он нечаянно дернул веревку и лестница, упиравшаяся нижним концом в узкий карниз, скользнула вдоль стены вниз, потянув за собой дурака. Тому нужно было бы бросить лестницу, а он со страху еще сильнее вцепился в нее, не удержал, перелетел через барьер и, распластавшись в воздухе, грохнулся на землю. Это произошло в считанные секунды и так быстро, что стоявшие внизу мужики не сразу поняли, что случилось. Когда подбежали к телу, то Ванька уже не дышал, а из носа и открытого рта струились ручейки алой крови. Случись такое несчастье в другое время, все село пришло бы проститься с этим, Богом обиженным человеком, но теперь во всём селе не нашлось даже несколько досок на гроб, да никто не хотел его и ладить. Отец Василий, сославшись на болезнь, отказался отпевать покойника. Так и похоронили сельскую достопримечательность без гроба, завернув в дырявое веретьё. Иногда люди бывают злыми.
После этого трагического случая никто из партийных и комсомольских работников больше не отважился снимать кресты. Вызвали из города двух верхолазов, которые довольно быстро с ними расправились, но какое же было разочарование активистов, когда они узнали, что оба креста были отлиты из обычного чугуна, покрытого позолотой. А вот массивный серебряный крест отца Василия, серебряные оклады ценных икон, дорогие, расшитые золотом, покрывала, серебряная чаша для причастия — все исчезло без следа.
Закрытие церкви еще долго занимало умы крестьян. Но наступило жаркое лето с бедными дождями, виды на урожай были плохими, и закрытие церкви оттеснилось на задний план. Непосильное бремя хлебопоставок в предыдущий год настроило мужиков сократить посевы на треть, но многие горевали, что совершили ошибку. Крестьяне, пригорюнившись, думали, чем будут кормить свои семьи и скотину. Но недаром говориться, что пришла беда, открывай ворота. Очередная беда пришла глубокой осенью в лице двух уполномоченных, присланных Обкомом партии. Оба до этого работали в Воронеже на паровозоремонтном заводе. Один из приезжих, Козырев Иван Иванович, работал на заводе механиком и был прислан для машино — тракторной станции, второй же, Гандобин Василий Ефимович, бывший слесарь, был направлен для организации колхоза.
Прибывшие из области коммунисты сразу взяли быка за рога. Переговорив с Митькой Жуком, Козырев на второй день подался в город и через неделю пригнал в село два колёсных трактора Фордзона. Привез с собой еще несколько плугов, борон и сеялку. Для МТС отвели усадьбу барина Сомова, где разместились не только сами уполномоченные, но и приобретённая техника с ремонтной мастерской. Там же организовали курсы трактористов. Выполняя призыв партии «Женщины — на трактор!», Козырев, самой первой, зачислил на курсы Варьку Култышкину, хотя та была совершенно безграмотной.
Пока Козырев хлопотал по поводу открытия МТС, Гандобин изучал обстановку, знакомился с жителями, ездил в Обком на совещания и в конце февраля 1930 года, развернул бурную деятельность по организации колхоза. В первую очередь провели партийное собрание, куда были приглашены члены группы бедноты.
За столом, в президиуме, сидели Гандобин, Митька Жук и Мишка Жогов, бессменный секретарь сельсовета и секретарь всех собраний и заседаний. Когда большинство приглашенных заняли места за партами местной школы, из-за стола встал Митька Жук и объявил, что собравшихся людей достаточно, а поэтому просит разрешить открыть партийное собрание. Быстро утвердили президиум в составе сидящих за столом. Потом встал Гандобин, откашлялся в кулак и глуховатым голосом сказал, что на обсуждение данного собрания выносятся следующие вопросы:
1. О чистке партийных рядов.
2. О приёме в партию.
3. О коллективизации сельского хозяйства.
4. О хлебозаготовках.
5. Земельный вопрос.
6. Прочие вопросы.
— Какие будут соображения по повестке дня? — спросил присутствующих Гандобин и, не дождавшись ответа, заметил, — Нужно считать, что ваше молчание — это знак согласия, а поэтому разрешите предоставить первое слово нашему секретарю партийной организации, товарищу Лавлинскому Дмитрию Степановичу.
Гандобин сел, а Митька вскочил на ноги, словно его подбросила тугая пружина. Он зачем-то несколько раз переложил какие-то бумажки с места на место, взял их в руки и, вздернув голову, словно норовистый конь, начал говорить:
— Вот тут Василий Ефимович сказал, что даст слово секретарю парторганизации.
Это не ошибка, это правда, ибо у нас теперь не партячейка, а целая организация, состоящая из пяти членов партии и одного кандидата, так как в нее влились еще два партийных организатора колхозного строительства из города. Надеюсь, что вскоре лучшие из вас тоже пополнят ряды нашей партии. А теперь о чистке партийных рядов. Сейчас по всей стране идет чистка партии, ибо за последнее время в нее пробрались чуждые партии буржуазные элементы, троцкисты, непманы, просто случайные люди и пытаются развалить ее изнутри. Мы этого допустить не можем, а поэтому партия постановила провести чистку ее рядов с привлечением всех беспартийных, чтобы ни один проходимец не остался незамеченным. Как я уже сказал, в нашей партячейке было три члена партии — это я — раз, бывший председатель сельсовета Попов Александр Иванович — два, Пономарёв Никита Егорович — три и один кандидат в члены партии — Попов Григорий Федорович. Все мы местные жители, здесь родились и выросли на ваших глазах. Вы хорошо знаете не только нас, но и наших родителей. В нашу организацию влились ещё два товарища. Это Козырев Иван Иванович и Гандобин Василий Ефимович, которые направлены к нам Обкомом партии для коллективизации сельского хозяйства. Думаю, что Обком кого зря на такое дело не пошлет, ведь там не дураки сидят. Да они и сами еще расскажут о себе. К нашему общему сожалению, Пономарёв Никита Егорович, заслуженный человек, воевавший в Гражданскую войну и награждённый орденом, сейчас скатился в болото мелкобуржуазной собственности, оторвался от партии, перестал посещать собрания и даже не платит членские взносы. Кроме того, он приходиться сыном одному из самых злостных кулаков, да и сам метит в кулаки. Вот и сегодня он не явился на собрание. Поэтому мы тут посоветовались с товарищами и решили, что ему не место в рядах партии. Какие будут мнения товарищи?
Все промолчали. Наконец, с первой парты поднялся бывший председатель сельсовета Александр Иванович и заметил:
— Как-то неудобно решать такой вопрос, как исключение из партии, в отсутствие самого члена партии!
— А сколько, Александр Иванович, можно нянчиться с ним, если он не подчиняется дисциплине и просто игнорирует партию? Поэтому ставлю вопрос на голосование. Кто за то, что бы исключить Пономарёва Никиту Егоровича из членов партии, прошу голосовать!
Увидев, что все партийцы подняли руки, беспартийные стали тоже, друг за другом, поднимать руки.
— Единогласно! — с восторгом воскликнул Митька.
— А теперь сразу же перейдем ко второму вопросу. В нашу парторганизацию поступило заявление от кандидата в члены партии Попова Григория Фёдоровича, с просьбой о переводе его из кандидатов в члены партии. Рекомендацию ему я уже давал, и остаюсь при своём мнении. Теперь Григория Фёдоровича рекомендуют ещё Гандобин Василий Ефимович и Козырев Иван Иванович. Послушаем его автобиографию или как?
— А чего слушать, если мы и так его знаем, как облупленного! — выкрикнул кто-то.
— Хорошо, можно считать, что наш товарищ стал пятым членом нашей парторганизации. Поздравим его, товарищи!
Послышались жидкие хлопки и Митька сел на место.
— Слово о хлебопоставках имеет председатель сельсовета Попов Григорий Фёдорович, — объявил Гандобин.
Гришка Казак подошел к учительскому столу. Гордый тем, что ему доверили выступать на собрании по очень важному вопросу, да еще только что принятый в члены партии, он весь светился каким-то внутренним светом, хотя и старался скрыть своё волнение.
— Товарищи! — начал Гришка звонким мальчишеским голосом. — Райком партии прислал нам разнарядку на хлебозаготовку. Учитывая, что в прошлом году выдался неурожай, райком партии пошел нам навстречу и снизил объем хлебопоставок. Нам надлежит сдать государству две тысячи пудов зерна — это, примерно, по десять пудов хлеба с хозяйства. Конечно, беднейшие слои народа будут освобождены от хлебопоставок, но эту недостачу мы возместим за счет кулаков. Так что каждый двор сдаст десять пудов зерна, зажиточные — по тридцать пудов, бедняки освобождаются от хлебопоставок. У меня все!
— Думаю, что с этим всё понятно. Обсуждать распоряжение райкома партии мы не будем! — высказался Гандобин. — А теперь разрешите рассказать вам о том, с какой целью я приехал сюда к вам!
Его высокая фигура нависла над столом, он поднял голову и, подбирая слова, начал говорить низким хрипловатым голосом.
— Наша партия взяла курс на коллективизацию сельского хозяйства. Но во многих районах страны партия столкнулась с прямым саботажничеством со стороны кулаков, подкулачников, мелкобуржуазных элементов и даже троцкистов, окопавшихся в некоторых комитетах партии. Этому нужно положить конец. Вы прекрасно знаете, что без колхоза вам, беднейшему крестьянству, никогда не выбраться из нужды, но многие жители вашего села попались на удочки кулацких подстрекателей и записываться в колхоз не хотят. Они даже не понимают, что дальше жить по старинке нельзя. Имея самые лучшие чернозёмы в мире, мы ухитряемся получать с них в три, четыре раза меньше урожая, чем в некоторых капиталистических странах. Просто стыд. У нас нет помещиков, советская власть наделила всех крестьян землёй, а мы до сих пор ковыряем её сохой. Чтобы получать высокие урожаи, нужна высокопроизводительная техника. Конечно, советская власть сумеет обеспечить село всем необходимым, но скажите, где трактор, который тянет за собой пятиэлементный плуг, сможет развернуться, если земля разделена на маленькие пятачки земельных наделов. Технике нужен простор, ширь полей, а не участки, разделённые межами. Почему в некоторых западных странах получают высокие урожаи? Да потому, что там земля принадлежит не отдельным собственникам, а крупным капиталистическим хозяйствам, которые широко применяют технику. У нас же земля принадлежит трудовому крестьянству, и мы теперь должны объединить ее в сплошное поле. Другого нам, не дано. Когда мы объединимся, то все жители запишутся в колхоз, либо пусть едут из села куда угодно. И об этом даже не стоит рассуждать, ибо делается всё не во вред мужику, а для его же пользы. Скоро мы соберём общее собрание жителей села, а пока все присутствующие должны подать заявления о приёме ваших семей в колхоз, и тем самым подать пример несознательным крестьянам. Еще хочу сообщить вам, что государство решило выделить миллионные субсидии для поддержки строительства колхозов на селе. Кроме того, Обком партии, чтобы успешно провести весенний сев, разрешил нам освободить от хлебопоставок всех, кто вступит в колхоз. Вот и всё, что я хотел вам сообщить. Вопросы будут? Нет!
Наутро, после открытого партийного собрания, Митька Жук и Гандобин выехали в город на доклад в Обком партии. Вернулись они на следующий день и тут же вывесили на дверях сельсовета объявление о созыве общего собрания жителей села с повесткой дня «О коллективизации сельского хозяйства».
Задолго до начала собрания помещение школы было уже забито до отказа народом. Появилось и начальство. Собрание открыл Козырев и предоставил слово Гандобину Василию Ефимовичу — представителю Обкома партии по проведению коллективизации сельского хозяйства. Гандобин, как обычно, сутулясь и не поднимая головы, всей своей долговязой фигурой навис над столом и стал неторопливо говорить:
— Дорогие товарищи! 5 января этого года ЦК ВКП (б) принял постановление о коллективизации сельского хозяйства и материальной помощи колхозам. Это не прихоть одного или нескольких человек, а назревшая необходимость. Все вы знаете, что наша страна является единственной в мире, где власть принадлежит народу, и капиталисты никогда не смиряться с таким положением. Поэтому нам нужно крепить Красную Армию, кормить её, вооружать, одевать и обувать. Нам нужно кормить рабочий класс, который должен обеспечить всем необходимым армию, дать народу спички, керосин, вооружить крестьян техникой и удобрениями. Наша промышленность только начинает возрождаться, и мы вынуждены закупать машины в капиталистических странах, а для этого нужно золото. А наше золото заключается в зерне, которое на западе ценят на вес золота, хотя некоторые страны собирают там урожай в два, три раза больше, чем мы. Нам, чтобы обеспечить безопасность страны, необходимо не только догнать, но и перегнать по урожайности зерновых эти страны. Вот такая раскладка сил в мире!
Гандобин откашлялся в кулак и продолжил, повторяя, сказанное ранее на партийном собрании:
— О какой повышенной урожайности можно говорить, если мы ведем земледелие теми же способами, как это делали наши деды с времен Ивана Грозного. Наши лучшие черноземы в мире мы обрабатываем деревянной сохой, многие из вас не имеют веялки и веют при помощи решета, сеют из лукошка, разбрасывая низкосортное зерно рукой. Из такого низкоурожайного, засорённого зерна, мука получается наполовину с половой, а хлеб горький. Да и этого зерна порой не хватает для еды и посева, а мужики почешут темя, наедятся мякинного хлеба и лежаться спать на печку со своею Матрёной. Такого безобразия больше терпеть нельзя. Поэтому партия и правительство решили повернуться лицом к деревне, снабдить ее техникой и внедрить в земледелие самые лучшие образцы агротехнологий. Но технике необходимы широкие поля, простор. Поэтому настало время объединить все крестьянские наделы в единый массив, ибо межи и техника несовместимы. И последнее. Я сказал, что большинство крестьян не имеют не только трактора или молотилки, но даже веялки. Но в этом не ваша вина, а ваша беда, ибо не всякий хозяин в силах купить дорогую технику, а, объединившись в колхоз, мы сможем это сделать. Недаром хохлы говорят, что в куче и батька бить легче!
— А скажи, мил человек, можно задать вопрос? — послышался от дверей голос Ивана Рыбина.
— Почему же нельзя, спрашивай! — ответил Гандобин, и впервые за все свое выступление поднял голову.
— А вопрос у меня такой. Когда я записывался добровольцем в Красную Армию, большевики обещали после разгрома беляков дать землю. Правда, дали, а теперь у меня же её отбирают, разве я помещик?
— А у вас есть документ, где бы говорилось, что землю вам дали в частную собственность и навсегда? Я знаю, что такого документа нет! Крестьянам дали землю не в собственность. Земля принадлежит всему народу в лице государства, а государство дало ее в пользование крестьянам. Но есть еще закон, который гласит, что если кто плохо обрабатывает землю, губит ее, то государство имеет право передать её другому, который обработает лучше. Выходит, землю у вас не отбирают, а передают колхозу, где земля будет обрабатываться, и использоваться намного эффективнее!
— Вот вы все говорите о хлебе, — подала голос Нюрка Полякова с первой парты, — а как же нам быть без лука, огурцов, помидоров и других овощей, если всю землю отберут в колхоз? Может быть, за ними нужно будет бежать в поле? Или нам их будут раздавать в лавке?
— Всем, кто вступит в колхоз, будет нарезано по полгектара земли под огород.
Думаю, что такого количества будет достаточно для овощей, ну, а кто в колхоз не пойдет, не получит и этого!
— Есть вопросы? — спросил людей Козырев. — Нет? Тогда предоставляю слово секретарю парторганизации Дмитрию Степановичу!
Митька поднялся на ноги, расправил гимнастерку под ремнем и начал говорить необычно мягким голосом:
— В сельсовет поступило тридцать три заявления от жителей нашего села, с просьбой принять их в колхоз, и надеюсь, что это не последние просьбы. Раз так, то мы считаем, что колхоз уже создан!
— А ты, Митька, назови этих колхозников, нам интересно будет знать, — пробасил Иван Рыбин.
— Да вы их хорошо знаете: это Попов Михаил…
— Это кто такой? — перебили из зала.
— Да, Мишка Жогов!
— Понятно, читай дальше! — попросил опять Рыбин.
— Ну, Лобода Петр, Лобода Семён, Рыбин Михаил, Култышкина Варвара, — тут Митька замолчал, очевидно, чувствуя подвох, поскольку с каждой называемой фамилией усиливался смех.
— Ну, Митька, эта кадра наработает тебе зерна, — заключил добродушный великан Рыбин.
— А теперь, товарищи колхозники, к делу! — не обращая внимания на реплику, продолжал Митька, — Раз мы организовали колхоз, то нужно дать ему имя. Колхоз это не только организация — это живой организм и, как всякое живое существо, он должен иметь свое собственное имя. Партийная организация предлагает дать ему имя нашего вождя, генерального секретаря ЦК ВКП (б) товарища Сталина. Ура, товарищи!
Послышались жидкие нестройные возгласы одобрения.
— Будут другие мнения?
Других мнений не было, люди постеснялись.
— А теперь другой вопрос, — взял слово Козырев. — Вы хорошо знаете, что без хозяина и дом сирота, а поэтому мы должны выбрать председателя колхоза. Во главе большого хозяйства должен встать грамотный, толковый, достойный человек. Райком партии рекомендовал выбрать на должность председателя колхоза Гандобина Василия Ефимовича. Он из рабочих, член партии ленинского призыва. Я его знаю давно, по работе на заводе, где он пользовался большим авторитетом. Какие будут мнения?
К удивлению всех собравшихся слово попросил Степан, отец Митьки Жука, человек безграмотный, молчаливый. Он, до мозга костей хлебороб, с детства познавший нужду, тяжелый крестьянский труд и не понаслышке знающий цену куску хлеба, не мог смириться с тем, что выращивать этот хлеб поручают человеку, который видел его только у себя на столе или в лавке, посчитав это для себя личным оскорблением. Степан почему-то обратился не к Козыреву, а к сыну.
— Ты вот, Митька, скажи мне, можешь ли ты рулить трактором? Можешь не отвечать! Я и так знаю, что в тракторах ты не разбираешься. Так почему же вы навязываете нам в председатели человека, который разбирается в нашей работе, как ты в тракторе. Ведь растить хлеб — это тебе не железку точить. Вот пусть ваш человек сначала поработает с нами в поле, а мы посмотрим, на что он годен. Может быть, тогда и назначим его председателем. А пока председателем пусть будет Серега Пономарёв, и мы пойдем за ним в огонь и в воду. Лучшего председателя нам не найти!
Послышались возгласы одобрения, и даже хлопки. Степан никогда так много не говорил и выдохся. Он тяжело опустился на свое место и вытер со лба пот рукавом полушубка.
Козырев встал, поднял руку, призывая к тишине и, выждав немного, сказал:
— Я согласен со Степаном Никоноровичем, но дело в том, что Сергей Егорович возглавить колхоз категорически отказался. Сегодня утром я лично был у него дома и предложил ему быть председателем колхоза, но он не только не согласился с этим, но и отказался вступать в колхоз. Послышались возгласы: «Неправда!», «Плохо говорили!», «Мы сами с ним поговорим!».
Козырев почувствовал, что почва уходит у него из-под ног, и решил спасти положение. Он понимал, что переубедить упрямых мужиков сейчас будет невозможно, а поэтому сделал дипломатический ход, стараясь не упустить инициативу из рук и успокоить новоиспеченных колхозников.
— Хорошо, мои дорогие, — начал Козырев, дождавшись тишины, — я согласен с вами.
Не будем спешить с председателем колхоза, а выберем группу колхозников, и пусть они сами ведут переговоры с Сергеем Егоровичем, а о результатах доложат на следующем собрании. Согласны? Вижу, что согласны. Не все у нас получилось гладко, но продолжим работу. Прошу Дмитрий Степанович!
Митька, как ни в чем не бывало, встал и продолжил:
— Товарищи колхозники! Наступает весна, а с ней начнется посевная. Вы знаете, что ни плуг, ни сеялки сами по полю ходить не будут, их нужно чем-то тащить. Конечно, Иван Иванович обещает помочь тракторами, но их у него всего два и основная работа на селе ляжет на лошадей. Я знаю, что крестьянин ухаживает за своей лошадью, как за невестой, но не у всех нас есть достаточно корма, чтобы держать их в теле до посевной. Поэтому, первое — завтра же всех лошадей села свести во двор Митрофана Рыбина, благо у него есть конюшни, сараи и рига. На этих же лошадях из каждого двора отвезти к Рыбину половину запасов сена, весь запас овса и ячменя. Ответственным за это, назначается председатель сельсовета Попов Григорий Федорович. Второе — необходимо во всём селе собрать всю, какая есть, посевную технику и свезти во двор к Владимиру Полякову, нашему кузнецу. Отвечать за инвентарь будет Гандобин Василий Ефимович. Когда мы справимся с этими делами, мы следом объединим коров, овец и свиней. Коров поместим на гумне у Егора Пономарёва, овец у Пономарёва Митрофана, свиней у Чульневых. Естественно снабдим весь скот кормами. Пока у меня все, Все остальное будем решать в рабочем порядке!
Потом встал Козырев:
— Считаю, всем все понятно, вопросы все исчерпаны. Только у меня будет небольшое объявление. Всем, кто запишется в колхоз, будет выплачено пособие в сумме пятидесяти рублей на двор. Деньги можете получить в сельсовете!
Последнее заявление Козырева было встречено одобрительно, но выступление Митьки Жука потрясло весь жизненный уклад села. Слухи о том, что вся земля и скот у крестьян будут отобраны и переданы колхозу, словно громом поразили людей. В каждом дворе, в каждой семье эту весть обсуждали со всех сторон. Шла масленица, но люди ходили друг к другу не на блины, а за слухами, проклиная себя за то, что поленились сходить на собрание. Разговоры шли не только по домам, в кругу родных, но и прямо на улице при случайной встрече двух — трёх людей. Этому способствовала и хорошая погода, установившаяся после жестоких святочных морозов и метелей. Сильно потеплело, снег усел, и в воздухе веяло весной. Но людям было не до праздника, не до щедрот природы. Все мысли и разговоры у них сводились к тому, что землю, инвентарь, лошадей отберут, и говорят, что отберут весь остальной скот. Где будем брать мясо, молоко, сало? Где будем брать муку на хлебушек, пышки и блины? Из чего будем заводить квас? В голове возникало и на языке у каждого вертелись сотни вопросов, но никто толком не мог рассказать людям, как жить дальше. Члены группы бедноты злорадствовали, говоря другим односельчанам, что ваше время прошло и теперь наступило наше. Бабы, которых было большинство на собрании, не поняли умных речей начальства и ничего путного не могли объяснить. Даже толковые мужики, слышавшие все лично, поняли только одно, что землю и всю скотину передадут в колхоз. И катились по селу всевозможные слухи, одни чуднее других. Кто говорил, что отберут только землю, и будут пахать тракторами, другие уверяли, что отберут скотину и отправят в город, третьи говорили, что землю отбирать не будут, её выкупят за деньги, вон уж в сельсовете за нее дают по пятьдесят рублей. Находились и такие, которые на полном серьёзе по секрету сообщали, что в колхоз соберут не только скотину, но и баб. А голосистые девчата распевали по ночам частушки:
В колхоз идти —
Нечего бояться!
Сорок метров одеяло,
Будем одеваться!
У всех голова шла кругом. Кого слушать? Кому верить? Уж очень неожиданно вторглось в размеренную жизнь русской деревни что-то необъяснимо страшное. По чьей воле, по чьему злому умыслу был разрушен вековой уклад села? Бессонными ночами, ворочаясь на печке, раздумывал русский мужик над своей судьбой. Почему именно ему выпала такая доля?
На собрании Козырев слукавил, сказав, что он разговаривал с Пономарёвым Сергеем. А поэтому, прежде чем послать к нему на переговоры мужиков, решил сам встретиться с ним. Пономарёвы только что позавтракали, когда к ним неожиданно пришел Козырев. Дарья убирала со стола посуду, а Сергей Егорович сидел у печки, курил. Гость поздоровался со всеми и протянул хозяину ладонь. Заметив искалеченную руку, он спросил у Сергея:
— Память о войне?
Тот в ответ кивнул головой.
— Где пришлось воевать?
— На восточном фронте, у Тухачевского!
— А я был у Будённого!
— У Будённого был мой брат, Никита!
— Знаю! — ответил Козырев. — Много наслышан о тебе, Сергей Егорович! Надо было давно встретиться, да все было недосуг!
— О тебе, Иван Иванович, я тоже много хорошего слышал, да тоже был занят делами кооператива.
— Ты, наверное, наслышан, Сергей Егорович, что в селе организуется колхоз? Людям известны твои деловые качества, уважают за ум и хватку. Неплохо было, если бы ты, Сергей Егорович, возглавил колхоз, поддержал хорошее начинание, а за мной дело не станет!
— Плохо то, Иван Иванович, что твои помощники в этом деле никуда не годные люди. Митька Жук — недалёкий человек, тупица, балаболка, карьерист. Ему прикажут, то он и отца родного в Соловки ушлет. Не верь ему, Иван Иванович, предаст, если ему будет нужно. О других я говорить не буду. Есть среди вас серьёзный, толковый человек, умница, — это бывший председатель сельсовета Александр Иванович Попов. Поставьте его председателем колхоза. На него можно положиться. Честный человек, он не мог сработаться с Митькой и отказался от своей должности.
— Ты, Сергей Егорович, совершенно правильно охарактеризовал наше руководство, но только одного не пойму, почему ты, грамотный человек, умный, честный, заслуженный, сторонишься Советской власти? Ты же пользуешься огромным авторитетом на селе, и за тобой без оглядки пошли бы все мужики. Почему бы тебе не возглавить колхоз?
— Видишь ли, Иван Иванович, об этом у меня был разговор в Обкоме партии с Варейкисом, нашим областным партийным руководителем. Я ему уже изложил свою точку зрения на строительство колхозов и он, между прочим, со мной согласен. Так что я останусь при своем мнении и до него никому никакого дела не должно быть!
— И все же, что тебе не нравиться в колхозе?
— Вот ты сказал, что я сторонюсь Советской власти. Неправда, я за неё кровь проливал и остался калекой. Мне не нравятся методы ее строительства. Ведь колхоз — это и есть Советская власть, её ячейка. Но нельзя запрячь в одну телегу коня и корову. А нам именно это и рекомендуют. Посмотрите состав членов группы бедноты. Ведь 90 процентов ее членов неисправимые лодыри и бездельники. Возьмите, к примеру, своего секретаря партийной организации Дмитрия Степановича. Он с самого детства своими руками ничего не сделал. Учиться не стал, ни разу за всю жизнь не ездил в ночное, не был в поле, не бороновал, не пахал, не сеял и до сих пор сидит на шее старого отца. Петька Лобода — это принципиальный лодырь. За всю жизнь он не заработал даже куска хлеба. Дошло до того, что жена, работящая баба, перестала его кормить, поить, одевать, обувать и даже отказалась ему стирать бельё, да его у него нет. Снимите с него рваный полушубок, и он предстанет пред вами, в чем мама родила. Варька Култышкина не умеет ни читать, ни писать, ни считать. Она просто проститутка местного разлива, её подкармливают парни и мужики, которых она принимает и днем и ночью, иногда до десятка посетителей в день. Мишке Жогову отец оставил сносное хозяйство, но он все пустил по ветру. Железную крышу с дома снял и покрыл её соломой. Все сараи, хлев, амбар и даже курятник разобрал и сжег в печи. Настругал девять детей, но кормить их не думает. Мы едем в поле, а Мишка с удочкой на речку. Свою землю сдаёт в аренду, а детишек распихивает по людям, потому что дома нечего есть, а зимой не в чем выйти по воду. Еще рассказывать о таких же несчастных бедняках, которых эксплуатируют кулаки? И вы предлагаете мне возглавить этот сброд? Не позавидуешь тому несчастному председателю колхоза, который возглавит его с такими работничками. Это только несколько примеров того, почему я не хочу руководить колхозом. А работать рядовым колхозником с такими кадрами я буду просто не в силах.
— И все же, Сергей Егорович, ты мне симпатичен! Ты мне нравишься, но мне жаль, что не можешь понять текущего момента!
— А тебе, Иван Иванович, пройдет немного времени, будет стыдно за свои деяния!
— Спасибо за беседу, хотел поближе познакомиться с тобой, но у меня к тебе есть и другое дело, наверно знаешь какое?
— Да уж, догадываюсь. Если вы передали землю колхозу, то вам понадобиться хороший посевной материал, а он имеется только у кооператоров. У остальных его почти нет, а если кого и что и есть, то это нельзя назвать даже фуражом!
Сергей Егорович встал, накинул на плечи полушубок и пригласил Козырева выйти на улицу. Амбар был заперт на замок. Сергей отпер его, распахнул двери и в нос ударил привычный запах хлеба.
— Вот, Иванович, все зерно, которое я хранил для посевной. Все зерно отборное.
Ничего я не прятал. Можете искать, но ничего не найдёте, так что забирайте то, что есть!
— А забирать мы не будем, наоборот, всё, что соберём на селе, мы ссыпем тебе в амбар, под твою охрану. Амбар у тебя просторный, сухой, крепкий и зерно будет здесь как у Христа за пазухой. А если надумаешь вступить в колхоз, милости просим. Еще раз говорю, смотри, не опоздай!
— Хорошо, подумаю, но с таким колхозом я не согласен!
— Говорят, что хозяин — барин! Скажу откровенно, что и мне не все по душе, но я рядовой партии и выполню всё, что мне прикажут, а приказали мне сделать МТС, колхоз и ликвидировать кулачество как класс. А ты будешь с нами или не будешь — от этого ничего не измениться. Мы заберём у мужиков землю, скотину, сельхозинвентарь, без которого они ничего не сделают. Все как миленькие побегут в колхоз и забудут о тебе!
Козырев с Сергеем вышли из амбара, пожали друг другу руки и пошли каждый в свою сторону.
Не успел Козырев скрыться в проулке, как несколько мужиков вошли в дом Пономарёвых, расселись по скамейкам и стали вопросительно смотреть на Сергея. Наконец Чульнев спросил:
— Ну, Сергей Егорович? Что сказал Козырев?
— Повторил то же самое, что говорил на собрании. Сказал, что у нас отберут скот, землю и сельхозинвентарь, а без этого мы с вами будем похожими на общипанных гусей — и на люди показаться стыдно и в ненастье будет холодно!
— Так, что же нам, Сергей Егорович, делать?
— Что я могу вам посоветовать, если я не знаю, что мне самому делать. Только скажу, что у них армия, милиция, прокуратура, тюрьмы и если они решили создать колхозы, то ни мытьем, так катаньем, своего добьются. В сложившейся обстановке мужику нужно записываться в колхоз или бросать всё и уезжать в город. А как вам поступить решайте сами!
Мужики покачали головами, тяжело вздохнули, встали и направились к двери.
После обеда к Сергею пришел его брат Никита, расстроенный и подавленный. Обычно непоседливый, он на этот раз он был угрюм, тих и молчалив. Долго сидел молча, барабаня пальцами по столу. Было заметно, что ему трудно начать неприятный разговор о событиях прошедшего дня. Наконец он резко повернулся к брату и почти истерическим голосом выпалил все, что накопилось у него в душе.
— Да, что же это такое делается? Да есть ли правда на земле, да есть ли Бог на небе?
Почему нас не оставят в покое? Кому это нужно и для чего мучат людей? Нужно было воевать — мы воевали, но, выходит, завоевали власть не для себя, а для кучки негодяев. Так властвуйте, тешьте свое самолюбие, но не мешайте нам работать так, как нам нравиться. Почему они лучше нашего знают, как нам работать? Сейчас был у тестя и нагляделся такого, что зубами был готов перегрызть горло всей этой швали, которая и лаптей хороших не носила. Вся эта банда лодырей издевалась и унижала его. Его, которому они и в подметки не годятся! Выгребли последний хлеб и, когда он стал проситься в колхоз, то этот горбатый удав Гандобин ответил ему, что они кулаков в колхоз не принимают и что его место в Соловках. Выгребли хлеб у нашего отца, у дяди Митроши, у Чульневых, Дымковых, Рыбиных, у Хохлов и в других дворах, то есть у тех, кто все эти годы кормил эту голытьбу и их голодных ребятишек. Поговаривают, что скоро и скотину отберут. Да, еще, Серёга! Всем, кто подал заявление в колхоз, выдали по пятьдесят рублей и люди повалили в сельсовет с заявлениями. Получили деньги, расхватали водку в лавке и скупили весь самогон!
Выговорившись, Никита немного успокоился и как-то сник, словно выдохся. Немного помолчал, а потом с какой-то безысходностью спросил брата:
— Что же нам делать, Серёга?
— Не знаю, что тебе сказать. Сегодня утром приходил ко мне Козырев и предложил, чтобы я возглавил колхоз. Он не дурак, и хорошо понимает, что если я соглашусь быть председателем колхоза, то люди без всякого нажима и угроз вступят в колхоз и будут исправно работать. А начальство доложит наверх, что благодаря умелому руководству представителей Обкома партии и хорошей разъяснительной политике, крестьяне села поголовно записались в колхоз. Тем самым будет выполнена директива ЦК ВКП (б) по сплошной коллективизации сельского хозяйства.
— И что же ты ему ответил?
— Сказал, что подумаю. Но я на это не пойду!
— А может, Серёга, и действительно согласиться с ним, стать председателем колхоза и помочь народу?
— Никита, ты сам не понимаешь, что ты мне советуешь. Неужели тебе не ясно, что они хотят из меня сделать, что-то вроде приманки, на которую клюнут простоватые мужики. Как только я сделаю свое дело, я им стану не нужным. Более того, я для них буду опасным. Сказать почему? Да потому, Никита, что колхоз — это новое крепостное право, но только в более изощренном виде. Если барщина допускала наличие у крепостных надела, лошади, то колхозный строй категорически это запрещает. Значит, колхозник будет полностью зависеть от государства. Если государству нужен будет хлеб, то оно выгребет из колхозного закрома все до последнего зерна, оставив колхозников без куска хлеба. Это первое. Теперь второе. Ты знаешь, что прошлый год был неурожайным, да к тому же крестьяне уменьшили посевы. У людей нет хлеба, но есть неплохой семенной фонд у наших кооператоров, правда небольшой. Ты сказал, что и это выгребли до зерна. Ну, наберут таким путем они около трехсот пудов, что хватит десятин на пятьдесят, а остальное чем засеивать? У государства запасов зерна нет. Может из Сибири привезут? На это надежды мало. Ты, Никита, спрашиваешь, что нам делать? Ты этот вопрос адресуй не мне, а нашему правительству и спроси, что оно думает делать дальше? Ведь вся его политика ведет к голоду в стране? Мне порой кажется, что там не ведают, что творят.
Братья закурили, молча, посидели, думая каждый о своем.
— Я, Никита, теперь уверен, — продолжал Сергей — что в ЦК и в правительстве сидят такие же никчемные люди, как наш Митька Жук и Варька Култышкина. Ведь давно подмечено, что скажи мне, кто твои друзья, и я скажу кто ты. Если бы было иначе, то Москва бы поддерживала не лодырей и бездельников, а людей деловых, честных, работящих. Ты сказал, что может быть мне принять предложение Козырева. Я не согласен с этим не только потому, что в колхоз тянется всякая шваль, а потому, что эта шваль будет разлагать людей. Недаром говориться, что если в стаде заведется одна паршивая овца, то она все стадо испортит. Вот Иван Рыбин с братом Ильёй скашивают по десятине ржи в день, а Митька Жук или Петька Лобода никогда косы в руках не держали. Как их можно поставить рядом с Рыбиными, а Жогова с Чульневыми. Посмотрят работяги, привыкшие вставать с петухами и работать до седьмого пота, на лодырей, и тоже станут работать спустя рукава. Они уже не побегут чуть свет в поле, не станут косить, когда Лобода или Жогов будет отдыхать под копной. Люди скоро поймут, что они не обязаны на них работать, на их детей, на их благо. Это и есть самое страшное в колхозе. Эта вся компания по коллективизации сельского хозяйства есть ничто другое, как авантюра, и в ней я участвовать не собираюсь. Я не хочу обманывать народ. Подожду, посмотрю, а там видно будет. А ты, Никита, поступай, как знаешь. Я тебе не советчик!
Брат встал и, не попрощавшись, ушел.
На другой день все вышло совершенно не так, как планировало партийное руководство села, а шиворот — навыворот. С наступлением темноты и всю ночь шел забой скота. Под нож пускали не только свиней и овец, но и дойных коров, не говоря уж о яловых и бычках. На полученные от колхоза деньги скупили всю водку и самогон, жарили печёнку, варили требуху. Ходили друг к другу в гости, обильно угощали мясом родных и соседей, предлагали целые туши беднякам, пели песни.
Глухой Митрон тоже забил корову и телку, но куда деть столько мяса не знал.
Много ли им нужно было со старухой. Повертелся по дому, походил по двору, заглянул в сарай, где висели туши, и такая его взяла тоска, хоть в петлю. Долго он мучился в своем раздумье, пока не решил проведать своего младшего сына Михаила. С тех пор как Митрон отделился от сына, прошло немало времени, немало утекло воды, но между ними так и не наладились доверительные отношения. Ссориться они не ссорились, но не было тех чувств, которые обычно бывают между отцом и сыном. Самый младший в семье, любимец матери, Михаил рос, не в пример старшим братьям и сестрам, лодырем и гулякой. Отцовский надел он вскоре промотал и его все чаще видели не в поле, а в сельсовете, где он нашел родственные души в лице Митьки Жука и Гришки Казака. Митрон давно махнул на него рукой, считая его выродком и пропащей душой. Но последние события заставили Митрона поговорить с сыном, ведь он, как никак, околачивается около начальства и, может быть, что-нибудь подскажет или посоветует путного.
Когда Митрон зашел к сыну, то застал пир горой. Правда, гостей у того в доме не было, но он с женой сидел за столом, который был завален мясом, и стояла пустая бутылка. Оба они были навеселе и, обнявшись, пели песню. Митрон поздоровался, снял шапку и присел к столу.
— Никак, батя пожаловал. Милости просим быть гостем, а бутылку поставишь, становись хозяином!
Митрон не пил и не терпел пьяных, но, зная привычку сына, прихватил с собой чекушку первача, которую и выставил на стол. Сноха улыбнулась, с жадностью схватила бутылку и тут же разлила содержимое по кружкам. Свекру она выпить не предложила, зная, что тот не выносит хмельного. Закусывать они не стали. Очевидно, были сыты. Мишка, сытый и довольный, привалился спиной к стенке и пьяно пялясь на отца, спросил, икая:
— Ну, и с чем пожаловал?
— Митрон догадался по движению губ пьяного сына, о чем тот спросил его и, наклонив голову, словно стесняясь своего прихода, сказал:
— Что мне делать, Мишка? Всё, что я в поле собрал, отбирают. Посадили в тюрьму, зачислили в кулаки, лишили голоса, в колхоз не принимают, что же мне, в петлю лезть? Ты там трешься около начальства и, наверное, знаешь, что с нами дальше будет? Не умирать же нам с матерью голодной смертью? Хотя бы землю оставили, но и её забрали. Что там думают начальники? Как дальше жить?
Долго доходили до пьяного Мишки слова отца, но когда он с трудом догадался о смысле сказанного, расхохотался и выкрикнул прямо в лицо отцу грубые, необдуманные слова:
— Спрашиваешь, что с тобой будет? Сошлют тебя, батя, в Соловки, на жительство к белым медведям, а если не нравится такая перспектива, то остаётся только в петлю или в прорубь!
Митрон, как не был взволнован, а может быть и благодаря этому, хорошо расслышал ответ сына, встал и вышел на улицу. На улице гремел праздник. Ни одна масленица не видела еще столько пьяных, не слышала такого громкого смеха, криков и песен. Люди будто справляли поминки по старой жизни, одновременно радуясь новому, счастливому и неизвестному. Однако слова сына окончательно добили Митрона и он шел, пошатываясь, ничего не видя и не разбирая дороги. Придя домой, он отказался от ужина, влез на печку и, не раздеваясь, прилег на тёплые кирпичи.
Проснулся Митрон с петухами. Слез с печи, обулся, одел полушубок и вышел во двор. К нему на грудь, ласкаясь, кинулся огромный, с телка, кобель, но он оттолкнул его, зашел в конюшню и со слезами на глазах стал обнимать за шеи двух лошадей, целуя их в мокрые шершавые губы. Потом напоил их, вывел старую лошадь и стал запрягать её в сани. Из сеней принес новое веретьё, один конец расстелил на санях, положил на него туши и покрыл их другим концом, перевязав всё веревкой. В избе уже хлопотала жена, готовя еду мужу. Митрон снял полушубок и шапку, бросил их на лавку, вымыл над лоханкой руки и лицо, расчесал гребнем пышную бороду и, перекрестившись, сел завтракать. Любитель поесть, он на этот раз еле притронулся к еде и вскоре вылез из-за стола. Жена это заметила, но спрашивать о причине не стала, боясь его гнева. Надев полушубок и сверх него огромный тулуп, Митрон в сенях взял топор и вышел во двор. Жена вышла его проводить, открыла тесовые ворота и спросила, когда его ждать. Он, было, сел в сани, но раздумал, вылез, подошел к жене и крепко поцеловал её в губы, что случалось с ним только во время ухаживания за Марфой, да ещё на свадьбе.
Было довольно тепло, когда Митрон за селом нагнал две повозки. Это были его сваты, братья Пономарёвы — Егор и Митрофан. Они тоже везли мясо забитого ими скота. Перед Семилуками догнали еще пять повод. Маленький, юркий Никифор Дымков, пока повозки тянулись на изволок, успел обежать всех по два раза и всем пояснить, что в город едет только потому, что если отберут лошадей, телеги и сани, то тогда им уже ни за что не попасть на базар. Добродушный здоровяк Иван Гусев успокоил его, сказав, что об этом волноваться не стоит, так как не только не на чем будет ездить, но и нечего будет и возить. Все прекрасно знали, что не только Никифор, но и они ехали в город не потому, что больше не на чем будет туда ехать, а потому, что жалко было отдавать скотину чужому дяде. Скотину, на которую было потрачено столько времени и сил. Если можно бы было забить лошадей вместе с санями в придачу, то любой из них, не задумываясь, сделал бы это. Не было жалко ни забитой скотины, ни хрипевших лошадей, а в голове сверлила одна единственная мысль о том, что сумеют ли они продать столько мяса, ведь его привезут не только из их села.
Мужикам в этот раз повезло. На Мало-Московской улице, на подъезде к хлебному базару, их остановил молодой, вертлявый человек и, узнав, что они везут мясо, предложил купить все, что у них есть. Мужики сначала не поверили и спросили, зачем ему столько мяса? Тот ответил, что он является представителем мясокомбината и что все мясо пойдет на колбасу, а то, что они привезли все вместе, не хватит и на один день работы. Мужики тут же пожалели, что не забили и другую скотину. Встретившийся мужик проводил их к Девицкому выезду и за пустырем остановил обоз перед высоким забором с огромными воротами. Он нырнул в небольшие двери, навешенные прямо на заборе, и через минуту ворота открылись. Мужики заехали в обширный двор и стали боязливо ждать. Вскоре к ним подошло еще три человека, осмотрели мясо и велели везти на весы. Через два часа, получив сполна расчет, все дружно решили отметить масленицу.
Приезжая на хлебный базар, мужики обычно обедали в полуподвальном трактире у Прохора. У него не только сытно и дешево кормили, но имелся широкий двор, где можно было поставить лошадей. Прохор ласково встретил своих знакомых, усадил их за стол и приказал половому подать еду. Когда мужики выпили, Прохор присел к ним и завел разговор.
— Что, мужики, слышно в ваших краях?
— У нас только и слышно о колхозах. Землю и лошадей уже отобрали, а теперь осталось отобрать оставшуюся скотину. Одним словом, куда ни кинь, всюду клин. Хана пришла нашему брату, не то, что вашему! — выпалил Никифор Дымков.
— У нас тоже не лучше вашего, — печально заметил Прохор. — Все, что выручаю от торговли, забирает казна, даже больше. Уже многие мои друзья прикрыли свои лавочки, прикрою свою и я. Так что в следующий раз вы меня здесь не найдете. Решил я, мужики, отказаться от всего!
Назад ехали в настроении, радуясь удачной сделке. Радуясь тому, что ловко обвели вокруг пальца Митьку Жука и Козырева. Радуясь тому, что они хмельные, сытые и довольные собой. Каждый из них, завёрнутый в тулуп, переживал свою удачу по-своему, сосредоточившись на домашних делах, забыв о колхозе, в который их не пустили, но который отобрал у них всё, что можно было отобрать у крестьянина.
Когда проехали Подклетное и потянулись по семилукскому мосту через Дон, то услышали громкий крик Митрона. Сначала они не поняли в чем дело, посмотрели назад, но гнедая кобыла, замыкавшая обоз, продолжала спокойно тащить сани, в которых, завернувшись в тулуп, развалился хозяин. Крик повторился снова. Мужики остановили лошадей и подошли к повозке. В санях лежал тулуп, лежали рукавицы, но самого Митрона там не было. Они недоуменно посмотрели друг на друга и в этот момент вновь услышали крик. И только обернувшись, увидели его, стоявшего на льду возле проруби и махавшего им рукой. На нем была нижняя посконная рубаха и подштанники. Черная копна волос на голове, такая же борода, черные шерстяные чулки на ногах резко оттеняли его одежду, делая всю фигуру невесомой и призрачной. Во всей этой картине было что-то загадочное и страшное. Мужики на первых порах онемели, не зная, что сказать или предпринять. Первым нашелся Иван Рыбин, который громоподобным голосом крикнул:
— Ты чего это задумал, Митрон?
— Да что, братцы, кричать, он все равно не слышит. Давай побежим, может быть успеем, — заторопил Никифор Дымков и, бросив тулуп, бросился бежать по мосту. За ним кинулись и остальные. Остался при лошадях только Егор Иванович, у которого враз отказали ноги и он, привалившись к деревянным перилам, тоскливо смотрел на печальную картину. А с реки неслось:
— Сват, скажи всем, что Митрон утопился! Прощай, сват! Не поминай лихом!
И тут все заметили него в руке бутылку водки. Он одним ударом выбил пробку, запрокинул голову, приставил горлышко бутылки ко рту и не отрывал до тех пор, пока она не опорожнилась. Потом перекрестился, качнулся над прорубью, выставил руки вперёд и нырнул под лед. Когда мужики подбежали к злополучной проруби, их встретила пелена спокойной чёрной воды. Все постояли немного, перекрестились, подобрали одежду Митрона и со слезами на глазах вернулись к поводам. Егор Иванович привязал осиротевшую лошадь к задку своих саней, и обоз тронулся в путь, везя с собой печальную весть.
После жуткой картины трагической гибели Митрона на Дону, мужикам представилось посмотреть уже комедию при въезде в село. Среди улицы, на проезжей ее части, Устин Попов тщетно отбивался от нападения на него жены, тщедушной женщины, замордованной непосильным трудом и целой кучей ребятишек. Устин в левой руке держал на веревке свою корову, а правой отталкивал жену, которая вопила на все село и пыталась вырвать у него из рук веревку. Всю эту сцену наблюдала толпа зевак, запрудившая дорогу. Мужикам поневоле пришлось остановиться и присоединиться к толпе. Дело было в том, что Устин, выполняя волю руководства, привязал к рогам единственной коровы веревку и повел ее в колхозное стадо. Жена Устина, не давшая мужу забить кормилицу, теперь с отчаянием обреченной пыталась оставить ее у себя на дворе. В конце концов, Устину надоело скандалить с женой и он бросил веревку, которую тут же подхватила жена и повела корову домой.
Скандал Устина с женой наблюдал и Гришка Казак, стоявший поодаль, с опухшим лицом. Он очутился в этой толпе случайно. Проспав пьяным у Нюрки Поляковой всю ночь и узнав, что мужики забивают скот, он решил сам лично убедиться в этом. Вышел на улицу, но тут наткнулся на бесплатное представление, но Гришке было не до смеха. Дело было в том, что накануне, записав в колхоз больше половины села, начальство решило отметить эту победу в торжественной обстановке, благо в наличии была достаточная сумма денег, выданная им в качестве материальной помощи колхозу. Снабдив Мишку Жогова деньгами, они отправили его к Нюрке Поляковой с заданием приготовить побольше самогона и закуски, выделив ему в помощь Варьку Култышкину. С темнотой, чтобы не попасться жителям села на глаза, все руководство пробралось в дом к Нюрке, закрыло двери, занавесило окна и пошла гулянка. К полуночи все напились и, не таясь, стали петь. Мишку заставили плясать, а потом повалились спать там, где их свалил коварный самогон. Только стало чуть светать, в окно Нюрке постучали громко и настойчиво. Когда она открыла двери, то увидела Александра Ивановича (он не участвовал в попойке), который оттолкнул ее и вошел в избу. На полу, печке, лавках были разбросаны тела руководителей села. Слышался храп, стоны пьяных людей. В избе стоял такой сивушный запах, и висела такая духота, что Александр Иванович чуть не потерял сознание. Он распахнул двери и стал будить спящих. Придя немного в себя и ополоснувшись холодной водой, собутыльники расселись вокруг стола и недоуменно уставились на нежданного гостя. А он ходил вразвалку из угла в угол и молчал, собираясь с мыслями. Потом остановился посередине избы, засунул руки в карманы штанов и с насмешкой процедил:
— Хороши! Нечего сказать! Да знаете ли вы, пьяные хари, что этой ночью в селе порезали весь скот. Да знаете ли вы, что кулаки угнали своих лошадей в неизвестном направлении, а если станете продолжать пьянствовать, то и остальных угонят. А на чем будете пахать? Вам мало, что вы провалили заготовку семян и вам негде их взять, так вы еще лошадей и всего скота лишились!
— Погоди кричать, объясни все толком, — подал голос Козырев.
— Я все объяснил и говорю, что зерна, которое вы собрали на семена по дворам, хватит, самое большее, десятин на сорок — пятьдесят. Понятно?
— Ничего страшного я в этом не вижу — вставил слово Митька Жук, — ведь у нас есть деньги. Закупим все что нужно!
— Василий Ефимович, — обратился Митька к Гандобину — ну-ка скажи, сколько у нас осталось денег?
Тот стал шарить вокруг себя руками, заглянул под стол, под скамейку, на печку, но портфель с деньгами, словно сквозь воду провалился. Потом искали все участники попойки, искала Нюрка, искала Варька. Перерыли весь дом, чердак, подвал, двор — деньги не находились. Гришка Казак предложил вызвать милицию, но Козырев обозвал его болваном.
— Нужно думать головой, а не задницей. Ты хочешь, чтобы райком и даже Обком знали, чем мы здесь занимаемся во время коллективизации. Так нам не только в партии, но и в Советском Союзе места не найдется. А поэтому всем рот на замок!
Но на чужой роток, не накидывай роток, и Козырев, не подумав, допустил огромную ошибку, разрешив сходить Нюрке с Гришкой на улицу, для выяснения обстановки. Если не умом, то своим бабьим чутьем и не без оснований, она понимала, что все подозрения падут на нее. Поэтому, чтобы обезопасить себя от злых языков всеведущих кумушек, сразу же побежала к соседке и рассказала ей о пропаже денег, свалив все на пьяную компанию. Не прошло и получаса, как все село знало, что начальство перепилось и потеряло колхозные деньги. Слухи росли, ширились, разрастались вширь и ввысь. Одни говорили, что начальство пропило деньги. Другие тоже говорили, что пропило, но не все. Вроде бы, оставшуюся часть денег поделили между собой, а на другую часть подкупило высшее начальство с тем, чтобы у нас не создавали колхоз.
Между тем в избе Нюрки шел серьезный разговор. Козырев, как наиболее сохранивший с похмелья разум, предложил всем успокоиться, присесть и внимательно его выслушать.
— В прошлый раз, когда я ездил в Воронеж, — начал Козырев хмуро говорить — на расширенном заседании Обкома партии обсуждали секретное постановление Политбюро ЦК партии о раскулачивании. Дело в том, что наша область попала в зону сплошной коллективизации и партия постановила, в случае необходимости, выгонять кулаков из домов, отбирать имущество, деньги и выселять к черту на кулички. Все присутствующие на заседании, разделились на две половины, противоположные друг другу. Одни считали выселение лишним и, что к кулакам нужно наоборот отнестись внимательно, вовлекать в колхозное строительство, используя их опыт и навыки. Другие настаивали немедленно и разом выселить всех кулаков из сел и навсегда покончить с ними. Представитель ЦК ВКП (б), присутствовавший на этом совещании, именно этот второй вариант и предлагал осуществить. Нужно сказать, что Первый секретарь Обкома Варейкис и Председатель Облисполкома Рябинин склонялись к первому варианту, но они еще не ЦК партии, который прямо постановил немедленно раскулачить самых злостных противников колхоза, не откладывая дело в долгий ящик.
— Я думаю, — Козырев сделал небольшую паузу и внимательно оглядел всех присутствующих, — поставить Варейкиса и его единомышленников перед совершившимся фактом. Как известно, с кладбища покойников не носят, а победителей не судят, да и ЦК нас поддержит. Предлагаю создать три группы активистов во главе с Лавлинским Дмитрием Степановичем, Поповым Григорием и Гандобиным Василием Ефимовичем. Одновременно зайдем с трёх сторон и вытряхнем всех кулаков из домов вместе со своими семьями. Нужно раскулачить и выселить всех, кто в свое время противился хлебосдаче, кого мы отправляли в тюрьму, а остальных, кто еще не записался в колхоз, предупредить, что и с ними будет так же. Таким образом, мы быстро проведем сплошную коллективизацию, а деньги спишем на материальную помощь вступившим!
— Нужно раскулачить первым попа! — вставил уже вернувшийся с улицы Гришка Казак.
— А что его раскулачивать, если у него нет ни своего дома, ни семьи, ни земли, а из скотины только лошадь? — заметил Александр Иванович.
— Ну и что? — возразил Казак. — Поп является самым злостным противником коллективизации, да и всей Советской власти!
— Предлагаю, — подал голос Митька Жук, — раскулачить Пономарёвых Серегу и Никиту.
— Их пока не надо трогать, так как Никита награждён правительственной наградой, а Сергей тоже заслуженный человек, да еще близко знаком с Варейкисом, — ответил Козырев, — а вот с остальными нужно покончить раз и навсегда, быстро и без всякой жалости, что бы я завтра поехал в город и доложил начальству о проделанной работе. А теперь, друзья, за дело и пусть нам сегодня улыбнется удача!
Субботний февральский день перевалил за середину. Легкая дымчатая пелена наволочила низкое небо. Потеплело, снег усел, и люди, радуясь внезапному теплу, опустившемуся на землю, высыпали на улицу. Взрослые, смеясь, перебрасывались веселыми словечками, ребятишки клубились на проезжей части дороги, катаясь на коньках и санках. Многие попарились в банях, пили самогон и были навеселе. Егор Иванович Пономарёв тоже основательно помылся и теперь сидел за столом перед зеркалом, расчёсывая деревянным гребнем волнистые каштановые волосы. Сын Яшка со снохой ещё мылись в бане, а бабушка Вера готовила у печи к обеду. В это время со стороны улицы появилась группа активистов во главе с Гришкой Казаком и направилась к Пономарёвым. Оставив на улице Варьку Култышкину и Петьку Лободу, Гришка с остальными вошел во двор. Навстречу незваным гостям, звеня цепью, из будки выскочил огромный кобель, встал на задние лапы и, оскалив зубастую пасть, забрехал, хрипя и роняя пену в темный снег. Увидев разъяренного зверя, толпа опешила, сбилась в кучку и подалась назад к воротам. Гришка, заметив, что пса крепко держит цепь, прибодрился, шагнул к нему навстречу и достал из кармана пиджака наган. Раздались два резких хлопка, пёс подпрыгнул и повалился на бок, окрашивая вокруг себя алой кровью притоптанный снег.
Егор Иванович в окно давно заметил посторонних людей во дворе и ожидал незваных гостей в избе. Но когда он услышал выстрелы и увидел в окно убитого кобеля, выскочил во двор и с возмущением и обидой выговорил, обратившись к Гришке:
— Чего это ты расхозяйничался на чужом дворе? Убил собаку! Чем она тебе помешала?
— Была бы моя воля, я бы не его, — кивнул Гришка в сторону мертвого кобеля, — а тебя бы уложил, кулацкая морда! Да и двор теперь не твой, а наш! Так что собирай свои манатки, да проваливай отсюда, так как по постановлению совета и правления колхоза ты, Егор Иванович Пономарёв, подлежишь раскулачиванию!
— Как проваливать? А куда же нам деваться? — Опешивший хозяин развёл руками. — Что же нам делать? — Спросил он то ли сына, стоявшего в дверях бани, то ли Гришку с толпой активистов, то ли прибежавших на выстрелы соседей.
— А это нас не касается! — ответил за всех Гришка. — Одевайся и катись к ядрени фени! Да ничего с собой не брать, кроме одежды!
С этими словами Гришка поднялся по порожкам, оттолкнул Егора Ивановича и вошел в дом. Часть людей потянулось за ним. Последними в дом вошли хозяин с сыном и снохой. Там на лавках уже расположились Петька Лобода и Варька Култышкина. Тут же сидела мать Егора Ивановича, бабушка Вера. По всему было видно, что она уже в курсе событий. Когда толпа заполнила избу, бабушка Вера встала и ушла в малую избу. Сборы были недолгими. Мужики, оглушенные свалившимся на них несчастьем, стояли посреди избы, не зная, что им делать. Сноха открыла крышку сундука и стала доставать свои наряды, подарки к свадьбе, купленные мужем в городе. Гришка Казак незаметно кивнул Варьке и показал на супругу Яшки. Та, с полуслова, поняв намек Гришки, быстро подошла к Евдокии, собрала в охапку вытащенные ей вещи, бросила их назад в сундук и закрыла крышку.
— Ты, Дунька забудь о сундуке. Все, что там было твое, теперь наше, колхозное.
Сказано вам убираться — вот, и убирайтесь, пока в шею не вытолкали!
Евдокия, выпрямившись, хотела что-то сказать, но губы ее задрожали, из глаз потекли слезы. В это время в избу зашла уже одетая бабушка Вера, подошла к снохе, взяла ее, как маленькую, за руку и тихо сказала:
— Пошли, Дуня, утри слезы и не обижайся на них, Бог им судья!
Вслед за бабушкой Верой и все остальные Пономаревы покинули свой дом, в который им никогда больше не пришлось вернуться.
Они спустились с крыльца и остановились, не зная, куда податься. Из всего имущества в руках была только икона Казанской Божьей Матери, которую держала бабушка Вера.
— Ну, голуби, вы как хотите, а я пошла к Яшке Попову, авось не откажет старухе в приюте.
Она повернулась и пошла по улице налево.
— А мы пойдём к моим! — подала голос Евдокия. — Изба у них просторная, детей, кроме меня, нет, авось поместимся, а там видно будет. Да и Варька наша сейчас у них.
Хотя и не любил Егор Иванович её советов, но выбора не было и пришлось ему, скрепя сердце, плестись следом за снохой. Сваты жили у церкви, а для этого нужно было пройти половину улицы. Шагал Егор Иванович, опустив голову, не глядя по сторонам, но краем глаза видел, что люди привычно табунились возле своих домов, грызли семечки, смеялись, и никому не было дела до униженных и ограбленных своих односельчан. Еще Егор Иванович отметил, что мужики не спешили снимать перед ним шапки, как это было ещё вчера. Конечно, все знали, что случилось, но никто не подошёл, не посочувствовал, не предложил помощь, словно люди выражали полное согласие со всем происходящим.
Сваты были дома. Они встретили Пономарёвых радушно, пригласили в дом, усадили за стол. Сваха быстро собрала обед и достала бутылку самогона. Сват не обмолвился ни словом о случившемся несчастье, хотя уже был наслышан, и предложил выпить за все хорошее. Егор Иванович, противник спиртного, залпом выпил стакан первача и с жадностью набросился на еду. Всё это время он в душе был безгранично благодарен родственникам за молчаливую поддержку и участие.
В эту же субботу жена Сергея Пономарёва, Дарья, рано подняла детей и повела их в баню. Помыв и постирав с них бельё, она отпустила ребятишек на улицу, а сама решила сходить в гости к золовке на край села, к речке, где та обитала вдвоем с мужем. Во всей многочисленной родне Пономарёвых Дарья, со своим тяжелым характером, кое-как старалась поддерживать связь только с Прасковьей, женщиной покладистой, бесхитростной и со всем согласной. Прасковья встретила ее со всем радушием, усадила гостью за стол и захлопотала возле печки, не переставая пересказывать деревенские новости. Прасковья говорила с юмором и мелкими подробностями, изображая людей в лицах, наделяя их характерными чертами. Причем делала все это без злобы, а ради смеха, лишь бы посмеяться. Дарья, наоборот, злорадствовала по каждому удачному выпаду золовки в адрес того или иного человека.
Вскоре самовар вскипел, и только они уселись за стол, как пришел муж Прасковьи, Володька Пономарёв, однофамилец и единственный на селе кузнец. Он был среднего роста, красив, ладно сложен, подвижен, с открытым лицом и смешинками в серых глазах. Весело поздоровался с Дарьей, разделся и присел к столу. Жена налила в кружку чаю и подвинула её мужу.
— Чай, это хорошо, — заметил он, отхлебывая из кружки, — а то совсем замёрз, стоя на юру!
— А кто тебя там держал? — спросила Прасковья.
— А держал меня Митька Жук, — в тон жене ответил хозяин. — И не только меня одного, но почитай всё село!
— Он, что ж, собрание на улице проводил?
— Вроде того, но иного рода. Да я гляжу, вы не знаете, что твориться на селе? — отодвинув от себя кружку, серьёзно сказал Володька.
— Ну и что же там твориться? — Не бросая шутливого тона, поинтересовалась Прасковья.
Володька резко поднялся, вылез из-за стола, вытащил из кармана полушубка кисет и дрожащими палицами стал свертывать цигарку. Достал из печки огонек, прикурил и жадно затянувшись, ответил женщинам:
— Вот вы сидите здесь в тепле и пьете горячий чай. А там людей, от мала — до велика, раздетыми, выгоняют из своих домов на улицу.
— Как выгоняют? Зачем? — Не понимая сказанного, спросила Прасковья.
— Ты, Прасковья, все зубоскалишь, все насмешничаешь, а не понимаешь такого слова, как раскулачивание. Пока вы тут чаевничаете, Митька Жук со своими помощниками выбросил на улицу целые семьи, отобрав у них не только дома, но даже еду и одежду. Раскулачили Рыбиных, Хохлов, Дымковых, Чульневых, Егора Ивановича, его брата Митрофана, и еще кое-кого. Понятно! Одним словом, раскулачили всех, кто состоял в кооперативе Сергея Пономарёва!
— Господи! — перекрестилась Прасковья. Смешинки в глазах потухли и она на миг растерялась. — Так он и до нас доберётся, как-никак мы родня Пономарёвым, ведь ты сказал, что батю раскулачили!
— Едва ли нас раскулачат. Мишка Жогов сказал, что партийцы решили раскулачить в первую очередь самых работящих, то есть тех, к кому люди прислушиваются и уважают, тем самым, припугнув и других. Якобы для того, чтобы другие, глядя на них, не отказывались становиться колхозниками. Нас же не тронут, так как, во-первых, мы подали заявление в колхоз. Во-вторых, я единственный кузнец в селе, а без меня колхозу не обойтись.
— Если раскулачили всех, кто состоял в кооперативе, то нас должны, в первую очередь раскулачить, ведь Сергей создавал этот кооператив. Господи, Боже мой, что же происходит? — Дарья вылезла из-за стола и стала торопливо одеваться.
— Я спрашивал Мишку, — вслед Дарье проговорил Володька, — а он мне ответил, что Козырев распорядился пока не трогать Серегу и Никиту!
Но Дарья, очевидно, не слышала его последних слов, торопливо хлопнув дверями.
Евдокия тоже стала собираться. Рассказ зятя, словно обухом оглушил Дарью и она, выскочив на улицу, кинулась домой, не видя ничего вокруг, не замечая толпившихся людей и множество повод с зерном, рабочим инвентарем, домашней утварью и другим барахлом, наваленным в них. В доме было тихо, очевидно детишки еще бегали по улице, а за столом сидели друг против друга два брата — Сергей и Никита. При появлении Дарьи они замолчали и тревожно посмотрели на нее. По этим взглядам она поняла, что твориться на селе им известно. Кроме того, они не стали ее ни о чем расспрашивать, а возобновили, прерванный ее приходом, разговор.
— Одним словом, Серёга, нужно ехать в город, — подытожил Никита. — Сейчас в Воронеж из Москвы приехал Калинин. Говорят, что он в специальном поезде объезжает области и выслушивает жалобы крестьян. Я сделаю все, чтобы попасть к нему на прием, как-никак я все же орденоносец, а ты иди на прием к Варейкису. Все равно найдем управу на наших князьков!
— Но нам нужно повозка! — ответил Сергей, согласившись с братом.
— Пока начальство раскулачивает, я пойду на конюшню, запрягу твою полукровку в облучок и только нас и видели!
— Но это же, Никита, скандал. Не дадут тебе лошадь с облучком!
— А я ни у кого спрашиваться не собираюсь. Небось на конюшне Петька или Мишка Жогов, а с ними у меня короткий разговор. Ты пока собирайся! — Никита хлопнул дверями и выскочил на улицу.
Через каких-нибудь полчаса Никита подкатил к воротам Сергея и постучал в окно.
Сергей был уже одетым. Он тут же вышел из дома и уселся в облучок. Никита тоже сел рядом с братом, подобрал вожжи и чмокнул. Полукровка рванулась и, перебирая точеными ногами, пошла рысью вдоль дороги. Но Никита не поехал Большаком, а свернул вдоль гумен, подальше от людских глаз. Тут дороги не было, но лошадь, ломая твердый наст, легко несла облучок с двумя седоками. Сначала они ехали молча, но, выехав в Сомовский лес, постепенно разговорились. За последнее время у них столько накипело в душе, что они были рады поговорить друг с другом без свидетелей, обсудить сложившуюся обстановку.
— Скажи мне, Серега, что ты думаешь об этой коллективизации? Понятно, зачем она нужна Митьке Жуку, Гришке Казаку, Петьке Лободе и другим бездельникам. В колхозе они станут начальниками, будут погонять, и покрикивать на нас. Это ясно! Но я никак не возьму в толк, для чего нужно было выгонять людей из домов? Сначала отобрали землю лошадей, инвентарь, а теперь и людей пустили по миру. А ведь у многих маленькие дети, старики. Где им жить, чем питаться? Кому они мешали?
— Видишь ли, Никита, я и сам ничего не понимаю. Наш кооператив продавал столько зерна, сколько не собирает все остальное село. И если раскулачивание идет по всему государству, а не только у нас, то страна останется без хлеба, а это — голод. Не только Митька Жук и Петька Лобода, но и те, кого загонят в колхозы, будут работать спустя рукава, абы как. Ты прав, что колхоз нужен бездельникам. Там можно отлынивать, а получать наравне со всеми, но меня удивляет, что Обком, ЦК допускают такое безобразие. Неужели там нет ни одного здравомыслящего человека? Вот доберусь до Варейкиса и задам ему этот вопрос.
Рассуждая таким образом, два брата, ехавшие в город искать справедливость, переживали не только за близких им людей, но и за судьбы страны. Наивные, привыкшие верить сначала царю-батюшке, а затем большевикам, они считали, что правители призваны заботиться о благе народа и страны. Даже Сергей, человек довольно грамотный, читающий газеты, не мог разобраться во всех этих пленумах и съездах. Из газет он знал, что в верхах идут разговоры об индустриализации, о переустройстве села и сельского хозяйства. Он понимал, что правительству давно нужно было заняться проблемами села, но его не могла не беспокоить судьба своего кооперативного хозяйства. К тому же ему было известно, что подобные кооперативы были созданы во многих селах Черноземья. Он много раз задавал вопрос о перспективах села многочисленным уполномоченным, приезжавшим из города, но вразумительного ответа так и не получил. Очевидно, они знали столько же, сколько знал и Сергей. Да и откуда было знать, если газеты писали лишь о происках оппозиции, о левых и правых уклонах, но ни слова не говорилось о том, что ждет крестьян после коллективизации. Если бы братья знали поставленную правительством задачу ликвидировать кулаков как класс, то они тут же повернули лошадь, вернулись домой, забрали детишек, бросили дома и подались бы, куда глаза глядят. Но они ехали в город искать защиты и еще не знали, что ЦК партии снял все запреты на раскулачивание и разрешил выселять кулаков в районы, отдаленные от их постоянного места жительства, с конфискацией у них всего имущества, а сопротивляющихся расстреливать. А они все еще винили местных партийцев в беззаконии, в произволе, и не знали, что ни Митька Жук, ни сам Варейкис уже не могли остановить безжалостный маховик, сметавший на своем пути все лучшее на селе.
На заезжем дворе было пусто. Их встретил дворник Никифор, служивший здесь еще с царских времен. Он хорошо знал обоих братьев и, сняв с головы облезлый треух, поклонился и подал обеим руку. Никита вручил ему трешку, наказал распрячь лошадь, покормить ее и попоить. Никифор еще раз поклонился братьям и, взяв лошадь под уздцы, повел ее в глубину двора. Они постояли немного, покурили, вышли на улицу и разошлись в разные стороны. Никита вышел на Большую Дворянскую, покрутился возле памятника Никитину и, заметив возле банка фигуру, торопливо пошел через площадь. Фигура оказалась милиционером, который подозрительно оглядел спешившего к нему человека, остановился и стал поджидать. Подойдя к милиционеру, Никита поздоровался и спросил, не знает ли тот, где сейчас принимает Калинин. Милиционер еще внимательней осмотрел Никиту и спросил:
— А зачем он тебе нужен?
— Да вот хотел бы записаться к нему на прием!
— Так он и разбежался принимать тебя!
— Примет, коль я к нему приехал!
— Едва ли! У него только и делов, что бы принимать каждого встречного и поперечного!
Никита ничего не ответил, но обрадовался, что Калинин еще в городе. Он расстегнул полушубок и показал милиционеру приколотый к пиджаку орден Красного Знамени. У того отвисла челюсть, и изменилось лицо. Потом, придя в себя, он вытянулся по стойке смирно и приложил ладонь к буденновке. Такой орден вблизи он видел впервые.
— Прошу прощения, не признал. Докладываю! Михаил Иванович в своем поезде, в тупике, на вокзале!
Потом он шагнул в сторону, свистком подозвал проезжавшего лихача и что-то сказал ему, указывая на Никиту. Тот спрыгнул на землю, расправил полость и пригласил Никиту в коляску. Милиционер взял под козырек, возница дернул поводья, и справный жеребец сразу пошел крупной рысью.
На вокзале давка, негде поставить ногу. По тому, как бегали железнодорожники, как милиционеры охраняли двери, ведущие к поездам, и патрулировали перрон, Никита понял, что Калинин здесь, в своем вагоне. Как же миновать опричников, стоявших у дверей? Орден то, орденом, а если спросят документы, которых у него нет? В вокзале душно, от печей тянуло жаром, от людей парило и тянуло какой-то кислятиной, дышать было нечем. Люди сидели и лежали вповалку. Это были, в основном, деревенские люди, бегущие от коллективизации, раскулачивания и непосильных налогов. Видно было по тому, что все они расположились семьями, с маленькими детишками и стариками. Никита почувствовал, что потеет, и расстегнул полушубок, невольно взглянув на орден. Орден сразу придал ему смелости и уверенности. Он вспомнил, как в 1919 году, после изнурительного похода по заснеженной равнине, их часть добралась до какой-то станции. Замёрзшие и уставшие бойцы прикорнули на полу и тут же заснули. Утром их разбудили крики и ругань. Уже потом Никита узнал, что тогда на станцию прибыл в своем поезде сам Троцкий и комендант поезда приказал очистить вокзал для приема председателя Реввоенсовета. Всех вытолкали, а Никита не хотел расставаться с теплым помещением и упорно делал вид, что не может проснуться. Как ни билась охрана, но разбудить его так и не удавалось. В это время в помещение вошел сам Троцкий и спросил, что здесь происходит. Ему ответили, что не могут разбудить какого-то командира. Тот махнул рукой и распорядился его не трогать. Эпизод всплыл в памяти потому, что тогда только хамство помогло уберечься от мороза. А что если и сейчас использовать этот прием, ведь попытка не пытка. Он распахнул полушубок так, чтобы был виден орден и двинулся к дверям. Оба милиционера повернулись к нему, взглянули на орден и, переглянувшись, вопросительно посмотрели на его обладателя. Никита поздоровался с ними и тихо сказал:
— Мне к Михаилу Ивановичу!
Что они подумали о нём? За кого они его приняли? Однако расступились, открыли ему двери и пустили на перрон. Здесь его никто не остановил, посчитав, что проверили прежде, чем он сюда прошел. У вагона стоял постовой с винтовкой и спросил:
— Что нужно?
— Мне нужно к Михаилу Ивановичу!
Постовой открыл двери тамбура и кого-то позвал. Тут же появился молодой человек в военной форме, окинул Никиту оценивающим взглядом и спросил:
— Что вам?
— Мне нужно повидать Михаила Ивановича!
— Он, что назначил вам приём?
— Да нет, я первый раз здесь!
Молодой человек немного задумался, а потом сказал, что Михаил Иванович сейчас занят и принять его не может. Но потом, увидев орден, добавил, что можно прийти завтра, часов в двенадцать. Попросив подождать, он через несколько минут вернулся и протянул Никите бумажку.
— Вот вам пропуск, чтобы вы беспрепятственно прошли сюда. До свидания!
Выйдя из вокзала на площадь, Никита с хорошим настроением пошел к трамвайной остановке, перебирая в уме всё, что произошло с ним за эти полчаса. Если на милицию его орден так подействовал, то Калинин тоже внимательно отнесется к нему. Перед ним вставали радужные картинки о предстоящей встрече — одна, краше другой. Он расскажет всесоюзному старосте о своей жизни, о жизни брата, о жизни своего отца и всей большой семьи. Он не сомневался, что Калинин немедленно вызовет и поставит на место сельских беспредельщиков. Вот тогда посмотрим, чья возьмет. Сойдя с трамвая возле памятника Никитину, он зашел в бывший магазин купца Рудакова, купил бутылку водки, свернул за угол и поднялся на второй этаж в квартиру сестры Веры. Сергея не было. Вера была одна и предложила ему перекусить. Он отказался и стал ждать брата, не став рассказывать о цели своего приезда. Затем прикорнул на диване и вскоре уснул.
Утром, на следующий день, братья вновь отправились по своим делам: Никита пошел на приём к Калинину. Сергей — в Обком партии. Варейкиса вчера в Обкоме не оказалось, но оставалась надежда встретиться с ним сегодня.
Разговор с Калининым был недолгим, но принял Калинин его сразу же, как только Никита подошел к вагону. Потом он еще долго возмущался приёмом, оказанным ему всесоюзным старостой, который даже не поинтересовался, за что он получил орден и где воевал? Не спросил о семье и что думают крестьяне о колхозах? Оборвал и не дал до конца рассказать о кооперативе, не попытался даже выслушать, что всех его членов раскулачили, и они теперь ищут защиты. Вообще ему не понравилось, что Калинин был рассеян, чем-то озабочен, плохо его слушал и, как ему показалось, вообще спешил избавиться от своего собеседника. Когда он пришел к сестре, то там его дожидался брат. Сергей рассказал, что у дверей Обкома встретил Нечаева из сельскохозяйственного института, который сказал, что Варейкис и вчера никуда не выезжал из города, а просто никого не принимает. Одним словом, Варейкис не захотел с ним раговаривать. Никита, в свою очередь, поведал брату о встрече с Калининым и оба сделали вывод, что ничего хорошего ждать от этого похода по верхам не надо. Оставалось уезжать, не солоно хлебавши. Поэтому тут же простились с сестрой и поспешили уехать. Перед самым семилукским мостом они встретили Полякова, который, лежа в санях, ехал им на встречу. Они хотели спросить, где тот взял дровни и лошадь, но он остановился сам, спрыгнул из саней и, подбежав к Пономарёвым, затараторил:
— Я знаю, что вы уехали еще вчера, — почти шёпотом говорил мельник, — и не знаете, что вас тоже раскулачили. Твоя, Серёга, приютилась у Бендереши, а твоя, Никита, не знаю даже где!
Эта новость так оглушила братьев, словно над ними с треском раскололось небо. В первый момент они даже не поняли трагизма всего произошедшего. И только когда мельник тронул свою лошадь и, опустив голову, проехал мимо них, посмотрели друг другу в глаза и глубоко вздохнули, погрузившись в свои невесёлые думы.
— Может быть, Серёга, забрать своих и податься в город? — подал голос Никита.
— Во-первых, нужно узнать, что там твориться, где они, что с ними? Во-вторых, куда ты денешься с такой оравой, не имея справок? Остановят на первом углу и отправят всех назад.
— Ну что ж, остается только взять ружье и перестрелять всю эту сволочь!
— Если бы, Никита, можно было, у меня бы рука не дрогнула, но плетью обуха не перешибёшь. Перестрелять — это пустая затея. Ну, перебьёшь наших идиотов, пришлют других, а тебя шлёпнут. Так что выкинь это из головы. А теперь поехали, своих надо искать!
Утром, когда они выехали из города, стояла ясная погода, без ветра, метели и довольно с крепким морозом. Глубокий снег уже был тронут оттепелью, лежал на земле крепким настом. Дорога была чудесной. После обеда ветер усилился, прибивая к полям тяжелые сизые тучи, дыхание его становилось резким и пронизывающим. Никита чмокнул, и лошадь пошла вскачь. Возле дома Попова Егора Яковлевича, по-уличному Бендереша, единственного из членов кооператива, кого до сих пор не раскулачили из-за его бедности, Никита придержал лошадь и высадил Сергея. Именно на дом Бендереши указал мельник, говоря, где приютилась Дарья. Сергей вбежал на крыльцо, прошел темными сенями и распахнул двери в избу. Через маленькие оконца проникал скудный свет и в избе царил густой полумрак. В первый момент он ничего не разобрал, но потом глаза привыкли к темноте, и он увидел массу людей, занявших печку, лавки и скамейки. За столом сидела большая группа ребятишек, которые усердно облупливали кожуру с картошки и прикусывали большими желтыми огурцами. На печке сидел Никифор Дымков с матерью, женой. На лавках расположились его снохи и сыновья — Настя, Мария, Федор и Михаил. Возле печки стоял Григорий Чульнев, упираясь головой в потолок. Рядом, на суднице, сидела его жена и двое сыновей подростков. Здесь же был и хозяин дома Егор с женой. Когда Сергей зашел в избу, голоса умолкли и все взоры устремились на него. К нему, по — медвежьи косолапя, подошел хозяин дома и протянул руку:
— Ну, как там, в городе, Сергей Егорович?
— Пустой номер, Егор!
— И что же вам теперь делать? У вас же все отобрали: негде жить, нечего жрать, полно детишек. Чего начальство добивалось, обрекая вас на голодную и холодную смерть?
— Я встретил в городе одного знакомого, разговорился с ним и он мне объяснил, что все это делается по указке партии, которая потребовала от местных властей не только отобрать у нас все, что мы нажили своим трудом, но и выселить в далекие края!
— Для чего это делается? Кому это нужно?
— Нужно это Сталину, чтобы загнать всех крестьян в колхозы и получать бесплатный хлеб. Вот Сталин и придумал напугать крестьян раскулачиванием, а на нашем горьком примере заставить их поголовно вступить в колхозы.
Сергей заскрипел зубами и его глаза засверкали недобрым огоньком.
— А где же моя Дашка? Что-то я не вижу ее?
— Да, ты же еще не знаешь! Сегодня утром из Нового Подклетного приехал ее брат Семён и увез к себе!
— А где ребятишки?
— Сынишка твой уехал с матерью, а девки разбежались по подружкам!
— Ну и я пойду!
К нему подошла Маруся, жена Егора, и предложила Сергею пообедать. Он обедать отказался. Встал, попрощался с мужиками и вышел из дома. На крыльце остановился, вздохнул и осмотрелся вокруг. Наискосок виднелся отцовский дом, забитый не хозяином, а чужими людьми, и на мгновение поймал себя на желании зайти в эту знакомую до мелочи хату, где он родился, вырос, возмужал, нарожал детишек. Откуда ушел на войну и куда вернулся искалеченным. И вот опять стараются искалечить теперь уже его душу, смешать с грязью, превратить в пыль. Он сбежал с крыльца, завернул за угол и быстро зашагал по Ломам. Ему не хотелось ни встречаться, ни разговаривать с кем бы то ни было. Прошел улицу, не встретив никого, миновал мостки мельницы Полякова, обогнул крайние домики села и направился к мосту через Дон. Вскоре перед ним возникли силуэты домиков выселок Нового Подклетного. Он запахнул полушубок, надвинул шапку на лоб и ходко зашагал по пойме.
Шуряк Семён и его жена Груша встретили Сергея, помогли раздеться и пригласили за стол. Дарья понуро сидела в углу на скамейке, а сын спал на печке. Семен сбегал в лавку и принес бутылку водки. Груша из погреба принесла квашеной капусты и огурцов, достала из печки чугунок с тушеной картошкой. Из деликатности ни он, ни она не лезли с расспросами, считая, что если нужно, он и сам расскажет, что случилось. Сергей, не евший целый день, был голоден и с жадностью набросился на еду. Дарья есть отказалась, и даже не присела к столу. Брат и сноха, зная нрав Дарьи, не стали ее уговаривать. После второго стакана Сергей спросил:
— А у вас многих раскулачили?
— Да нет, всего два двора — нашу тетку Сашу, да Романовых, а вот в Ямном дворов шесть.
— А тетку-то за что? Ведь у них с мужем не было ни земли, ни скотины, да и дом больше смахивал на сарай?
Семен предложил выпить и, опустив на стол пустой стакан, рассказал Сергею о всех последних событиях, произошедших в селе.
Председателем колхоза в Новом Подклетном стал Владимир Иванович Андреев, до этого работавший на кирпичном заводе в Семилуках. Мужик внимательный, умный, он вскоре всех людей знал в лицо. Создал колхоз, в который записались практически все жители, но на очередном совещании в райкоме, приехавший из Воронежа представитель Обкома партии, потребовал от него немедленно раскулачить в селе всех кулаков и злостных саботажников, прячущих хлеб. Андреев спокойно выслушал и спросил:
— Кто ты таков и почему я тебя не знаю?
— Я, уполномоченный из области, Хорошилов!
— Оно и видно, что ты не был у попа и не знаешь не кляпа! У нас никто хлеб не прячет, ибо мы и сами покупаем муку.
— А почему вы не сеете зерновые?
— У нас негде сеять, кругом пески по колено. Занимаемся только овощеводством, и кормим овощами половину города. А чем еще прикажете заниматься на пойме? Вот эта пойма и заставила людей записаться в колхоз поголовно, ибо овощи требуют много рук. А кулаков еще не вырастили, так как люди сюда переселились каких-нибудь восемь лет назад и многие еще даже не построились. Так что, мил человек, извините, но я в вашей афере участвовать не могу и не буду!
Хорошилов, очевидно, был из породы тех, кто не терпит возражений, и хотел, чтобы последнее слово всегда оставалось за ним. А тут какой — то колхозник не только выставил его дураком, но и назвал аферистом.
Сельсовет и партячейка находились в Ямном, и на другой день, после разговора с Андреевым, Хорошилов вызвал в Обком секретаря партячейки и председателя сельсовета. Спустя два дня, после накачки в городе, они, в сопровождении нескольких активистов, появились в выселках. В это время, в пустующем доме Калинкиных, шло совещание бригадиров. Секретарь партячейки Лешка Парфенов объяснил присутствующим, что прибыла группа для раскулачивания кулаков.
— Раскулачиванию подлежат два хозяйства: Черноусова Митрофана и Романовых, — заявил Лешка.
— Ну, ребята, попали вы пальцем в небо! Ни у тех, ни у этих никогда не было и нет никакого хозяйства. У Черноусовых небольшой огородик внизу, а у Романовых во дворе кустики малины, смородины и цветы. Они никогда и скота не имели. Кроме того, Черноусовы люди старые, а сам Митрофан лежит при смерти. Да чего там говорить, пошли к ним и сами посмотрите.
Когда вся толпа с трудом втиснулась в убогое жилище Черноусовых, именуемое избой, то все увидели, что хозяин лежал на топчане, по его заострившемуся лицу катился пот, глаза закрыты и он, очевидно, был без памяти. Супруга сидела в изголовье мужа и вытирала ему пот полотенцем, не обращая внимания на вошедших. Бригадир Василий, сосед Черноусовых, подошёл к жене, взял её за руку и вывел на улицу. Он попытался объяснить, зачем к ней пришли незнакомые люди, и добавил, что если нужно, то мужики сейчас быстро укажут им обратную дорогу, на что она ответила:
— Нет, Вася, не надо поднимать шума. Я всё равно не останусь здесь. Как только Митроша умрет, а жить ему осталось несколько дней, он будет мне не только сниться, но и мерещиться наяву. Нет, жить я здесь не собираюсь!
В это время из сеней стал выходить народ, опустив головы и не глядя друг другу в глаза. Лёшка Парфёнов предложил идти к Романовым. Пошли молча. Минули добротный дом Ревутовых, прошли мимо Дермонтовых, Артамоновых, и стали подниматься по косогору. Василий спросил Парфёнова:
— Скажи мне, Лешка, какой идиот приказал вам раскулачить Черноусовых и Романовых? Может быть, ты это сам придумал?
Парфенов ответил:
— Черноусовы занимались торговлей и эксплуатировали крестьян, закупая у них за гроши махорку.
— Но ведь это было еще при царе. Кроме того, они не торговали, а сами работали на купцов. Значит, не они эксплуатировали крестьян, а купцы.
— Все равно они жили не своим трудом, а трудом людей!
— А Романовых за что кулачить? Они-то не торговали?
— Тогда ответь мне, как они, не имея ни земли, ни скота, не работая, на какие такие шиши живут? Не иначе недорезанные буржуи!
Никто и никогда не интересовался «на какие шиши живут» эти недорезанные буржуи. Люди только видели, что они не работают на земле, в летнее время катаются на лодке по озеру, купаются, ловят рыбу, ходят в лес, собирают грибы и орехи, зимой катаются с горы на лыжах и санках. Одним словом, не работают, а отдыхают. Люди они были не местные, а пришлые, городские, и поэтому местные жители, вначале, встретили их насторожено, с недоверием. Но однажды у Самохиных заболел мальчик. Больницы ни в Подклетном, ни в Ямном не было, а везти мальчика в город никому и в голову не пришло. Пригласили знахарку, но ему становилось все хуже и хуже. Тогда дед набрался духу и пошел к Романовым. Он снял картуз, поклонился хозяйке и спросил:
— Не может ли барыня помочь горю?
— А что случилось? Что у вас за горе?
— Да вот заболел у нас внучек!
— И что с ним?
— Так вот горит весь, даже бредит!
Самохин привёл соседку в свой уютный домик. Полы были вымыты, на окнах висели ситцевые занавески. На вопрос, где вымыть руки, сноха Самохиных, ладная и миловидная Настя, зачерпнула из ведра черпаком воды, слила ей на руки над дежой и подала чистое полотняное полотенце.
— Ну что ж, показывайте своего больного!
Её провели в запечье, где стояла старая деревянная кроватка, в которой, распроставшись на простынке, лежал мальчик лет трёх-четырёх. Было видно, что у него высокая температура. По лицу, за ушами, на шее высыпала крупная сыпь, он покашливал. Фаина, так звали Романову, попросила вынести кроватку к окну и наклонилась над малышом. Осмотрев его ротик и прощупав пульс, сказала:
— У него корь. Его срочно надо везти в город, в больницу!
При этих словах, молодка залилась слезами, замотала головой и истерично воскликнула:
— Ни за что!
— В противном случае он умрет!
— Пусть лучше умрёт, чем везти его в больницу, — и молодая мать захлебнулась в рыданиях.
— Чтобы его вылечить здесь, нужны лекарства, а у меня их нет!
— А нельзя ли съездить за лекарствами в город? — подала голос с печки бабушка мальчика.
— Почему бы и не съездить, — после минутного раздумья промолвила соседка. — Только ехать придется мне самой, иначе никто из вас не найдет нужных лекарств. Во-первых, у меня нет рецепта с печатью, по которому их можно купить, во-вторых, человек, который мог бы эти лекарства дать без рецепта, по моей записке, в городе отсутствует.
— Так это, барыня! Я мигом запрягу в телегу лошадь и доставлю вас в город, — засуетился отец Самохин.
— Согласна, только схожу домой и переоденусь!
Прошло время, мальчик выздоровел. Родители, дед и бабушка не знали какому богу молиться, и решили отблагодарить барыню. Но она не только не взяла деньги, а обиделась и сказала, чтобы они больше никогда не обращались к ней за помощью.
Между тем активисты во главе с секретарем партячейки подошли к дому Романовых. Он отличался от дома крестьян тем, что был выше, просторнее, с высокими потолками. Внутри дом был разделен на две комнаты, вместо темных сеней к дому была пристроена застекленная веранда. Полы на веранде и в доме были тщательно вымыты и отливали желтизной. На столах красовались вышитые скатерти. У стен стояли два дивана, по углам приютились мягкие кресла. Через большие окна лился мягкий свет, скрадывая отблески снега. Войдя на веранду, толпа остановились, пораженная невиданной чистотой. Хозяйка встала, тряхнула, совершенно белыми, густыми волосами с короткой стрижкой и натянуто произнесла:
— Заходите, товарищи, не стесняйтесь! Рассаживайтесь, где найдете место!
Мужики, потоптавшись на месте, стали выбирать места, где можно было присесть, не бросаясь в глаза. На ногах остался Лешка Парфёнов. Он достал из кармана мятый листок и намерился, было, прочитать текст, но хозяйка его остановила:
— Извините, товарищ, не знаю, как вас величать, но можете не читать, ибо я прекрасно знаю, зачем вы пришли. А так, как я вас не знаю, то разговаривать на эту тему буду только с председателем колхоза. Прошу послать за ним человека и пригласить его на это сборище.
Ничего не оставалось, как послать за Андреевым. Вскоре пришел и председатель колхоза. Хозяйка встала с кресла, шагнула ему навстречу и протянула руку для пожатия.
— Владимир Иванович! Ко мне нежданно и негаданно ввалились вот эти товарищи, хотя везде принято, что прежде чем идти к незнакомым людям, хозяев предупреждать и договариваться о визите. Да вы, Владимир Иванович, садитесь на мое место, я вас долго не задержу. Мы с семьей уезжаем, но нужно соблюсти некоторые формальности. Правда меня еще вчера предупредили об этом визите и сообщили, что нас решили раскулачить. Так знайте, что мы с мужем не кулаки, а просто врачи. Мой муж известный хирург, у которого лечится все областное начальство и даже приезжают из Москвы. Два сына и дочь музыканты, выступают на концертах в филармонии и учат ребят игре на музыкальных инструментах. Недавно моего мужа пригласили на работу в Москву, поэтому мы и уезжаем.
Она подошла к столу и достала две бумажки, придавленные небольшим кофейником.
— Вот, Владимир Иванович, вам два документа! Вот этот документ гласит, что исполком, такому — то такому, дает право построить дачу в любом месте области, по своему выбору, а местной власти предписывается оказывать ему содействие. Документ берегите, ибо, не дай Бог, найдется еще какой-нибудь болван и обвинит вас в пособничестве буржуям, троцкистам или уклонистам. Другая бумага говорит о том, что мы дарим свой дом со всей мебелью колхозу. Используйте его по своему усмотрению и, очевидно, мы с вами больше не встретимся. Поэтому прощайте и не поминайте лихом!
— Фаина Родионовна, я прикажу подать сани! — тихо проговорил Андреев и поблагодарил хозяйку за подарок.
— Нет, Владимир Иванович, у нас есть свой транспорт, так что спасибо за заботу!
В это время на веранду с шумом и смехом ввалились взрослые дети и застыли, словно казацкие пики, увидев множество людей.
— Дети, кушать и в поход! — распорядилась мать.
Мужики встали и покинули уютный дом. Спустя час, четыре фигуры вышли из дома Романовых, пересекли улицу и, надев лыжи, скрылись за спуском оврага.
— А что же случилось с тетей Сашей? — поинтересовался Сергей.
— Через три дня, как она и говорила, — ответил Семен — умер дядя Митрофан.
Собралась родня, похоронили, помянули. С могилок тетя домой не пошла, а поселилась у Калинкиных. Их дом стоял пустым с тех пор, как Мишка с женой отравились угаром, оставив сиротами малолеток — девочку и двух мальчиков. Приютила их Мишкина сестра, но тетя Саша забрала детей и теперь они живут с ней. Родная тетка была только рада этому, ибо у самой четверо ребятишек.
— Конечно, тете Саше легче, она хоть немного поживет в хорошем доме. В принципе она ничего не потеряла. Романовы теперь тоже поживают в Москве, а что делать мне, ума не приложу? Все, что было приобретено, отобрали и выгнали из дома. Теперь жить негде и есть нечего, а ведь у меня их пять ртов. Подумывал податься в город, а кто меня там ждет?
— Ты, Серега, пока поживи у меня, а потом видно будет. Выбрось все из головы, авось образуется, а пока отдыхай.
— Легко сказать, выбрось из головы, а как не думать и не переживать?
И тут, нарушив молчание, в разговор вступила Дарья, обвиняя мужа во всех несчастьях. Она упрекала его в том, что он создал кооператив лишь бы не работать, а быть начальником. Мол другие мужики никуда не лезли, жили тихо, незаметно, а ты хотел быть всегда на виду, всем доказывал, что самый умный, а на деле оказался в дураках. Своими упреками она ни давала ему продохнуть. Он как мог, оправдывался, приводил всевозможные доводы. Говорил, что кооператив здесь ни при чем, что по всей стране идет борьба с крестьянством, и так уж получилось, что я своим кооперативом стал мешать создавать колхозы. Но все доводы были напрасными, и упреки сыпались на его голову каждый день. При очередном скандале Сергей спросил жену:
— Если ты такая умная, то скажи, что бы ты сделала?
Дарья тут же нашлась:
— Об этом нужно было думать раньше!
В конце концов, она так допекла его своими придирками, что Сергей не вытерпел и пригрозил:
— Если ты не перестанешь привязываться ко мне и винить меня во всех несчастьях, то я тебя сейчас пристрелю и застрелюсь сам. Пойми меня, что мне так тяжело, так горько, а ты, моя жена, вместо того, чтобы поддержать, наоборот, вынула из меня всю душу.
Сергей схватил с лавки полушубок, выхватил из его кармана наградной маузер, взвел курок и навел на жену. Дарья побелела, глаза расшились, губы задрожали, она бросилась на колени перед мужем и обняла его ноги. Она не просила пощады, не молила о снисхождении, а лишь хрипела, издавая нечленораздельные звуки. Сергей оттолкнул жену, сунул маузер назад в карман и вышел из избы. Вечером, когда Сергей уснул, Дарья слезла с печки, на цыпочках нащупала полушубок мужа, достала маузер, вышла во двор и бросила его в колодец. И все же, после этого случая, Дарья притихла и затаилась.
Однажды Семён с женой пришли вечером домой и собрались ужинать. Семен присел к столу, достал из кармана газету и протянул ее Сергею.
— Эту газету привез из города Андреев и сказал, чтобы я дал ее тебе почитать.
Сергей развернул газету. В глаза бросился крупный заголовок передовой статьи –
«Головокружение от успехов». Под ней стояла подпись — И.В.Сталин. Сергей подвинул к себе лампу и углубился в чтение. Перестав читать, он повернулся к Семёну и спросил:
— Ты читал эту статью?
— Да нет, некогда было. Что, хорошо пишет?
— Сталин критикует местную власть за то, что она в погоне за процентами коллективизации нарушила установку партии. Он ничего не сказал нового. Все, что он сказал, нам и без него давно известно. Эта сволочь не собирается бить отбой, а лишь успокаивает народ, сваливая все беды крестьян на местную власть, хотя все делается только по его указке. Это просто иезуитский ход. Там, где крестьяне сильно возмущаются политикой партии, там, может быть, кого-то и накажут, даже снимут с должности, но оставят все по-прежнему. Ведь в этой статье ничего не говориться о том, чтобы вернуть землю, скот, инвентарь, отдать кулакам дома.
— А скажи мне, Сергей, для чего это все делается?
— Вот у тебя был земельный надел, где ты выращивал свои овощи? А куда ты их девал?
— Продавал на базаре.
— Вот, а в колхозе вы не будете торговать сами. Вам прикажут везти овощи в город и вы туда, где покажут склады, повезете. Хорошо, если за сданную продукцию не вам, а колхозу заплатят гроши, а то заберут бесплатно, и никуда вы не денетесь. Не разрешат брать с колхозной земли даже огурцов с помидорами, чтобы сделать запас на зиму. Все запасы будут делаться с небольших делянок, которые вам нарежут по указке начальства, а продать самому — и не думай. И я тебя не пугаю, а говорю правду. Да ты и сам убедишься летом. Однако пора спать, а то завтра рано утром мне нужно вернуться назад. Отвези нас, пожалуйста!
Семён остановил лошадь возле дома Егора Попова, высадил Сергея и Дарью с сыном. Попрощался, пожал Сергею руку, кивнул сестре, развернул сани и скрылся за углом. Войдя на крыльцо, они увидели, что двери дома забиты поперек досками. Когда спустились с крыльца вниз, Сергей пожал плечами и постарался оценить обстановку. Так и стояли они возле заколоченного чужого дома, не зная куда идти.
— Пойдем к Якову Федоровичу, авось он знает, куда делся его сын, — наконец выговорил Сергей, обращаясь к Дарье.
Свой дом Егор Яковлевич, когда он женился, поставил на усадьбе отца не потому, что не было свободной земли, а потому, что к этому времени мать Егора Яковлевича умерла, а отец, старый и больной, был уже не в силах и не мог себя обслуживать. Поэтому бабушка Вера и выбрала дом Якова в качестве пристанища, зная, что помощь старому, больному человеку не помешает, а значит, ее присутствие будет не в тягость. В небольшой избе, куда вошли Сергей и Дарья, они увидели бабушку Веру, вязавшую чулок за столом. В комнате было тихо и уютно. Яков Федорович лежал на печке. Он положил седую голову на задору и смотрел выцветшими глазами на вошедших в избу.
— Это ты, Сергей? А мне показалось, что вернулся Егорка!
— А откуда он должен вернуться?
— Так ты ничего не знаешь?
— А откуда мне было знать, если я жил у шурина.
— Тогда слушай. На второй день, как ты ушел искать Дарью, заявился к Егору в дом Гришка Казак с активистами и выгнал не только всех раскулаченных, но и самого Егора с семьей. Забили дверь досками и ушли. Егор посидел у нас пару часов и тоже ушел. Смотрю, через некоторое время подъехал к дому на лошади, к саням привязана корова. Усадил в сани Маруську и ребятишек и сказал, что пока поедет в город, а там видно будет. Попрощался и уехал. Думаю, что он сделал правильно. Может и тебе, Сергей, податься следом?
— Пока подожду. Вот у меня есть газета со статьей Сталина, где он расчихвостил местную власть за перегибы при раскулачивании. Верится тяжело, но может быть, что-нибудь, да измениться?
— И ты веришь, что Сталин пошел на попятную? — проговорила бабушка Вера. — Не верь ему! Это очередной ловкий ход, чтобы успокоить крестьян. Да, Яков тебе не досказал, что примерно через час после отъезда Егорки к нам ввалились Митька Жук и Гришка Казак. Где, спрашивают, Егор? Я ответила, что ему не нянька, а он не ребенок, спросите у других людей. Тогда они сказали, что уже спрашивали и прекрасно без меня знают, куда он поехал. Поедут сейчас вдогонку и если догонят, то ему не поздоровиться. После пришла Акулина Дымкова и рассказала, что Егор избил Мишку Рыбина и Анисима Демидова, связал их и забрал лошадь с коровой.
— Егор не дурак, чтобы попасться этим тварям в руки. А ты, бабушка, не знаешь где приютился Никита?
— У Рыбиных, тёща приютила. Яшка и отец пока у сватов. Митрофан рассовал всех своих по людям, а сам с женой живет у тестя.
— Я, Дашка, пойду к Никите, а ты пока посиди здесь. Я скоро приду!
— А я тогда схожу к Парашке!
— Вы пообедать не хотите?
— Мы поели у Семёна!
На улицу они вышли вместе. Дарья поспешила к золовке, Сергей же повернул направо и пошел по Ломам к дому Митрона, где приютился Никита и братья Рыбины с семьями. Он попал к обеду. За большим струганным столом сидели хозяева, Никита с женой и целая орава ребятишек. Все они хлебали деревянными ложками щи из большой глиняной миски, стоящей в центре стола. Хозяева встали и поспешили навстречу Сергею. Обнялись, поздоровались. Он не стал отказываться обеда и, поздоровавшись с мужиками и бабами, присел к столу. Хозяйка вытерла передником ложку и подала Сергею. После обеда женщины убрали со стола, детишки убежали на улицу, а мужики расселись по лавкам и закурили.
— Послушай, Сергей! — Нарушил молчание Никита. — Вон Егор в город подался. Может быть, и нам пора сматываться?
— А кто тебя там ждет? Там и без тебя тысячи безработных, а у нас на руках семьи. Кто тебя пустит на квартиру? Вот у меня есть газета со статьей Сталина «Головокружение от успехов», в которой он ругает местную власть за перегибы. Указывает, что на местах, в погоне за сплошной коллективизацией, сократили ее сроки, прижимают середняка, загоняют в колхоз под угрозой лишения избирательных прав и раскулачивания. Словом, Сталин пишет о том, что твориться в нашем селе. Может быть, нам попытаться добиться восстановления прав?
Сергей достал из кармана пиджака свернутую газету и расстелил ее на столе.
Никита с Рыбиными наклонились над газетой и углубились в чтение.
— Знаешь, Серега! Что, если поехать в Москву, добиться приема у Сталина и рассказать ему о наших бедах?
— Я, Никита, не верю этому негодяю. Ведь это он отдал всю власть местной голытьбе, а теперь все свои просчеты на них и сваливает.
— И все же я поеду и постараюсь узнать, что делать?
— Как хочешь, но я начну с местной власти. Дойду до райкома и обкома. Узнаю, чем дышит местное начальство и что от них можно ждать!
— А вон и местная власть покатила в сельсовет, — тихо проговорил Иван Рыбин, глядя в окно.
Мужики прильнули к окну, провожая глазами Митьку Жука и Гришку Казака, сидящих рядом в санях.
— Это они догоняли Бендерешу, а едут с пустыми руками, — проговорил Сергей, отходя от окна. — Кстати пойду — ка я к ним и поговорю о статье Сталина!
Когда Сергей вошел в сельсовет, то застал там председателя сельсовета и секретаря парторганизации. Его появление повергло присутствующих в шок, словно перед ними появилось привидение.
— Можно, мужики, к вам? — спросил Сергей.
— Коли зашел, то заходи, — после небольшого замешательства промолвил Митька Жук и указал рукой на скамейку. И после этого спросил:
— C чем пришел?
— Да вот принес вам статью почитать, — безразличным голосом ответил Сергей и выложил перед ними газету.
— Ну и что же тут такого написано? — заметно обозлился Жук, не скрывая своей неприязни к посетителю.
— Я вижу, что вы не знакомы со статьей Сталина, а ведь в ней написано про вас и, наверное, будет не безынтересно знать, что он о вас пишет.
Имя Сталина произвело надлежащее впечатление и они, пододвинув к себе газету, углубились в чтение. Чтение длилось долго и нудно. Наконец, намучавшись над текстом, они уставились на Сергея, словно ожидая от него каких-то разъяснений.
— Где же ты вычитал про нас с Дмитрием Степановичем? Мы что-то не заметили? — усмехнувшись, спросил Сергея Гришка Казак.
— Много я видел тупых людей, но таких баранов, как ты, вижу впервые. Да вся статья от первого до последнего слова посвящается вам. Вот в ней говориться, что для коллективизации срок отпущен в два года, а местная власть в погоне за процентами решила провести сплошную коллективизацию в одночасье, тем самым, нарушая указания ЦК. Это была очень большая ошибка и вам ее не простят. Дальше говориться, чтобы загнать крестьян в колхозы, местная власть прибегла не к разъяснению политики партии, а к запугиванию людей путем лишения избирательных прав и угрозой раскулачивания, нарушая принцип добровольности вступления в колхозы. Это вторая ваша грубейшая ошибка, а Центральный Комитет не прощает ошибок членам партии при исполнении его постановлений. Третья ваша ошибка состоит в том, что вы многих середняков тоже записали в кулаки. Достаточно и этих ошибок, чтобы лишиться партбилета, а в худшем случае попасть в тюрьму.
— Но ведь, Сергей Егорович, всё, что произошло, не наша выдумка. Нам приказывали, — с какими-то нотками заикания проговорил Митька Жук.
— А у вас были на плечах головы или они пустые? Вам не пришло в голову, что вам не разрешали менять уклад жизни крестьян и распоряжаться судьбами людей? Конечно, для вас было лестно получить большую власть над односельчанами, но вы не думали, что за все неудачи в сельском хозяйстве именно вам теперь и придется отвечать. Вам никогда не приходила в голову мысль, для чего Сталину так срочно понадобилась коллективизация?
— Всем известно, чтобы людям жилось лучше, чтобы освободить крестьян от непосильного труда, накормить людей досыта, — сел на своего конька Митька, словно перед ним сидел не Сергей Пономарёв, а жители села на собрании.
— Тогда объясни мне, как увязать вашу программу «чтобы людям жилось лучше и накормить людей досыта», с тем, что вы, как собак, выгнали людей из домов и отобрали у них последний кусок хлеба. А у них малые детишки, старики, больные и немощные?
— Так они же кулаки! — вспыхнул Гришка.
— А кто вам дал право определять кто бедняк, а кто кулак? Даже если это так, то почему вы обрекли людей на голодную смерть? Вы так ничему и не научились. В школе вы просидели по одному году, Ленина и Сталина вы не читали и даже не знакомы с постановлениями партии и правительства. И откуда вы взяли, что если крестьянин имеет две коровы и две лошади, то он кулак, если мужик имеет одну лошадь и одну корову, то он середняк, а если у него нет ни лошади, ни коровы, то он бедняк. Тогда объясните мне, почему раскулачили Никифора Попова, если у него только одна лошадь и нет коровы, почему раскулачили Егора Попова, брата Никифора, если у него корова и лошадь на два двора с отцом? Да потому, что они приютили несчастных, которых вы лишили крова и куска хлеба, подкармливали их, хотя сами ели только картошку с огурцами. Вы не только раскулачили Поповых, но вы не поставили в известность об этом вышестоящие организации. Поэтому я написал заявление в Обком партии от имени крестьян нашего села на перегибы с вашей стороны и сейчас мой брат собирает подписи жителей села под этим заявлением. И если вы не вернете сегодня же дом Никифору, то завтра это заявление ляжет на стол Варейкису. Надеюсь, что на это у вас хватит ума. Подумайте о последствиях. И последнее, о чем я хотел вам рассказать. Скоро начнется посевная, и за урожай будут нести ответственность не колхозники, а вы лично, как местная власть. Я вам уже задавал вопрос, для чего проводиться коллективизация, и вы несли ахинею о свободе и зажиточной жизни. Так это чушь! Сталину нужен не сытый колхозник, а хлеб. Вы слышали, что в стране проводиться не только коллективизация, но и индустриализация. Но у нас в стране ничего нет. Заводы стоят, железные дороги и шахты развалились, а для того чтобы это все заработало — нужны машины, а чтобы строить машины, нужны станки, а у нас нет ни того, ни другого. Они, конечно, есть за границей, но нам никто не даст бесплатно, нужна валюта. А где ее возьмешь, если наша промышленность разорена, и продать нам за границу нечего, кроме хлеба. Сталин ждет от колхозов большого урожая, но откуда ему взяться, если на селе такие идиоты, как вы, ухитрились раскулачить самых трудолюбивых крестьян. Лично наша семья в зиму кормила несколько десятков бедняков, а мой кооператив продавал государству столько же хлеба, сколько все остальное село. А теперь вы с кем остались? С Петькой Лободой, Жоговым, Варькой Култышкиной? А ведь с вас будут спрашивать об урожае.
— Кроме Петьки в селе осталось немало хороших работников и честных людей.
— Ты Митька прав, но после сталинской статьи эти честные люди побегут из колхоза, заберут лошадей и коров. И на чем вы будете пахать?
— А кто им разрешит?
— Разрешил сам Сталин в своей статье. Но это еще не беда, а беда в том, что вам не только не на чем будет сеять, а нечем будет сеять. Ведь весь семенной фонд лежит у меня в амбаре и его хватит, самое большое, на треть всей пахотной земли, а с вас спросят урожай со всего посевного клина. Город вам зерна не даст, ибо он и сам сидит без хлеба, а деньги, которые вам выделили на укрепление колхоза, вы пропили и за них вас тоже попросят отчитаться.
— Сергей Егорович! Со всем, что ты нам рассказал, мы во многом согласны, но скажи, а что бы ты сделал на нашем месте?
— Не препятствуйте мужикам уходить из колхоза. Есть, Митька, как ты сказал, работники честные, хорошие и я уверен, что у них на всякий случай припрятано зерно. Вот за них и держись, дай им отсеяться и тем самым выполни план хлебопоставок. Об этом не распространяйся, числи их колхозниками, а через год они вновь окажутся в колхозе, ибо у государства есть много способов заставить сделать это. Кроме того, вам еще благодарны будут, так как появится возможность запастись на зиму хлебом, которого могло не быть. А теперь мне пора заканчивать. В селе говорят, что на Пономарёвых ты, Митька, обозлился из-за неудавшегося сватовства, но это ерунда. Все дело в том, что мой кооператив был бельмом у тебя на глазу, он мешал созданию колхоза, мешал стать тебе начальником, и ты его решил придушить. А теперь прощайте, и не поминайте лихом, да не забудьте отдать дом Никифору Попову и заодно снимите звание кулака с его брата Егора.
— А что мы можем сделать для тебя?
— Лучше было бы, если бы вы ничего не делали. А теперь вы бессильны, так как я уже утвержден в роли кулака, с вашей подачи, на более высоком уровне. Поэтому свой вопрос я буду решать в городе и не пропаду, человек я грамотный.
Сергей встал, повернулся к ним спиной и вышел на улицу. Когда закрылась дверь, Митька хлопнул ладонью по столу и сказал:
— Ну и умён, сволота!
Весна в этом году пришла рано. Солнце стояло высоко и сильно прогревало. Поля обнажились, и только кое-где в лесных чашах лежал желтый осевший снег. По лощинам сочились говорливые ручейки. Дали расширились, засинели. Все обновлялось, все тянулось к жизни. По дворам курился навоз, распространяя вокруг себя крепкий и пряный запах. Сергей, лежа в запечье, вдыхал этот знакомый с детства запах и какая-то нестерпимая печаль точила его грудь. Он изнывал от скуки, его тянуло в поле, лицом к лицу с воскресающей природой и тихая печаль томительно преследовала его. Его с женой и мальчиком приютила чета Володякиных. Бабушка Варя и дедушка Митрофан были людьми набожными. Они не только предоставили Сергею кров, но и кормили в силу своих возможностей. И теперь, лежа в чужой избе, он изнывал от безделья и бессилия, слушая хлопотливое кудахтанье кур и, звонко оглашавшего двор своим пением, петуха. Ему хотелось дела, суеты, шума и движения. А в это время в селе накалялись, кипели страсти, и никому не было никакого дела до Сергея Пономарева с его переживаниями и волнениями. Село бурлило, грозя перейти в бунт. Необходимо было срочно принять какие-то меры, чтобы утихомирить мужиков. Для выработки этих мер с утра в сельсовете собралось все сельское начальство. Здесь был Козырев, Гандобин, Митька Жук, Гришка Казак и Попов. Слово дали Гришке, председателю сельсовета.
— А что тут говорить? Мужики требуют вернуть им лошадей, коров и инвентарь, ссылаясь на Сталина, на его статью. Говорят, что их насильно загнали в колхоз, — угрюмо буркнул председатель.
— Ишь, чего захотели, — возмутился Гандобин. — Вызвать милицию, кое-кого арестовать, остальные остынут.
— Не горячитесь, Василий Ефимович! — осадил его Козырев. — Эти мужики бедняки и середняки и с ними нам нужно ладить, а не милицией пугать.
— Я полностью согласен с Иваном Ивановичем, — встал из-за стола Митька Жук, давая понять, что он приготовился говорить серьезно и долго, — нам нужно не пугать людей, а поладить с ними по-хорошему. Они требуют отдать им скотину и инвентарь, так давайте отдадим.
Все присутствующие подняли глаза на Митьку, и казалось, что они затаили дыхание. Даже Козырев долго смотрел на него и спросил его:
— Хорошо отдадим, а на чем мы будем сеять?
— Допустим, что мы не отдали, но чем мы будем сеять? Зерна, которое лежит в амбаре у Сергея Пономарева, хватит самое большое на треть посевных площадей, а ведь с нас потребуют хлеба со всей площади. Город нам не даст ни фунта зерна, ибо у него его нет. Купить нам не на что, так как деньги, которые нам выделили, мы просрали.
— Значит, ты предлагаешь распустить колхоз и доложить, что наш колхоз филькина грамота, — спросил Гандобин.
— Нет, Василий Ефимович, докладывать не нужно. И распускать колхоз мы не будем. Мужик наш упрямый, несговорчивый, но в душе он дитя, верит начальству, а поэтому мы будем диктовать свои условия. Отдадим им скотину, инвентарь и отдадим им землю, но ни фунта зерна. Я уверен, что у мужиков есть припрятанный хлеб, вот и пусть сеют своим.
Гришка Казак слушал выступление своего дружка, и злоба душила его. Видя, как все внимательно слушали необычное выступление Митьки, Гришке хотелось встать и крикнуть, чтобы его не слушали, так как это слова не его, а Сергея Пономарёва, который учил, как им поступить в этой ситуации. Но кто ему поверит, что Митька говорил со слов кулака. Его удерживало только то, что он боялся Митьки, боялся лишиться своего поста и тем самым испортить всю свою жизнь.
— А что, Дмитрий Степанович, всё это нам даст? — спросил Попов, который все это время молча сидел в уголке.
— А даст нам, Александр Иванович, хлеб, который с нас потребуют в счет хлебопоставок. Пусть мужики сеют, убирают, но они обязаны и платить налоги. Из колхоза выйдут работящие люди, поверив, что в колхоз больше не пойдут, а поэтому постараются, как можно больше посеять зерновых, что только нам и на руку. В колхозе останутся безлошадные, да и работники их них, как из меня врач. Но они будут числиться колхозниками. У меня пока все и, если у кого есть вопросы, прошу задавать. Он сел.
— Считаю, что предложение Дмитрия Степановича правильное и нужно его поддержать, — высказался Попов.
— У меня есть некоторые дополнения, — ровным голосом начал Козырев. — Вот Дмитрий Степанович говорит, что в колхозе останутся одни безлошадные, да и работники из них не аховские. Но они нам нужны, чтобы сохранить колхоз. Объясняю, когда осенью, вышедшие из колхоза мужики соберут урожай, мы наложим на них такой налог, что у них зерна останется только на еду, а с колхозников мы не только не возьмем ни грамма хлеба, но и, наоборот, наделим зерном из будущего урожая. Кроме того, мы начнем пахать не на лошадях, а на тракторах, чтобы убедить на деле мужиков в преимуществе машин перед лошадьми. Зерна для посева нам хватит с избытком. В наших руках будет весь сельскохозяйственный инвентарь, сеялки, веялки и молотилки, оставшиеся от кулаков. Одним словом, мужики должны на практике убедиться в силе колхозного строя, в силе коллективного труда. Здесь большую роль должны сыграть все сидящие здесь и особенно Василий Ефимович и я, как ответственный за технику. И нужно завтра же быть готовыми к посеву. А сейчас пойдем на улицу и объясним людям, что мы не против их требований и разрешаем им разобрать им своих лошадей, коров и свой инвентарь. А вам Дмитрий Степанович и Александр Иванович, проследить, чтобы мужики не умыкнули инвентарь бывших кулаков.
Тем временем, пока сельское начальство вырабатывало тактику борьбы с бунтующими мужиками, из Москвы вернулся Никита Пономарёв. Он тут же пошел к брату, жившему у Володякиных. В доме, кроме Сергея, никого не было. Никита поздоровался с братом, тяжело опустился на скамейку и горько вздохнул. Сергей встал с лежанки, сел рядом с братом и закурил. Никита тоже попросил закурить.
— Рассказывай! — обратился Сергей, когда увидел, что брат успокоился.
— А чего рассказывать, если рассказывать нечего, все пустое. Пошел в Кремль и попросил охранника пропустить к Сталину. Он посмотрел на меня, как на психа, и сказал, что здесь Сталина нет, и не бывает. Я не поверил и до самого вечера околачивался на Красной площади, ждал, что Сталин пройдет или проедет, но все напрасно. Переночевал на вокзале и наутро решил добиться приёма у Молотова или Кагановича. А где их искать, понятия не имею. Потом увидел большое здание, у которого поверху было написано крупными буквами — «Известия». Я остановил одну дамочку и спросил, что в этом доме находится. Она сказала, что это редакция газеты. Про себя думаю, раз это газета, то им все известно и решил туда зайти и узнать адреса членов ЦК. Когда подошел к выходу, двери распахнулись и мне навстречу вышли два человека. Я попросил выслушать меня и говорю, что приехал из деревни и хочу встретиться с кем-нибудь из членов ЦК, да вот как найти не знаю, и не подскажут ли они, где их искать? Мужчины переглянулись друг с другом, усмехнулись, а потом ответили, что я приехал не вовремя, так как большинство членов ЦК разъехались по стране, но всё же спросили, а кто мне лично нужен? Я сказал, что мне хотелось бы поговорить со Сталиным, а если не удастся, то с Молотовым или с Кагановичем. Они ответили, что к Сталину едва ли пустят, а Молотова и Кагановича в Москве нет, но если кто-нибудь из них приехал, то попытай своего счастья. Один из них достал блокнот, чиркнул что-то в него, вырвал листок и подал его мне, сказав, что написал адреса приемных и пожелал удачи. В приемной Кагановича меня встретил неопрятный, молодой человек. В мятой одежде, с кудрявыми, нечесаными волосами на голове. Я принял бы его за посетителя, но он был в приемной один и сидел за столом, окруженный телефонами. На просьбу пропустить меня к Кагановичу, ответил, что Лазарь Моисеевич в Москве отсутствует и когда будет, не имеет понятия. На этом со мной и простился. Пошел к Молотову. Встретил человек в военной форме. Встал, пожал мне руку, пригласил к столу, сел и сам. Когда я изложил ему свою просьбу, ответил, что ничем помочь мне не может, так как Вячеслав Михайлович в отъезде и когда будет в Москве, он не знает. Потом немного подумал и сказал, что сейчас в Москве находиться Маленков и можно будет отправиться к нему.
— А этот откуда взялся? — спросил Сергей.
— А черт его знает! Поэтому я спросил его, не лучше ли обратиться к Бухарину. Он сказал, что не советует, так как Бухарин сейчас не имеет власти и мне не поможет. Маленков же, говорит, возглавляет сектор ЦК и имеет большую силу. Написал мне на бумаге адрес приемной Маленкова и проводил до двери. Что делать, пошел к этому самому Маленкову. В приемной тесно, все стены заставлены шкафами. За столом сидит какой-то человек и читает в бумажке. Когда я вошел, он отложил бумаги, оглядел меня и тихо так сказал:
— Садитесь, товарищ, слушаю вас!
Я поведал ему о своих невзгодах и сказал, что мне бы хотелось поговорить об этом с товарищем Маленковым. После этого его добродушие сразу пропало. Тогда я расстегнул полушубок, сославшись на духоту и, когда этот плюсовый шнырь увидел мой орден, то тут же вскочил на ноги и скрылся за дверью. Через некоторое время возвратился и сказал, что товарищ Маленков примет меня завтра. На другой день меня пропустили в кабинет Маленкова. Комната небольшая, уютная, с большим ковром на полу. Возле стола стоит плотный, я бы сказал даже жирный мужчина, невысокого роста, в кителе защитного цвета. Пуговицы все застегнуты до самого горла. Волосы черные, лицо широкое, плоское, какое — то бабье. Щеки отвисли, шеи почти нет. Пригласил меня присесть, сам сел на стул и говорит:
— Мой помощник рассказал о вчерашней с вами беседе и о том, что вас волнует. Так что вы, Никита Егорович, хотите от меня?
А я и отвечаю:
— Я хочу, чтобы местная власть, не вмешивалась в наши дела, чтобы нас восстановили в правах, вернули нам наше имущество!
— А на основании чего я должен этим заниматься?
— Хотя бы на основании статьи товарища Сталина!
Достаю из кармана газету со статьей товарища Сталина и разворачиваю ее на столе. Тогда он мне говорит:
— Вы не утруждайте себя, ибо статью я хорошо изучил, а вот вы ее плохо читали. Да, товарищ Сталин критиковал местную власть за перегибы в коллективизации, за ущемление бедняка и середняка, но он ничего не сказал в статье о кулаках и о том, что отдавать ли им имущество и восстанавливать ли их в правах? Это дело ЦК ВКП (б). Конечно, ваше дело исключительное, вы орденоносец и все, что будет от меня зависеть, я постараюсь решить!
Ушел я от него без всякой надежды. Да, что он может сделать, если сам Калинин не смог нам помочь?
Братья опять закурили, помолчали.
— А у тебя, какие дела? — прервал молчание Никита.
— Те же самые, что и у тебя. В райкоме мне сказали, что у них нет никаких указаний насчет раскулаченных. В Обкоме сказали то же самое, что тебе сказал Маленков. Хотел пристроиться в городе на работу, но там своих безработных некуда девать. Был на шамотном заводе в Семилуках, но там мне начальник кадров прямо сказал, что им раскулаченных запретили брать на работу!
— И что же дальше?
— Ничего, еще немного подождем, может быть что-нибудь да проясниться, а нет, тогда и придумаем!
Село праздновало пасху. Люди отмечали Христово воскресение и одновременно радовались тому, что, наконец, покончили с колхозом. Церковь была разгромлена, а поэтому праздновали под открытым небом. День выдался теплым и солнечным, улицы с самого утра были полны народу. Молодежь затевала игры, женатые ходили в гости, отовсюду разносился смех, раздавались переборы гармошек, песни. Отметить пасху решил и Козырев. Он собрал сельское начальство, активистов и предложил в этот день начать пахоту.
— Во-первых, — утверждал он, — нужно показать людям, что никакие праздники, тем более религиозные, не должны мешать главному празднику на селе — севу. Во-вторых, мы должны показать людям мощь машин и торжество коллективного труда.
В самый разгар народных гуляний послышался грохот и из-за церкви, по Большаку, дымя высокой трубой, покатил трактор, следом второй. За ними тянулись на прицепах две подводы, груженные плугами и боронами. На первом тракторе развивался красный флаг, а за рулем, сидя на железном сидении, восседала Варька Култышкина. На втором сидел Мишка Рыбин. За ними гуськом тянулись активисты во главе с местной властью. Люди, оглушенные грохотом, притихли и с удивлением рассматривали железные чудовища. Ребятишки гурьбой бежали рядом с трактором, оглашая окрестность криком и гоготом, и с восхищением смотрели, как огромные колеса своими треугольными шипами безжалостно коверкают накатанную дорогу. Когда мотор начинал чихать и фыркать, ребятишки в страхе разбегались по сторонам, боясь, как бы трактор, словно бодливая корова, вдруг не набросился на них. Некоторые женщины крестились, поминая недобрым словом Козырева, другие же хватали за руки своих чад и тащили по домам. И только возмутитель спокойствия и праздничного настроения людей, стоя на ступеньке трактора рядом с Варькой, боковым взглядом отмечал, какое неизгладимое впечатление произвело появление тракторов.
Тракторная колонна по Большаку спустилась вниз к реке, пересекла мост и остановилась на краю отдохнувшего за зиму поля. По распоряжению Козырева тракторная бригада прицепила к тракторам по два немецких плуга и две бороны. На первый трактор сел сам Козырев и проложил первую борозду. Потом он остановил трактор, немного углубил лемеха и вновь тронулся с места. Трактор натужно взвыл, но пошел по полю, оставляя за собой ровную полосу вспаханной земли.
Каждый крестьянин всегда был неравнодушен к севу, к земле, а тут вдруг появилось что-то новое, непривычное и каждому хотелось своими глазами увидеть, что же это такое. Однако чувство настороженности сдерживало мужиков и они, наверняка, проигнорировали бы посевную колхозников, но вмешался случай. По селу молнией разлетелся слух, что колхозники начали пахать землю, которая давно была закреплена за крестьянами. С этим нельзя было мириться, и к полю потянулся народ. Было решено, если нужно, силой вернуть свои наделы.
Козырев, увидав переходивших мост мужиков, со смехом обратился к Гандобину:
— Василий Ефимович, гляди! Жлобье жалует по твою душу. Держись председатель! Будет тебе некогда!
Василий Ефимович оглянулся, на минуту задумался и быстро пошел по полю навстречу мужикам. Он поздоровался с ними и спросил:
— Ну, что, товарищи крестьяне, пришли посмотреть на нашу работу? Добро пожаловать, смотрите!
— Ты нам зубы не заговаривай, а лучше разъясни, на каком основании ты пашешь наши наделы? — выступил вперед Семён Гусев.
— А скажи, Семён, на твоем наделе самая лучшая почва? Лучшая земля? — спросил Гандобин.
— Нет не лучшая, но она моя, а теперь ты ее занял.
— Да, мы заняли этот клин, на котором расположено несколько наделов. Но вы не хуже, а лучше меня знаете, что земля здесь истощена и дает низкие урожаи. Вот мы и решили забрать у вас эту землю, а вместо нее отдать вам землю кооператоров Сергея Пономарева. Думаю, что вы не будете против такого обмена. Вы прекрасно знаете, что там земля прекрасно обработана, хорошо удобрена и дает хорошие урожаи.
— А если раскулаченные вернуться, как нам тогда быть?
— Нет, Семён, они больше не вернуться! Так что размежуйте ее между теми, чью землю мы заняли и, как говориться, Бог вам в помощь!
Выслушав председателя колхоза, мужики недоуменно переглянулись. Если бы они не считали его умным и расчетливым человеком, то сочли бы полным идиотом. Убедившись, что колхозники не собираются пахать всю крестьянскую землю, мужики потянулись гурьбой на поле смотреть на невиданную ранее технику и ее работу. Трактора натужно ныли, оставляя за собой довольно широкую полосу вспаханной земли. Мужики отметили, что даже самая сильная лошадь не потянет два плуга и две бороны, а эти железные чудовища бодро бегут по полю, оставляя за собой ровные борозды. А уж глубину пахоты, нельзя сравнить ни с какими мерками обычной пахоты крестьян. На первом тракторе сидел Мишка Рыбин, а за ним тянулся трактор Варьки Култышкиной, сидевшей на железном стуле, выставив далеко свой толстый зад.
— А что, Семён, землю ты получил хорошую, остается тебе только трактор купить. Твоя бы Марья пахала, а ты бы пузо грел на солнышке, — съязвил Аким Демидов.
— Я бы купил, да купило притупило!
А между тем трактористы, гордые своим величием, продолжали работу, не обращая внимания на мужиков. Особенно гордилась Варька и была на седьмом небе.
Култышкины были потомственными пастухами. И прадед, и дед, и родители Варькины пасли крестьянских буренок. Детей у Култышкиных рождалось много, но почему-то выжил только один ребенок. На селе поговаривали, что остальных они душили, как котят. Если это было так, то почему тогда Ефим со своей Феклой оставили в живых не мальчика, а девку, которую нарекли Варькой в честь бабки? А может быть, у них рождались только девки? Темное дело. Скорее всего, так получалось потому, что ни у отца, ни у матери, просто не было ни сил, ни времени на уход за ребенком. Обычно Фекла рожала на пастбище, а если это случалось дома, то уже на второй день, завернутый в тряпье, ребенок оказывался в обществе коров. И с этого времени ему была определена судьба пастуха. И в дождь и в жару, он вместе с родителями неотступно следовал за буренками, сначала на руках матери, потом на четвереньках, пока не умирал.
Култышкины никогда не учились в школе, они не умели ни читать, ни писать, жили своим замкнутым мирком, далеким от мирских забот и тревог. В мире, бушующем страстями, гремели войны, совершались революции, люди уходили на фронт, возвращались, а для Култышкиных вся вселенная умещалась в границах пастбища. В своей жилой развалюхе, из белого природного камня, они казались временными жильцами, людьми, зашедшими на огонек и оставшимися переночевать. Кроме русской печки в избе, у грязного подслеповатого оконца стояли колченогий стол и одна скамья, которые не мылись со дня их изготовления. На дворе не было ни сарая, ни телеги, ни саней, не было ни скотины, ни птицы. Из всего живого был у них старый — престарый кобель, по кличке Барин, вся шкура которого состояла из репьев и плешин. Он скорее был членом семьи, чем безгласной тварью, ибо он не только пас коров, но и спал вместе со своими хозяевами и ел с ними вместе из одной миски.
При всей своей тупости Култышкины свою работу выполняли исправно. Не было ни одного случая, чтобы коровы вернулись домой голодными или не напоенными. Если та или иная корова обгулялась, Ефим непременно сообщал об этом хозяевам, за что всегда получал бутылку водки, которую он нес домой, где и распивал с Феклой. Пьяными их никто и никогда не видел, за что ценились бабами. Зная их честность, люди не желали других пастухов и с охотой доверяли им своих коров, щедро оплачивая их службу. Поочередно каждый хозяин должен был утром, при выгоне стада, снабдить пастухов на целый день продуктами питания, а вечером накормить их горячей пищей. А так как в глазах людей никому не хотелось прослыть жадным и бессовестным, да еще заботясь о целостности своей буренки, то каждый хозяин старался угодить пастухам. После окончания сезона, когда коров ставили у стойла, каждый двор был обязан расплатиться за работу с пастухом продуктами или деньгами. Култышкины, ввиду своей безграмотности, никаких записей не вели и не всегда помнили, кто им заплатил, а кто зажилил. Поэтому некоторые бессовестные мужики не расплачивались. И все же они питались лучше, чем многие из односельчан. Денег считать они не умели и отдавали их соседям, с просьбой купить одежду. Проведя всю сознательную жизнь среди скотины, оторванные от людей и общества, Култышкины по уровню своего развития, по уму, недалеко ушли от своих подопечных. Они никогда не мылись в бане. Умывались разве только тогда, когда их мочил дождь. Хотя пастбище было на берегу реки, они не догадывались, что в ней можно искупаться. Дома никогда не мыли посуду, не скребли и не мыли стол. Похлебав щей из миски, они наливали в нее и для собаки, которая, поев, вылизывала ее начисто языком. Малую нужду они справляли прямо в избе, на земляной пол. Казалось, что они в своем развитии остановились на уровне младенцев. Словарный запас был настолько беден, что общаясь между собой, больше мычали, подражая коровам, а не говорили на людском языке. Ввиду отсутствия в избе обычных лавок, не говоря уж о кровати, они всей семьей спали на печке, куда затаскивали и своего Барина. Но если бы у них была кровать и лавки, то на них все равно было бы опасно спать из-за боязни замерзнуть в зимнюю ночь. В избе при морозах стояла такая стужа, что в щербатом чугунке вода замерзала до дна, а на окнах и по углам снег намерзал толщиной в ладонь. Из-за отсутствия лошади им ежедневно приходилось совершать поход в лес за хворостом. В свое время у них была семилинейная лампа, но Барин, запрыгнув на стол для подбора хлебных крошек, столкнул лампу на пол и разбил ее. Купить свечей они так и не догадались. Поэтому спать ложились с наступлением сумерек и вставали с рассветом.
Истопив печку, приготовив еду и откушав, лезли на печку, где Ефим, разомлев от пищи и тепла, тут же забирался на свою Феклу, которая, в свою очередь, была не прочь побаловаться с мужем. Это вошло в привычку, стало ритуалом в жизни. Пока Варька была маленькой и несмышленой, они не стеснялись ее присутствия и свободно занимались любовью. Продолжали заниматься этим делом и тогда, когда Варька уже подросла и с любопытством смотрела на забавы своих родителей. Однажды, глядя на любовные утехи родителей, Варька спросила:
— Папаня, вы чего с мамой делаете?
— А мы играем, дочка, — невозмутимо ответил Ефим.
— Я тоже хочу поиграть!
— Ты еще маленькая, тебе рано.
— Нет, я уже большая, больше мамани выросла.
Нужно сказать, что к двенадцати годам Варька действительно вытянулась, и рядом с низкорослой и тщедушной Феклой выглядела предпочтительнее и привлекательнее. И все же Ефим стал ее урезонивать, говоря, что такая игра не для маленьких. Варька захныкала и стала требовать, чтобы отец поиграл с ней, а сама, задрав до подбородка юбку, стала усердно хлопать ладонью между ног. То ли Фекле надоело слушать хныканье дочери, то ли ей самой надоел Ефим со своими ласками, но она сжалилась над Варькой и, толкнув мужа, приказала, чтобы он поиграл с дочкой, если той так приспичило. Ефим, недолго думая, забрался на дочку и с удовольствием выполнил ее просьбу. С этого вечера и повелось у них к всеобщему удовольствию заниматься семейной любовью.
Такие забавы не только понравились Варьке, но и пошли на пользу. Она раздобрела, рано оформилась во взрослую девушку с присущими им формами телосложения. Для Ефима же наступили черные дни. На двух женщин у него не хватало ни запала, ни пороху, а те своими ненасытными утробами требовали своего. Начались ссоры между женщинами, доходившие до драки, частенько от них доставалось и Ефиму. Варька, войдя во вкус, вскоре догадалась, что на селе, кроме отца, есть и другие мужики, которые не прочь были позабавиться. Ее натура требовала свежих и молодых сил, а поэтому, плюнув на отца, стала искать успехов на стороне. Вскоре парни и мужики узнали о доступности Варьки и не упускали случая ей попользоваться. Трудно сказать скольких парней она обучила мужскому делу, чтобы, женившись, они не оказались простаками в таком деликатном вопросе.
Ефим и Фекла умерли в одну ночь, угорев на печке. Варька осталась в живых лишь потому, что в это время забавлялась в чьей-то риге с очередным желающим. Люди искренне жалели об этой паре, но, похоронив их по-христиански, наняли новых пастухов, ибо Варька категорически отказалась пасти коров. К этому времени она вкусила сладость распутной жизни, набралась опыта и стала принимать мужиков уже не бескорыстно. Они теперь несли в ее убогое жилище все, что могли тайком припрятать от жен и родителей, начиная от хлеба и кончая одеждой. Каждый, приходя к ней, старался прихватить с собой еще и бутылку самогона, ибо Варька его не гнала. Так, наверное, и жила бы Варька до самой старости, если бы не коллективизация. Бабы и девки откровенно презирали ее и близко к себе не подпускали, а поэтому она невольно тянулась к мужикам, тем более, что опыта ей в этом было не занимать. Отпечаток постоянного общения с мужчинами стал откладываться на ее характере и поведении. Она стала грубой, начала курить, выпивать и держала себя вызывающе. Желая быть заметнее других женщин, Варька, одной из первых, записалась в группу бедняков и была беспрекословной исполнительницей всех указаний Митьки Жука. Чтобы еще больше насолить бабам, она добилась приема на курсы трактористов. Члены парторганизации, было, воспротивились этому, ссылаясь на ее безграмотность и худую славу, но Козырев объяснил им, что ее шаг является, первую очередь, политическим актом, который положит начало освобождению женщин от гнета и привлечет на сторону организаторов колхоза других девушек. С этими доводами было трудно, не согласится, и судьба Варьки была решена. К тому же Козырев сказал, что ей не обязательно знать устройство трактора, лишь бы умела держать руль и борозду, а готовить трактор к работе будет он сам. С этого дня Варька переселилась жить в МТС, избавившись от косых взглядов и проклятий женщин в свой адрес. На занятиях она лупила глазами на Козырева и внимательно слушала, совершенно ничего не понимая из его объяснений. Но к своему трактору прикипела душой и телом. Она не только чистила, холила, и лелеяла его, но спала рядом с ним, словно сторожевая собака. А когда в этот пасхальный день, в сумерках, перестали пахать, и встал вопрос, кому оставаться в поле возле тракторов сторожить их, Варька с радостью предложила свою кандидатуру.
В Черноземье было заведено по праздникам, особенно престольным, молодым ребятам ходить в соседние села присматривать невест и показывать свою удаль. Как говориться — людей посмотреть, да себя показать. Зачастую эти походы заканчивались дракой, но родители не только не запрещали, но даже приветствовали такую практику. Все объяснялось тем, что в каждом селе половина жителей обычно была связана родственными связями и чтобы обновить, влить свежую кровь в молодую поросль, мудрые старики завели традицию встречных визитов молодежи друг к другу, тем более, что к соседям можно было сходить довольно легко. Область была самой густонаселенной в стране и села располагались практически рядом друг с другом.
На эту пасху ребята навещали Богоявленку. Возвращались они домой на рассвете с хорошим настроением. Кровь, после очередной стычки, еще играла в жилах и они не знали, кому еще показать свою удаль. А тут, спустившись с Пристинка, увидели два трактора, стоявших на краю пашни. Кто-то подал идею покататься, не подумав, что никто из них и понятия не имеет, как это делать. Подойдя к тракторам, они вдруг с удивлением увидели, что возле одного из них на пиджаке спала Варька. Ребята притихли и стали шептаться, боясь разбудить сторожиху. Но ее за день так растрясло, что если бы ребята смогли завести сразу два трактора, то она и ухом не повела. Да и девичий сон на заре так крепок, что даже в самых благополучных условиях разбудить Варьку было не так просто. Пошушукавшись и не придумав ничего более путного, решили ее напугать. Собрав камни, палки и другой подручный материал, принялись кричать и изо всех сил стучать по всему, что гремело. Варька, напуганная грохотом и ничего не понимая спросонья, только вертела головой. Ребята разбежались, а она, немного придя в себя и сообразив, где находиться, так испугалась, что ее стала бить дрожь. Варька тут же вскочила на ноги и бросилась в село. Перебежала мост, проскочила Большак и в мгновение ока очутилась возле дома Митьки Жука. В это время сам хозяин, намаявшись за день пахотой, спал глубоким сном. Но громкий стук в стекло мог разбудить и мертвого. Открыв двери, в свете раннего утра, он увидел Варьку с побелевшим лицом, обезумевшим взглядом глаз и дрожавшую, словно осиновый лист. Она кинулась к нему на грудь и сквозь слезы и рыдания, захлебываясь тараторила:
— Там стреляли, там в меня стреляли, там…
— Как стреляли? Кто стрелял? — встревожено спросил Митька.
— Не знаю, кто стрелял, я их не видела, но стреляли в меня и по тракторам.
— Ты, Варька, перестань реветь, а лучше расскажи, что ты видела? Сколько их? Кто они?
Из бессвязного лепета Варьки Митька Жук понял, что она никого в лицо не видела и ничего не может толком объяснить. Что она, просто, до смерти напугана.
— Ладно, ты перестань реветь, успокойся, заходи в дом и немного поспи, а я разберусь. Всех найдем и накажем.
С восходом солнца Митька отправил Гришку Казака в райком партии с таким письмом:
«Сегодня в ночь кулацкие провокаторы, чтобы сорвать посевную напали на первую в колхозе трактористку, обстреляли ее и трактора, нанесли им вред. Прошу выслать к нам в село милицию с тем, чтобы на месте провести дознание на предмет наказания враждебных элементов».
Секретарь парторганизации Лавлинский.
Секретаря райкома в районе не было, и Гришку принял инструктор, выдвиженец из комсомола. Он много слышал о вылазках кулачества, но чтобы стреляли, такого еще не было. Распутывать серьезное дело сам инструктор побоялся и отправил письмо в Обком партии. Там прочитали его и решили, что это только первая серьезная ласточка в борьбе с кулачеством и отправили с припиской о помощи в Москву. А там уже накопилось масса писем с мест, в которых местные руководители жаловались на бойкот крестьян колхозному строительству, отмечая, что в последнее время начался массовый отход крестьян из колхозов. Политика партии терпела провал, и поэтому было принято окончательное и бесповоротное решение незамедлительно выселить всех раскулаченных куда подальше, чтобы не было проблем.
Варька после той, страшной для нее ночи, больше не садилась на трактор и пряталась взаперти в МТС, боясь за свою жизнь. В село из района приехали три милиционера во главе с прокурором. Они ходили по селу, опрашивали мужиков и ребят, осмотрели трактора, но, не обнаружив следов от дроби и пуль, уехали назад. Вскоре Варька исчезла, не сказав никому даже прощального слова. Шел потом слух, что работала она на шахте в Донбассе, а потом подалась на Днепрогэс.
Только заголосили первые петухи, как в подслеповатое оконце Володякиных тихо постучали. Дед Митроша, беспокойно спавший в последнее время, прислушался и, когда стук повторился, тихо сказал, слегка толкнув в пышный бок своей половины:
— Варя, к нам вроде стучаться!
Бабушка Варя, оторвавшись от глубокого сна, повернулась на другой бок и недовольно пробурчала:
— Чего тебе не спиться?
— Я говорю, что кто-то стучится в окно!
— И кого там нелегкая принесла?
— Варь, встань и посмотри!
— Бабушка неохотно зашевелилась и, кряхтя, слезла с печки. Не зажигая огня, она подошла к уличному окну, склонилась и, приставив ладонь ко лбу, стала вглядываться в зыбкий отблеск нарождавшейся зари. В неясном силуэте за мутным оконцем она признала Мишку Жогова, секретаря сельсовета.
— Кто там? — почему-то тихо спросил дед.
— Да вроде Мишка Жогов, — шепотом ответила бабушка.
— К чему бы это? Пусти!
Загремел засов, тихо скрипнула дверь и в избу, легко ступая по половицам, вошел Мишка.
— Тетя Варя, ты огня не зажигай, я на минутку. Крестный у вас? Буди!
— Да я не сплю. Ты чего? — из запечья вышел Сергей и шагнул навстречу крестнику. Вслед за ним вышла и Дарья.
— Ты вот что, крестный, быстро собирайся и беги. Приехала милиция, и сейчас начнут всех раскулаченных выселять из села. Митька орет, требует твоего ареста, но милиционеры отказываются, говорят, что им такого указания не давали. Боюсь, что Митька сделает это сам. Кто-то донес ему, что ты ночуешь у Володякиных, и поэтому рвется сюда, как помешанный. Так что смотри сам, а я побежал, как бы меня не хватились. Да, еще! Не ходи улицей, лучше гумнами.
Сергей давно готовился к самому плохому, но новость, сообщенная Мишкой, оглушила его словно громом. Ноги сделались ватными, и он невольно опустился на скамейку. Первое, что пришло в голову — это было желание ничего не предпринимать и остаться с семьей, а там пусть будь, что будет. О себе он не думал, его волновала судьба жены с детишками.
— Уходи, Сергей! Спасайся! Если тебя арестуют, то могут и до тюрьмы не довезти, убьют, — прервала его мысли Дарья. — Меня с детьми еще пожалеют, а вот что я без тебя буду делать, даже думать не хочу. Беги!
Бабушка Варя зажгла лампу и, охая, захлопотала возле печки, гремя рогачами. Дед оделся и встал у дверей, чтобы не мешать. Сергей стал торопливо одеваться. Когда он был готов, бабушка Варя предложила ему перекусить, но Сергей отказался, и бабушка Варя сунула ему в руки узелок с харчами, а Дарья отсчитала немного денег. Попрощавшись с женой и хозяевами, Сергей, под причитания и слезы женщин, вышел из дома и сгинул в сумерках.
Спустя короткое время, после ухода Сергея, в дверь избы Володякиных сильно постучали. Очевидно, били ногами. Не успела бабушка Варя крикнуть: — Заходите, открыто! — как тут же в избу влетел Митька Жук, держа в левой руке наган. Пробежав несколько раз по избе, заглянув на печку, в запечье и, остановившись перед бабушкой Варей, заорал, наливаясь кровью:
— Где Пономарёв?
— Ты, Митька, на меня не ори и свой револьвер спрячь, а то вон возьму кочергу и обломаю о твою спину! Как был ты дураком, так им и остался. Додумался, перед бабкой револьвером махать! Нет у нас Сергея и где он — не знаю, а если он тебе нужен, сам ищи!
В это время в избу вошли два милиционера с винтовками в руках, поздоровались, присели на лавку и стали закуривать. Поняв по поведению бабушки, что Сергей успел скрыться и искать его бесполезно, Митька повернулся к милиционерам и уже спокойно сказал одному из них:
— Останься здесь и присмотри за ней, — кивнул он в сторону Дарьи.
— А ты пойдешь со мной за подводой! — обратился он к другому. Тот поднялся и, не проронив ни одного слова, вышел на улицу. Митька направился вслед за ним, но неосторожно ударился головой о притолоку, заматерился и пулей вылетел в сени.
Оставшийся милиционер бросил цигарку на пол, придавил ее сапогом и тихо, словно боясь, что его услышат, обратился к бабушке:
— Ты вот что, хозяйка, если есть такая возможность, то соберите ей на дорогу кое-каких продуктов, а то дорога предстоит долгая и голодная.
— А что, милок, их куда — то повезут? — так же тихо и сковано спросила милиционера бабушка Варя.
— Куда повезут, не знаю, только повезут их поездом и говорят далеко на север!
— Ох, Господи! — простонала бабушка Варя, перекрестилась и захлопотала по избе.
Дедушка Митроша встал с лавки, накинул полушубок и вышел из избы. Милиционер тоже встал, подошел к Дарье, тронул ее за плечо и громко сказал:
— Ты, гражданка, не стой столбом, а поскорее собирайся сама, собери сына, а то скоро подойдет подвода и тебе придется ехать раздетой!
После этих слов Дарья словно очнулась от долгого, тяжелого сна и стала медленно одевать сынишку, который все это время беззвучно стоял, прижимаясь к матери. Потом, с какой-то заторможенностью в движениях, начала собираться сама. Казалось, что она не слышала и не понимала всего происходившего на ее глазах. Все ее движения, упорное молчание и полное безразличие ко всему, явно говорило о том, что она была в шоке.
Бабушка Варя и вернувшийся из погреба дедушка Митроша торопливо укладывали в две корзины какие-то продукты, завязанные в узелки. Уложив все, что приготовили, они предложили перекусить в дорогу, но Дарья на предложение не обратила внимания, зато маленький Ваня с охотой съел большую лепешку и выпил кружку холодного молока. Едва прекратилась суматоха со сборами, как под окном остановилась подвода, и в избу вошел Мишка Жогов в своем неизменном старом треухе, бабьем полушубке и с веревочным кнутом в руке. Обут был он в лапти и онучи, переплетенные крест-накрест веревками. Не успел Мишка поздороваться, как милиционер встал и махнул рукой, указав Дарье выход на улицу. На телеге кучкой уже сидели ее три дочки и испуганно смотрели на мать, которая влезла на телегу, не обратив на них внимания. Почти одновременно к телеге подошла Ганна Лобода и бабушка Варя с дедушкой Митрошей. Первая бросила в телегу под завязку набитый чем-то мешок и сказала:
— Я принесла кое-какое барахлишко, а то мой идиот сказал, что вас повезут на север, а там всегда стоят холода!
Сказала, попрощалась и, не дождавшись ответа, зашагала своим журавлиным шагом вдоль улицы. Дедушка Митроша и бабушка Варя уложили в телегу корзинки с продуктами, перекрестили ссыльных и встали в сторонке. Милиционер с Мишкой сели в передок телеги, лошадь тронулась и потянула повозку вверх по Большаку, к выезду из села. На краю села, возле церкви, уже стояло около десятка подвод с людьми. Повозка остановилась. Милиционер спрыгнул на землю и куда-то ушел. В предутренней тишине ясно слышался скрип колес, фырканье лошадей и приглушенный говор множества людей. Громко орали петухи, иногда раздавался плач ребенка, но нигде, ни в одном окне ближайших домов не было света. Люди в них притаились, выжидая, чем окончится выселение, и благодарили Бога, что не коснулась их эта напасть.
А между тем близился рассвет. На востоке, за церковью разгоралась заря и строгие контуры колокольни без креста все отчетливей проступали в высоте, а внизу копошились люди, в тревоге ожидая своей участи. Когда заскрипели колеса подвод, и они одна за одной, стали покидать село, Дарья, наконец, вышла из шока. Она повернулась лицом к церкви и стала неистово креститься, шепча какие-то молитвы, стала прощаться с родным краем. Краем, где встретила любовь и счастье, где нарожала кучу ребятишек, где приобрела свой дом и где теперь, в одночасье, рухнули все ее мечты. Никто из односельчан не вышел на улицу, чтобы проводить своих соседей. Мишка за всю дорогу тоже не сказал ни слова, но лошадь не подгонял, видимо считая, что неудобно спешить, увозя неведомо куда людей, с которыми бок о бок прожил долгие годы. Наверное, ему было стыдно увозить из родного села семью Сергея Пономарева, который в свою бытность не раз выручал незадачливого и невезучего в жизни Мишку. Вроде был он не пьяница, не лодырь, да и семья небольшая: жена и два сына-подростка, но в хозяйстве у него все шло через пень-колоду. Главная его беда состояла в том, что он совершенно не был приспособлен к сельской жизни, хотя родился и вырос в семье потомственного крестьянина. Ничего не понимал в земле, в посевах, в уходе за скотиной. Почему — то именно у него чаще всего вымерзали озимые, хлеба рождались редкими и низкорослыми и даже картошка на тучных черноземах у него рождалась мелкой и уродливой. А если случался град, то именно у него выбивало посевы, хотя у соседей они оставались нетронутыми. При всем при этом, Мишка мечтал разбогатеть. В какие он только авантюры не бросался, чтобы сравниться по достатку с зажиточными мужиками, но все они заканчивались крахом. Так, в начале НЭПа, решил он заняться торговлей, видя, как богатеют купцы в городе. Нашлись в Воронеже добрые люди, ссудили его небольшими деньгами, товаром под залог имущества и благословили на ратные дела в коммерции. Не прошло и года, как Мишка прогорел, влез в долги и, чтобы расплатиться, пришлось ему продать лошадь, овец и даже холсты своей бабы. Но и этого оказалось мало. Чтобы рассчитаться с кредиторами, Мишка, недолго думая, забил единственную корову, выпросил у Рыбиных лошадь и повез мясо в город. Но и здесь он не сообразил, что на дворе был великий пост, и мясо было не в ходу. На базаре не было ни души и только кое-где маячили фигурки дворников, подметавших снег. Если кто-нибудь и появлялся на площади, то они пробегали мимо Мишки, подняв воротники. Спасаясь, таким образом, от лютого мороза. Сначала он обрадовался, что не будет конкурентов, но время шло и никто к нему не подходил, не приценивался. В худой одежонке он вскоре окоченел, посинел, не попадал зуб на зуб. У него не нашлось даже пятака, чтобы забежать в трактир погреться и попить горячего чайку.
— Ну что, брат, замерз? — вдруг услышал Мишка за своей спиной участливый голос. Он оглянулся и увидел перед собой во всей красе и с улыбкой на устах Ивана Жандара. Почему-то эту зиму Жандар предпочел не отсиживаться в тюрьме, а решил погулять на воле. Мишка в первый момент не узнал в этом громиле своего друга детства, с которым делал набеги на соседские сады и курятники. На нем была добротная, крытая сукном шуба с бобровым воротником и такая же шапка. На ногах красовались белые валенки с галошами, а на шее толстый шерстяной шарф с узорами. Мишка синими, замерзшими губами хотел что-то сказать, но Жандар опередил его, сграбастал своими длинными ручищами, поднял в воздух, покрутил вокруг себя, поставил на ноги и, хлопая по спине и улыбаясь, прибавил:
— Мишка, дружок, да ты ли это? А я иду и вижу что-то знакомое. Ты чего здесь делаешь, аль привез чего?
— Да вот корову забил, весь день простоял и ничего не продал. А я, Иван, слыхал, что ты в тюрьме.
— Кто это тебе сказал? Ну и люди, ну и брехуны! Да я теперь и сам, кого хочешь, в тюрьму посажу. Нет, Мишка, теперь я большой начальник. А насчет мяса не беспокойся, сейчас пристроим. У меня тут в ресторане «Бристоль» работает человек и сегодня, как раз говорил насчет мяса. Поедем в ресторан, сдашь сразу всю тушу, да еще распоряжусь, чтобы он принял мясо по самой высокой категории, а это надбавка по пятаку на фунт. Заодно покушаешь, выпьешь чекушку, погреешься, получишь деньги и домой.
Обычная крестьянская подозрительность шевельнулась где-то в глубине души, но добродушие Жандара, возможность поесть и выпить с морозу, а главное боязнь вернуться домой, не продав ни фунта мяса, взяли верх над его сомнениями, и Мишка согласился.
Что такое ресторан и с чем его едят, Мишка не знал и даже не слышал такого слова. Да и откуда ему было знать, если он за всю свою жизнь, много раз приезжая в город, так и не побывал на Большой Дворянской улице, где располагались особняки начальства, банки, рестораны и гостиницы. Жандар, получив согласие Мишки, взял вожжи в свои руки, и застоявшаяся, сытая лошадь Рыбиных в мгновение ока домчала их до кованых ворот самого шикарного ресторана города. Мишка оторопел и, раскрыв рот, с удивлением рассматривал здание с огромными сводчатыми окнами, балконами и лепными украшениями. Пока он лупил глаза на здание ресторана, Жандар постучал в ворота и переговорив с дворником, завел лошадь во двор. Мишка кинулся вслед, догнал и, запыхавшись, шепотом спросил:
— Иван, а Иван? Это куда мы заехали?
— Это, Мишка, и есть ресторан!
— А что тут делают?
— Как это что делают? Отдыхают, едят, выпивают, слушают музыку!
— А нам тут бока не намнут? Лучше давай продадим мясо и поскорей отсюда, а?
— Вот чудак! Сколько лет не виделись, не встречались, а он даже выпить не хочет с дружком!
Жандар ответил и замолчал, сделав вид, что обиделся.
— Да я, Иван, не против, выпить и перекусить, но у меня нету ни копейки в кармане!
— А кто говорит о деньгах, кто их требует с тебя? — с укоризной заметил Жандар, — Да с нас копейки не возьмут и будут рады, что я зашел к ним со своим другом. Да ты и сам увидишь, как все будут бегать, кланяться, стараться угодить. Как-никак, Мишка, этот ресторан моя собственность. И все тут работают на меня, все мои работники.
Подозрительность вновь возникла в голове у Мишки. Уж больно сладко поет Жандар, рассказывает какие-то сказки, и решил отговорить его от этой затеи.
— И все же, Иван, давай продадим мясо, возьмем бутылочку и в санях выпьем!
— Ты, Мишка, выбрось из головы эту дурь и делай то, что я говорю! — Прикрикнул на него Жандар. Повернулся к дворнику, подмигнул ему и начальственным голосом сказал:
— Пока мы тут с дружком немного отдохнем, ты, Лучик, присмотри за мясом, да заодно распряги лошадь, покорми ее и напои!
Дворник, широкоплечий, крепкий, с окладистой бородой, в нагольном полушубке, поверх которого был белый фартук с бляхой, торопливо подбежал к Жандару, поклонился и, заикаясь, сказал: «Слушаюсь!». Жандар сунул ему в руки синюю бумажку и позвал за собой Мишку. Эта сценка немного его успокоила и он, пересиливая страх и стараясь отбросить все сомнения, поплелся за Жандаром. Ватные ноги плохо слушались, словно его вели на казнь.
Дородный швейцар, весь в золотых галунах, с пышными усами, вежливо поклонился и широким жестом руки пригласил их подняться на второй этаж. Мишка, взглянул на него, разинул рот, обомлел и не смог сдвинуться с места.
— Ты чего стоишь столбом! — окликнул его с верхней площадки Жандар, — Быстро поднимайся!
— Этот окрик заставил двинуться Мишку дальше, но перед роскошной персидской дорожкой, устилавшей порожки лестницы, Мишка задумался и остановился.
— Долго тебя ждать? — торопил его Иван.
Мишка, молча, указал на свои разбитые лапти, из которых клоками торчала грязная и мокрая солома.
— Да пойдешь ли ты, наконец? Чего размахался руками?
Мишка, преодолевая страх, поднялся на второй этаж. Такой же пышный и нарядный гардеробщик, как и швейцар, внизу, уже помогал Жандару снять шубу, шапку и галоши. Повесив все на вешалку, он подошел к Мишке и вежливо попросил его расстегнуть полушубок и снять шапку. Он, было, заупрямился, но Жандар прикрикнул на него и Мишка покорился. Развязав на поясе веревку, Мишка снял полушубок, шапку и подал гардеробщику. Тот принял рваный полушубок и отнес его вместе с шапкой на самую дальнюю вешалку.
Пышный, чистый и светлый зал ресторана поразил Мишку больше, чем фасад здания и ковровая дорожка на лестнице. Стены и потолок были окрашены светлыми масляными красками. На окнах пышными складками свисала шторы, аккуратные столы отливали белизной накрахмаленных скатертей, вокруг которых теснились мягкие кресла. На стенах разместились огромные картины в золотых рамах. Особенно Мишку поразила одна картина, на которой были изображены мужики в чудных одеждах. Мужики внимательно рассматривали голую девку, которая от стыда прикрывала руками свои груди. В ресторане было пусто. Но стоило дружкам войти в зал, как к ним, из за малиновых портьер, выскочил молодой человек с прямым пробором на голове, лихими усиками и застывшей на лице улыбкой. Он подвел их к крайнему столику, усадил и вежливо осведомился, что хотят господа. Жандар небрежно осмотрев меню, отбросил его и сказал, что господа хотят обслужиться по полной программе и побыстрей. Молодого человека словно сдуло с места и через мгновение на столе появилось ведерко с шампанским, коньяк, графинчик с водкой и закуски, о существовании которых Мишка не имел никакого понятия. Но главное было в том, что за все это богатство не требовали денег, а лишь желали приятного аппетита. Только тут Мишка убедился, что Жандар действительно не брехал. Принимали его, как большого начальника. Мишка никогда не отказывался поесть, а тут с голодухи и на дармовщину у него от жадности загорелись глаза на небывалую роскошь на столе. И он стал подметать подчистую все, что подавал им официант, не забывая о водке, хотя и не был любителем выпивки. Вскоре от тепла и выпитого, его развезло, глаза посоловели, язык стал заплетаться и он стал плохо соображать, где он и что с ним. Он забыл, зачем он приехал в город, забыл о мясе, о чужой лошади. И когда, Жандар встал и сказал, что идет договариваться насчет продажи мяса, Мишка махнул рукой и повалился на стол, уткнувшись мордой в тарелку с остатками обглоданной индейки.
Когда Мишку растолкали и поставили на ноги, он ошалело смотрел на всех окружающих его людей, ничего не понимая. С помощью официантов и гардеробщика его одели, вывели во двор, запрягли лошадь и бросили в сани, выпроводив вместе с лошадью за ворота. Дворник сумел укутать его в веретье, валявшееся в санях, что и сберегло Мишку в этот день от смерти. У лошади хватило ума довезти своего бесчувственного ездока до дома. Правда, лошадь, прекрасно знавшая знакомую дорогу, привезла Мишку к дому Рыбиных. Жена Митрона с трудом растолкала Мишку и проводила его домой. Долго потом на селе судачили о том, как в такой мороз он не замерз в своей ветхой одежонке. Одни утверждали, что Митрон дал ему в дорогу тулуп, другие говорили, что его спасло веретье, а Иван Хохол заключил, что навоз в самые жуткие морозы до конца не промерзает. Сам же Мишка ничего не мог объяснить, и куда делась коровья туша, не помнил.
Очухавшись от выпитого, Мишка долго горевал и, наконец, решил пойти к Сергею Пономареву попросить у него совета. Выслушав путаный рассказ о разорительной коммерческой деятельности и неподъемных долгах, Сергей посоветовал вместе съездить в город, поговорить с купцами и поискать выход из сложившейся ситуации. На Малой Дворянской они зашли в небольшую лавочку, с полками, уставленными незамысловатым товаром. Но все это служило лишь для отвода глаз. Главный товар хранился у хозяина заведения в подвальных помещениях дома. Сергей знал, что купец торговал не из-за прилавка, а вел оптовую продажу, причем не всегда честно. Во-первых, он скупал все конфискованное по суду для перепродажи, начиная с одежды, мебели, музыкальных инструментов и кончая домами. Во-вторых, он не брезговал краденым, лишь бы было дешево и ценно. Короче, был воровским барыгой.
Хозяин встретил их радушно, пригласил гостей присесть, но его маленькие глазки под густыми бровями смотрели настороженно, словно ожидая какого-то подвоха. Сергей окинул купца презрительным взглядом и, отбросив всякую дипломатичность, сурово спросил:
— Тебе, Иван Данилович, знаком этот человек? — кивнул он в сторону Мишки.
— Да что-то не припоминаю!
— А мне казалось, что ты помнишь в лицо всех, кого ограбил. Ну ладно, простительно, когда ты скупаешь за бесценок у тех, кто проматывает нажитое их дедами и отцами, а ты обидел нищего, а еще крест носишь на шее.
— А я никого не обманывал, он сам отбирал товар, — выпалил купец, забыв, что минуту назад сам утверждал, что Мишку не знает.
— Ты, Иван Данилович, опытный торгаш. Не тебя учить, как торговать. А тут тебе в руки попал профан и ты решил всучить ему залежалое барахло, да еще по цене ходового. Ты всучил ему то, что не только в деревне, но и в городе не продашь. Кто будет брать у него театральные фраки, шляпы, пальто с каракулевыми воротниками. Ты всучил ему гнилое сукно, пальто с молью, сапоги с подметками из картона. Продолжать, а может принести из саней кое-что из твоих вещей?
Сергей уже сталкивался с таким типом людей, и знал, что напрасно взывать к их совести, стыдить их, ибо они живут по принципу: не обманешь, не продашь. Поэтому он просто старался вызвать ответную реакцию купца, но тот заткнулся и больше не оправдывался, а выжидал, когда Сергей выдохнется и замолчит. Но и Сергей старался не дать купцу говорить, не дать ему одуматься.
— Ну да черт с ним, с товаром. Я приехал договориться с тобой об оплате за другую партию вещей, а испорченные, ты можешь прямо сейчас забрать обратно.
— Ах, вон что! Так я скажу тебе прямо, что вы не получите не того, ни другого. У меня на руках договор, где стоит его подпись, и требовать пересмотра вы не имеете права. А теперь господа, до свиданья, мне некогда!
— Разрешите, Иван Данилович, тогда сказать прямо и честно. Сейчас мы поедем к прокурору и заявим не о том, что ты обманул бедного человека, а о том, что ты хранишь в подвале под полом. И придется тебе через пару часов объяснять следователю, откуда взялись в магазине краденые вещи и золото. То, что они там есть, я знаю от Жандара. К вашему сведению он является лучшим другом Михаила, и знают они друг друга очень давно. Жили рядом, дружили и играли вместе. Потом мы пойдем к Жандару и расскажем, как ты провел за нос его лучшего друга детства. Надеюсь, тебе хорошо знакома его братва. Ребята они тертые и с ними лучше жить в мире.
Сергей встал, позвал за собой Мишку и направился к выходу. Купец вскочил на ноги и остановил их возле дверей.
— Так чего же вы хотите?
— Мы требуем пересмотра договора. Платим только за нужные вещи, а барахло ты заберешь обратно. Вот и все!
— Ну, что ж согласен. Платите половину договорной суммы, и кончим разговор!
— А ведь он, Мишка, так ничего и не понял. Мы заплатим только за то, что нам нужно, а это составит, в лучшем случае, десятую долю от договорной. Пошли Мишка!
— Я согласен на треть!
— Так и быть заплатим пятую часть и не копейки больше!
Сергей отсчитал деньги и потребовал от него договор. Прочитав бумагу, отдал ему деньги и не простившись вышел вместе с Мишкой из лавки, хлопнув на прощанье дверью. Сергей не только заплатил Мишкины долги, но еще отдал ему старую кобылу и телочку, сказав, что долг тот сможет вернуть по мере возможности.
И вот теперь, везя его семью в ссылку, Мишка сгорал от стыда, проклиная себя и свою трусость.
Заря только разгоралась, но обширная площадь перед низким зданием Семилукского вокзала была забита людьми всех возрастов и пола с лошадьми и телегами. Вокруг вокзала не было ни одного здания и только за бугром виднелись высокие фабричные трубы, из которых в небо поднимались пышные султаны белого дыма. Люди были так напуганы ночным выселением, что до сих пор не могли прийти в себя, и сидели в телегах опустив головы. Кроме того, удручающе действовало большое количество конных и пеших милиционеров, окружавших плотным кольцом скопище несчастных людей, привезенных сюда по воле злой судьбы со всех окрестных сел и деревень. Люди боялись спуститься на землю, чтобы размять ноги или справить нужду. Детишки, обычно непоседливые и неугомонные, подавленные общим настроением толпы, притихли, не капризничали. Даже грудные дети не плакали. Пока люди ждали, что же будет дальше, областное начальство сбилось с ног, выполняя строгое распоряжение Москвы о высылке всех раскулаченных к черту на кулички. Строго предписывалось проводить эту акцию в сжатые сроки, не делая ни каких поблажек, не допуская проводов и сочувствия со стороны местных жителей, категорически пресекая всякие нежелательные эксцессы.
В Обкоме партии было решено первыми выслать раскулаченных крестьян из сел, которые были расположены вблизи областного центра. Ответственным за это был назначен председатель Облисполкома Рябинин. Но, так уж повелось на Руси: гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Массовое передвижение людей требовало большой организационной работы, а телефонов не было не только в деревнях, но и в большинстве районов. Приходилось рассылать вестовых из области в райкомы, те в свою очередь отправляли депеши по сельсоветам, собирали активы, инструктировали, принимали решения, писали ответы. Рябинин от бессонницы валился с ног, не зная, за что браться. И в этой неразберихе кто-то из помощников Рябинина забыл проконтролировать вопрос подготовки вагонов для перевозки кулаков. О каких вагонах можно было говорить вообще, если две третьи подвижного состава в стране все еще были разбиты и непригодны к эксплуатации. И пока утрясались вопросы, людей держали на пустынном полустанке в ожидании своей участи. Хотя кое-где лежал подтаявший снег, но солнце своими ласковыми лучами уже щедро согревало эту безрадостную картину. Ссыльные не спали всю ночь и, подавленные страхом, продолжали сидеть на телегах понурые и мрачные. Наконец поступило распоряжение распрягать лошадей. Спешилась конная милиция и все поняли, что отправка откладывается. Несколько милиционеров достали брезентовые ведра и отправились на железнодорожные пути. Открыли водопроводную колонку, набрали воды и пошли поить своих лошадей. К воде потянулись и люди. Они стали постепенно приходить в себя. Не чувствуя запрета, немного осмелели и стали бродить между повозками, отыскивая родных и знакомых. У кого была посуда, набрали в нее воду и спешили напоить свою семью, остальные же пили из фуражек, шапок или, подставляя ладони под сильную струю воды, лакали прямо с рук живительную влагу. Один мужик снял с себя сапоги, набрал в них воды и, держа за ушки, поспешил к своей телеге. Только Дарья Пономарева ничего вокруг себя не видела и не замечала. Ей и сейчас всё еще мерещился Митька и милиционеры с винтовками, которые, как тогда показалось, пришли ее расстреливать. Как впала она в шок, так и не вышла из него до сих пор. Всю дорогу она ждала, что ее сейчас пристрелят и, увидев на полустанке большое количество милиционеров, да еще на конях, она решила, что пришел последний час, и впала в окончательный ступор.
Детишки давно проголодались и хотели пить, но мать, отключившись от внешнего мира, не обращала на них никакого внимания. И все же Дарью нельзя было винить в трусости. Животное чувство страха она впитала с молоком матери смальства, постоянно живя в ожидании скандала и побоев. С одной стороны она была труслива, а с другой стороны отличалась крайней жестокостью, полученной в наследство от дебошира отца, в том числе и в отношении своих детей. Зная на своей шкуре характер матери, детишки молчали, ничего от нее не требуя. Вот почему, когда к ним подошел Иван Хохол, все они засверкали глазками, оживились и потянулись к нему словно подсолнухи к солнышку. Одет он был в хороший суконный пиджак, такие же штаны, заправленные в яловые сапоги. Чистая сатиновая рубашка отливала синевой, все на нем было новое, словно он отправлялся не в ссылку, а на свадьбу. В зубах торчала неизменная короткая трубка — носогрейка. Хохол вынул из-за рта трубку, облокотился на грядушку телеги, потрепал Ваню по черным волосам и тихо сказал:
— Здравствуй, Дарья!
— Здравствуй, кум! — так же тихо ответила Дарья, и в ее глазах вспыхнул огонек осмысленности.
— А где Серёга?
— Не знаю, кум!
— Разве он не с вами?
— Нет, я здесь одна!
— А он знает, что вас выселяют?
— Знает. Мишка Жогов прибежал ночью и предупредил, что нас будут выселять, а Серёгу хотят арестовать. Вот он собрался и ушел неизвестно куда!
— Молодец, уж он не пропадет!
— Он-то не пропадет, а что мне делать с этой оравой?
— А тебе, Дарья, было бы легче, если бы его посадили?
— Небось ты, кум, свою семью не бросил? А мой плевать на все хотел! — в сердцах выпалила она и ее глаза зажглись недобрым огоньком. Дарья становилась сама собой. Хохол промолчал, его лицо помрачнело и сделалось серым.
— Между прочим, кума, я здесь один, без семьи. Живут они, вернее жили до этого дня, у свата в Богоявленке. С ними и братуха Николай. Боюсь, как бы их тоже не привезли сюда. Но я прошел весь этот базар и пока никого из них не встретил. Надеюсь, что наш сват не даст их в обиду, ведь как-никак он председатель сельсовета. Я жил там тоже, но вчера, как черт попутал. Говорю своему младшенькому: «Давай, Федька, сходим к себе, авось не все растащили? Может быть, осталась какая-нибудь одежонка, обувка или что-нибудь из продуктов?» И представь себе, кума, почти ничего не тронули. Я ведь знаю, что у всех раскулаченных тащили все, что попадало под руку, а у меня взяли только тулуп, ухват, подушки, да лопаты с вилами. Может быть, побоялись или совесть заговорила в людях. Одним словом, в один мешок мы собрали барахло, а в другой уложили продукты. Прихватили даже топор, ложки, миски и брусок точильный. Нагрузились мы, мимоходом ведро захватили, вышли на крыльцо, а около него стоят два милиционера и Гришка Казак. И тут меня взяла такая злость, что я был готов убить его, и я бы сделал это, не будь со мной Федьки. А он стоит внизу, скалит свои лошадиные зубы и так с насмешкой говорит: «Что, Хохол, не думал встретить?». Одним словом подхватили нас под белые руки, и повели. Хорошо, узлы не отобрали. Не успели завернуть за угол, как к нам подкатила подвода, видно кто-то видал нас и донес, иначе, откуда Гришке было знать, что мы пошли домой, и кто прислал подводу? Вот так-то, Дарья!
— А вас кто привез?
— Да Мишка Жогов!
— А где же он?
— Кто его знает, небось опять крутится возле начальства!
— Значит, Мишка! Так, ну ладно! — Хохол на минутку задумался, постучал пальцами по грядушке телеги, повернулся, собрался уходить, но раздумал и, обернувшись к Дарье, сказал:
— А ты, кума, не распускай слюни, держи себя в руках! Ты женщина молодая, сильная и не тебе бояться трудностей. Наша жизнь на этом не кончилась. Правда она будет иной, но это жизнь и нужно за нее держаться, хотя бы ради своих детей, а их у тебя четверо. Теперь ты для них и кормилица, и хранительница и опора. Раскиснешь, опустишься, не соберешься с силами, считай, что дети твои пропадут и грех за них ляжет на тебя. Куда бы нас ни сослали, там тоже живут люди, которые сделаны из того же теста, что и мы с тобой, а может быть и из худшего. А теперь я переберусь к вам, и будем держаться друг около друга. Трудно сказать, как все дальше обернется!
Хохол резко повернулся и твердо, высоко неся голову, зашагал между телегами. Возвратился он довольно быстро, неся под мышкой большой мешок, набитый чем-то под самую завязку. За ним, неся на спине довольно увесистый оклунок, шагал его сын Федька, подросток лет шестнадцати, худощавый, нескладный, с длинной шеей на узких плечах. В отличие от отца он был светловолос, белолиц, с большими серыми глазами, излучавшими застенчивость. Они бросили свою ношу в телегу и Хохол, развязав свой мешок, достал ведро и зашагал к путям. Принеся воду, он заставил всех детей умыться, вымыть руки, слив им воду из кружки, и пригласил к обеду. Из оклунка достал довольно увесистый шмат сала, соленые огурцы, квашеную капусту, целый каравай хлеба. Нарезал сало ножом на ломтики и предложил отведать, что Бог послал. С едой дети управились довольно быстро и посмотрели на Хохла.
— Вижу, что не наелись, да оно и не хитро! Ладно, давайте посмотрим, что у вас в корзинках. Ого, да тут целое богатство!
Он достал из корзины лепешки, приготовленные бабушкой Варей, и вручил каждому по одной. Потом дал всем по два яйца и предложил попить холодной воды. Выждав, когда дети управились и с этим, Хохол посмотрел на них и, сделавшись серьезным, сказал:
— Вы все должны понимать, что нас выгнали из села, отобрали дома, скотину и даже еду. Мы здесь сидим целый день, никто нас не собирается кормить и дальше будет то же самое. А у нас нет с собой ни погреба, ни коровы, ни кур. Нет печки, в которой всегда можно было найти, что покушать, а поэтому подтяните животы и терпите. Самое большое, на что мы можем рассчитывать — это немножко перекусить раза два в день, а в худшем случае — один, да еще и за это должны Бога благодарить. Не вздумайте тайком брать еду, так как оставите без еды других, и они могут умереть. Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь из нас умер? Кормить вас буду только я и если кому-нибудь очень захочется есть, то терпите, не нойте и ждите моего разрешения. Хотя еды и будет мало, но мы всё равно останемся живы, а это сейчас — самое главное. А теперь слазьте с телеги, походите вокруг, побегайте, поищите друзей и подружек, поговорите с ними, поиграйте, но не сидите словно пришибленные. Вы дети, и ведите себя по-детски!
Хохлу не пришлось долго их уговаривать. Все тут же спрыгнули с телеги и разбежались по лагерю. Девчата свернули к сортиру, приютившемуся в стороне от вокзала. Это было убогое покосившееся строение, сбитое из горбыля. До самого обеда возле него теснилась огромная толпа людей обоего пола. Ване хотелось найти дедушку Егора и особенно дядю Яшу, которого он очень любил, но поискав и не найдя их, пошел назад к своей телеге. Когда он проходил мимо телеги дяди Никиты, тот его остановил и спросил:
— Ваня, отец здесь?
— Нет его, мы здесь с мамой!
— Ну, ладно! — махнул рукой дядя и отвернулся.
В этот момент народ зашевелился, послышались крики, ругань, родители стали звать своих детей. Вскоре узнали, что получено распоряжение всем ссыльным пройти на перрон, а подводы, привезшие их, могут покинуть лагерь и вернуться домой. Когда Ваня прибежал к своей телеге, все уже были в сборе и стаскивали на землю узлы, мешки и корзины. Хохол вручил каждому по ноше и повел земляков к вокзалу. Дошли быстро и расположились на узлах рядом с рельсами. Хохол, видя, что все собрались, взял с с собой Федьку и ушел, попросив без него никуда не уходить.
Мишка Жогов уже собрался домой, запряг лошадь, и теперь, с вожжами в руках, ошалело смотрел на растревоженный людской муравейник, ожидая, когда все успокоится, чтобы выбраться из этой толкучки. Его подвода стояла в сторонке, на краю площади, возле буйно разросшихся кустов черноклена, заставленная другими телегами, и поневоле приходилось ждать, когда освободиться проезд. Вдруг он почувствовал, как какая-то неведомая сила согнула его пополам, потом прижала его к земле, закрыв ему рот и глаза. Страх сковал его тело, но все же он попытался выбраться из железных объятий, мыча и болтая жиденькими ногами. Удар пудового кулака заставил его умолкнуть и прекратить всякое сопротивление. От удара голова его зазвенела, перед глазами поплыли радужные круги, тело обмякло и Мишка стих, погрузившись во мрак. Хохол, а это был он, проворно стащил с него полушубок с шапкой, размотал веревки с лаптей, связал ими руки и ноги, а онучами замотал голову. Потом перевернул обмякшее тело Мишки на спину и, оглядевшись вокруг, оттащил его за ноги в кусты. Все это Хохол проделал так быстро, что соседи, занятые своими делами, даже не обратили внимания. Федька остолбенело застыл у телеги и недоуменно смотрел своими большими серыми глазами на проделки отца. По всему было видно, что он даже не понимал происходившего на его глазах. Разделавшись с Мишкой, отец протянул сыну рваный полушубок и такой же треух, предусмотрительно снятые со своей жертвы и сказал, чтобы он все это надел на себя. Федька взял одежду и стал одеваться, пытаясь понять к чему все это и для чего. Федька был одного роста с Мишкой, да и телосложением они походили друг на друга. Отец поправил на нем шапку, застегнул полушубок и, подняв палец, внимательно сказал:
— Слушай меня внимательно, сынок! Садись в телегу, нагни голову, ни с кем не разговаривай и следи за подводами. Скоро мужики поедут домой, а ты поезжай последним и держись все время позади. Когда поедете Сомовским лесом, то прыгай с телеги и иди в кусты, словно по нужде, но не спеши и тем более не беги. Когда убедишься, что обоз уехал, сбросишь с себя это барахло, пройдешь лесом, спустишься к реке, перейдешь её и дуй в Богоявленку к матери. Если её там нет, оставайся у тетки и нигде не показывайся. Не забудь, когда перейдешь речку, снять мокрую одежду и надеть сухую, которую я положил в телегу.
— А как же, батя, лошадь?
— О лошади не беспокойся, она сама найдет дорогу. Ты думай не о ней, а о себе. Понятно?
— Понятно!
— Ну, с Богом! — Хохол посадил сына в телегу, отошел в сторону и стал ждать отъезда. Когда подвода с Фёдором скрылась за поворотом, Хохол повернулся и пошел на станцию.
Он был прав, говоря, что лошадь сама найдет дорогу, и она, по старой привычке, уже под вечер пришла к дому Рыбиных. Ребятишки, бегавшие по улице, тут же забрались в телегу и с шумом и гамом помчались на колхозный двор. О Мишке никто не вспомнил, и никому не пришло в голову заинтересоваться: «Куда же он пропал?».
Неизвестно сколько времени Мишка пролежал связанный в кустах, если бы на него не наткнулся местный житель, стрелочник с железной дороги, случайно завернувший по нужде в кусты. Он и увидел лежащего человека, связанного по рукам и ногам веревками. Развязав путы и сняв с головы онучи, спросил, что тут делает, добрый человек, кто он и кто его связал? Мишка, тяжело дыша, тупо глядел на незнакомца и никак не мог сообразить, что с ним. Потом огляделся и, не обнаружив лошади с телегой, хлопнул себя руками по ляжкам, взвыл по-волчьи и бросился бежать по дороге, не поблагодарив своего спасителя и забыв в кустах свои онучи.
На перроне столпотворение. Никто не объяснял людям, зачем их собрали на этом пятачке и что их ждет. Все держалось в тайне, а вернее никто не считал нужным растолковывать, что-либо, затравленной толпе. Люди нервничали, переживали неопределенность своего положения и пытались предположить, что же за всем этим последует. Мужики стояли и сидели на корточках, курили, тихо разговаривали. Бабы сбивались в стайки и судачили о своем, бабьем. Тут же на земле, подстелив под себя тряпье, сидели притихшие ребятишки с полными страха глазами. Одна девочка лет пяти держала на руках белого ягненка, гладила его рукой и что-то тихо шептала ему на ухо. А чуть в стороне другой малыш играл с котенком, дразня его веточкой. Котенок вставал на задние лапки, подпрыгивал, ловил зубами веточку и пытался вырвать из рук мальчика. Не понимая, что твориться вокруг него, увлеченный игрой, он смеялся, показывая заплаканной матери на забавную маленькую киску. Но вот послышался свисток паровоза и к перрону, скрипя железными суставами, стал приближаться состав, состоящий из двухосных скотских вагонов. На боках у них зияли дыры, многие были без дверей и крыш. Это было все, что за короткое время смогли собрать железнодорожники, но отправлять в такой разрухе даже врагов советской власти не поднималась рука. Председатель Облисполкома Рябинин еще утром осмотрел убогий состав, и все это время лихорадочно искал выход из положения. Наконец он распорядился всех ссыльных временно расположить в ближайшей церкви. Таковой оказалась церковь в селе Подклетное на другом берегу Дона, и было решено переправить людей через реку на том, что имеется. Прозвучала команда на посадку в вагоны и люди потянулись к поезду, неся на руках детишек и узлы. Конечно, никто не готовил стремянки для посадки людей в вагоны и, подойдя к ним, все остановились, не зная как забраться внутрь. Перрон был коротким, на какие-нибудь пять вагонов, а поэтому весь остальной состав растянулся вдоль довольно глубокого кювета. Даже с ровного железнодорожного полотна попасть в вагон без лестницы не так-то просто, а когда даже самые рослые мужики из кювета едва доставали головами с земли до пола, то посадка становилась просто невозможной. Охрана торопила людей, материлась, но это мало помогало делу. Наконец кто-то догадался предложить крепким мужикам сцепить руки крест — накрест и с помощью такой живой ступеньки подсаживать людей в вагоны. Еще два мужика стояли в дверях и вытаскивали несчастных пассажиров за руки наверх. Туда же подавали ребятишек и узлы. Наконец, с горем пополам, посадка окончилась и начальник конвоя, маленький нервный человек, весь в коже и с наганом на боку, прошел с группой своих подчиненных вдоль эшелона, предупреждая, чтобы соблюдали порядок и ни в коем случае не высовывались из вагонов. Вскоре поезд тронулся и, переехав Дон по железнодорожному мосту, остановился на станции Подклетное. С тормозных площадок попрыгала охрана и приказала выходить из вагонов. Через некоторое время людей выстроили вдоль состава для очередных распоряжений. Охранники проверили вагоны, убедились, что они пусты и стали строить ссыльных в колонну. Затравленная толпа плохо понимала, что хотят вооруженные конвоиры, но с помощью мата, кулаков и пинков, охранниками был наведен кое-какой порядок и люди тронулись в путь, неся и ведя за собой малолетних и престарелых преступников, лишенных крова, хлеба, детства, покоя, достоинства и гражданских прав. Изнуренные бессонницей, голодные, запуганные и издерганные люди еле передвигали ноги по песчаному косогору, не ведая своей судьбы. Движению мешали детишки, старики, старухи и больные. Охрана больше не торопила и равнодушно смотрела на процессию. Примерно через час колонну остановили на отдых. Люди с облегчением вздохнули и повалились на песок, там, где их застала команда, стеля по себя всевозможное тряпье.
Хохол развязал мешок, достал из него два пиджака, расстелил на земле и сказал Дарье и ее детям, чтобы те сели и отдохнули. Сам же остался стоять на ногах, сопя своей трубкой. В это время к нему подошел Федор Дымков, поздоровался и через некоторое время обратился к Хохлу с вопросом:
— А что, дядя Ваня, если бы всем взять и разбежаться в разные стороны? Как, по-твоему, стали бы милиционеры стрелять по людям?
— По тебе не будут!
— А почему?
— Да потому, что ты, Федор, дурак, а в них не стреляют!
— Это почему же?
— Куда ты побежишь от родителей, от жены и маленьких ребятишек? Ты хочешь оставить их без поддержки и защиты? Все мужики находятся в таком же положении, как и ты, и об этом хорошо знает начальник охраны.
— Почему тогда Сергей Пономарёв бросил семью и не спешит сюда к жене и детям?
— Пономарёву к семье нельзя. Он сейчас в розыске и ему грозит тюрьма, если не расстрел. Сейчас он, благодаря своим связям, пытается добиться для жены и детей освобождения от ссылки, а пока с ними буду я и бежать никуда не собираюсь.
Федор понятливо кивнул головой, повернулся и зашагал вдоль лагеря.
В сумерках раздалась команда вставать. Люди стали собираться, выстраиваться в колонну и вновь зашагали по песку. Уже стемнело, когда показались первые огоньки в окошках хилых домов Старого Подклетного.
— Вот и твое родное село! — проговорил Хохол, обращаясь к Дарье, — Небось, не думала, что вернешься сюда под винтовкой.
Старое Подклетное было обижено лесом, что не позволяло жителям строить с размахом. Плодородной заливной земли тоже было мало, а поэтому домики были в основном каменными и маленькими. Село, несмотря на близость к городу, не расстраивалось, а наоборот, кто был в силах, старались уехать в другое место. Наверное, поэтому в Воронежской области числилось пять Подклетных.
Колонна уставших людей втянулась в довольно широкую улицу, повернула направо и вошла в невысокую церковную ограду из беленых кирпичей с металлическими пиками сверху. Белая церковь, без крестов и колоколов, была величава и молчалива. Со скрежетом распахнулись огромные, кованые ворота, и люди, перекрестившись на темный проем, с настороженностью и опаской переступили порог поруганного Божьего храма. Бессонная ночь, волнения и усталость совершенно сморили народ и они, едва перешагнув порог церкви, стали укладываться спать. Кое у кого нашлись свечки, спички и в зыбком мерцании их огоньков матери спешили уложить сначала полусонных детей, сооружая им подобия постелей, состоявших из пиджаков и другого тряпья. Вскоре все угомонились, и наступила тишина. Кое-где еще слышались вздохи и шептание молитв. И все же многие не спали. Так много за эти сутки было пережито, что и сон не шел. Не спал и Хохол. Уложив Дарью с детишками спать, он опустился на пол, прислонившись спиной к стене. Закурил. Его мучила неизвестность о судьбе жены, о Федьке. Дошел ли он до своих? Вскоре, заметив огонек трубки, к нему подошел Никифор Дымков, присел рядом.
— Что ты, Иван Иванович, думаешь об всей этой катавасии? — наконец нарушил молчание Никифор.
— А что такое? — оторвался от своих дум Хохол и не сразу включился в разговор.
— Меня интересует, почему нас все время крутят вокруг да около, словно играют в кошки-мышки. Привезли сначала в Семилуки, потом переправили на станцию, а теперь пригнали сюда, в село. Ведь было бы скорее и ближе, если бы нас сразу повезли через семилукский мост.
Хохол любил и уважал этого, на вид невзрачного человека, за его трезвость, жадность к работе, за то, что он сумел сохранить целостность семьи, никого не отделил и держал всю огромную родню в строгом подчинении.
— Не знаю, Никифор, что тебе ответить, — не сразу начал Хохол, словно собираясь с мыслями. — Я тоже думал об этом, и считаю, что этому беспределу есть несколько причин. Во-первых, этими издевательствами власть наглядно запугивает крестьян. Глядите, мол, жлобы косолапые, что будет с вами, если не пойдете в колхоз. И они добились своего. Ты, наверное, заметил, что никто из соседей даже не вышел проводить нас и на станции никто не подошел, не спросил, чем можно помочь. Во-вторых, боятся выступлений в защиту, иначе чем объяснить то, что нас гнали ночью и все время держат под усиленной охраной. В третьих, бояться за себя и за то, что делают со своим народом, а поэтому прячут нас от посторонних глаз. Одним словом, бояться показать истинное лицо советской власти. А мы с Сергеем Пономарёвым за нее, дураки, кровь проливали, а его братец Никита даже орден получил, а теперь тоже шагает со всей семьей под конвоем. Да в гробу я видел такую власть!
В церкви было тихо, темно и прохладно. Крестьяне, привыкшие вставать с первыми петухами, давно проснулись и теперь сидели возле стен или бродили, словно тени, по огромному залу. И только детишки, привалившись головками к материнскому телу, спали младенческим сном, сопя и причмокивая губами. Люди не разговаривали и даже избегали смотреть друг другу в глаза, словно все были виновны в бедах, свалившихся на каждого из них. Да и кому можно было излить свою душу, если всех их объединяла одна и та же судьба. Даже родственники старались не общаться, избегая взаимных укоров и бесполезных обвинений. Заря разгоралась и через узкие оконца церковного купола, начал разливаться румяный свет, разгоняя по углам колеблющиеся тени. На огромном своде в отблеске разгоревшейся зари парил могучий седовласый вседержитель, сложив пальцы в крестном знамении, словно благословлял обездоленных людей на муки и унижения. Ниже, на стенах, были прикреплены красные полотнища, на одном из которых было написано: «Ликвидируем кулачество, как класс!», на другом, висящим на стене напротив, лозунг гласил: «Братьям по классу, узникам капитализма, в день 1 мая наш пролетарский привет!». Наверно эти транспаранты были недавно написаны и теперь сохли на стенах, ожидая международного праздника трудящихся, но оказались совершенно кстати и сейчас.
К Хохлу подошел добродушный Иван Рыбин, поздоровался и, указав пальцем на лозунг, заметил:
— Если там узники капитализма, то чьими узниками будем мы? Социализма?
В это время со скрипом открылись церковные ворота, и с улицы в церковь ворвался шум, людской гомон и ржание лошадей. Хохол вынул изо рта трубку, вскочил на ноги и поспешил к выходу. За ним пошел Рыбин, потянулись мужики, женщины и дети. Спустя некоторое время в церковь хлынула толпа с котомками, узелками и без них. Мужчины, женщины, старики и детишки. Люди потеснились, освобождая на каменистом полу место для вновь прибывших братьев по классу.
Возвратился Хохол, заметно повеселевшим. Подойдя к Дарье, он сказал:
— Давай кормить детей, да и самим не мешало бы перекусить, ведь вчера поели только один раз. Так мы скоро ноги таскать не будем!
Дарья развязала корзинки и стала выкладывать припасы на расстеленное полотенце. Хохол нарезал ножом сало, хлеб и выдал каждому по два яйца.
— Кушайте, наедайтесь, а если мы тут останемся, то к вечеру сварим горячего, — пообещал Хохол, и все, не ожидая второго приглашения, принялись за еду. А он продолжал:
— Привезли раскулаченных из Терновки, Гвоздевки, Ендовища, а из Богоявленки привезли только одну семью, Афони Ключникова. Он сказал, что моя семья живет у свата и никого из них пока не трогают. Поговорил я и с другими мужиками. Семен Горлов из Гвоздевки сказал, что мельницу Полякова снесло полой водой. Никто не сообразил спустить воду, вот и остались теперь наши земляки без мельницы. Да и кому она теперь нужна — эта мельница, если нечего будет молоть. А вообще-то мельник молодец. Как начали нашего брата трясти, так он и смылся, а мы, как идиоты, сидели и ждали у моря погоды. Вот и дождались!
— А куда, кум, денешься, если нет документов, а без них первый милиционер задержит.
— Все это, Дарья, чушь. Документы можно было достать у Мишки Жогова, он бы для Сереги все сделал, ведь все-таки крестник. А вот Бендереша и без документов уехал в город, и ничего, не вернули.
— Нам, кум, с Бендерешой нечего равняться. Он не постесняется и придушит любого человека, лишь бы завладеть его документами.
— Конечно, Бендереша не хуже другого бандита и нам не к лицу брать с него пример, а надо бы. Как обидно, что обвели вокруг пальца. Я плохо разбираюсь в политике, но Серега знал, что нас дурят. Об этом он и сам говорил не раз, но все же надеялся на справедливость. Да кто мог себе представить, что нас, простых людей, подвергнут таким издевательским гонениям? Признаюсь, что я тоже не ожидал такого поворота.
Пронесся слух, что привезли воду. Еще утром было объявлено, что к церкви, утром и вечером, в бочке будут привозить воду из ключа, чтобы ссыльные могли запасаться ею. Хохол встал, взял ведро и пошел на улицу. За ним потянулось другие, у кого была посуда. Пока Хохол ходил за водой, дети подмели всю еду и обрадовались, когда он вернулся с полным ведром. Напоив детей, он распорядился, чтобы они сбегали к бочке умыться, и дал им полотенце. Пока дети ходили умываться, он рассказал Дарье, что сейчас встретил одного знакомого милиционера, он родом с Богоявленки, и тот объяснил, что всех отправят, как только будут готовы вагоны.
— А он не сказал куда?
— Вроде говорил, что в Котлас.
— А где это?
— Говорит, что у самого Белого моря, на севере. Да еще, я встретил Илюшу Шубякина, вашего свата. Он подошел к ограде, чтобы поглазеть на нас. Я ему рассказал о тебе и попросил принести продуктов и кое-какого барахла. Обещал к вечеру принести.
— Ну, зачем ты, кум, это сделал?
— А чем ты будешь кормить детей и сама чем собираешься питаться? Мы что с тобой, в гости едем? Ты сильно ошибаешься. Нас выгнали из домов, и думаешь, что теперь будут кормить? Забудь об этом. К тому же хорошо знаю наших, чтобы ждать, когда они сами додумаются сварить хотя бы картошки и принести сюда, покормить тебя и ребятишек. С одной стороны эта наша известная тупость, а с другой обычная жадность. Поэтому нужно не только просить, но и требовать, чтобы несли все, что смогут. Так что забудь про свою гордость и совесть.
В это время пришли дети, умытые и повеселевшие. Хохол и Дарья взяли ведро и тоже пошли во двор, чтобы привести себя в порядок. Там они встретили Ивана Рыбина со своим выводком, который сообщил, что этой ночью украли всю еду у матушки с батюшкой. Хотя у них и были только яйца, да черствые куличи, оставшиеся с пасхи. От такой новости Хохол даже бросил умываться, на его лицо легла тень и заходили скулы.
— А кто это сделал?
— Кто его знает, ведь он там руку не оставил.
Когда Иван отошел, Дарья шепнула Хохлу:
— Это сделал наш Никитка. Он и в селе всегда воровал.
— А ты откуда знаешь?
— Когда ты ходил за водой, к нам подходила Фёкла и хвалилась, что они наелись яиц до икоты.
— Вот гнида, вот гад! Нашел, кого обижать. Да я его раздавлю как слизняка!
— Не связывайся, кум, горбатого только могила исправит. Чёрт с ним!
— Нет, Дарья, я ему и горб исправлю, и если будет нужно, то и могилу вырою. Тут дело не только в нем, а в нас самих. Если сойдет с рук одному, появятся другие охотники до чужого добра. Нас и так всех уже обобрали, обрекли на голод и холод, но тут ничего не поделаешь, плетью обуха не перешибешь. Не хватало теперь, чтобы мы еще грабили друг друга. Так дело дойдет и до убийства, если не наведем порядок. Поэтому Никитку нужно так наказать, чтобы он почувствовал и узнал, что за воровство пощады не будет.
Хохол вытерся полотенцем, пригладил кудри и пошел в церковь. Как и о чем он говорил с Никитой, никто никогда не рассказывал, но Дарье Хохол сказал, что теперь тот на всю жизнь запомнит, что чужого брать нельзя и детям своим накажет, да и другим будет хорошим уроком.
На следующий день из области приехало высокое начальство. Милиционеры зашевелились, забегали, созывая ссыльных в церковь. Освободили один угол, принесли откуда-то стол, две скамейки, на которых расселись городские гости. Начальник караула, казавшийся подростком среди дородных чинов, выложил на стол бумажки, прихлопнул их узенькой рукой и строго посмотрел на толпившихся перед ним мужиков и баб.
— Сейчас я буду называть ваши фамилии, а вы будете отвечать, здесь ли эти люди или нет. Предупреждаю, чтобы ничего не скрывали, не хитрили. Ясно?
Люди переступили с ноги на ногу и промолчали. Списки людей, подлежащих высылке, составлялись в сельсоветах малограмотными людьми, что внесло в ход переклички путаницу и неразбериху. Часто вместо фамилии в списке стояла кличка или прозвище. Кое-как, к вечеру, разобрались со списками и фамилиями, разбили всех по группам, примерно по 40 человек в каждой, назначили старост, и предупредили их, что за каждого человека они будут отвечать персонально.
Заминка вышла только с Федькой, сыном Хохла. Про жену и дочерей, не внесенных в списки, даже не заикнулись, что сильно обрадовало его. А вот за сына ему устроили головомойку. Допрашивали долго и строго. Хохол понимал, что у начальства, кроме списка ничего нет на руках, и упирался до конца, прикинувшись дурачком.
— Ты, начальник, сам разбирайся со своим списком, вон сколько в нем путаницы. Внесли в ваш список какого-то Федьку, а у меня и сроду не было сына, хоть спросите у мужиков.
Начальник караула яростно кричал, стучал по столу и грозил всеми небесными карами. Наконец у Хохла кончилось терпение, и он, резко подавшись вперед, сказал:
— Ты чего раскомиссарился? Может, в Соловки сошлешь?
Не ожидая такого отпора, начальник караула лишился даже дара речи, его лицо перекосилось, посерело, глаза налились кровью, и казалось, что он сейчас кинется с кулаками на дерзкого мужика. Но тут один из приехавших дернул за рукав не в меру расходившегося охранника, остудил его пыл и сказал:
— Ты сам видел, сколько путаницы в списках, а поэтому будь благодарен, что потерял только одного пацана, а не половину всего эшелона.
После этого назначенные старосты стали подходить к столу и расписываться за себя и пофамильный состав группы. Как только их отпустили, Хохол пришел к своим подопечным, и устало уселся на пол. Не спеша, раскурил свою трубку, усмехнулся и произнес:
— Ну, Дашка, готовься в путь-дорожку!
— А когда? Что об этом сказали?
— Нет, — сказал Хохол, — когда не сказали, но зато составили списки, и осталось дело за вагонами.
— Какие списки?
— Обычные списки, бумажные. Теперь я у вас буду начальником. Дело в том, что нас разбили по группам и для каждой такой группы будет отведен отдельный вагон. Когда мы с Серёгой ехали на фронт, нас по 40 человек везли, а в нашей группе оказалось 46, но зато семьи все целиком. Значит и нас так же повезут.
— Кого же записали вместе с нами?
— Да все свои, ты сама скоро увидишь, а я пока пойду, всех предупрежу.
Хохол пришел не скоро и вслед за ним потянулись люди. Первыми пришли матушка с батюшкой. За ними пришли Егор Иванович, Яшка, Евдокия и Варька Пономаревы. Потом появились многочисленные семьи Чульнева, Дымкова и Пономарёва Митрофана. Последним пришел угрюмый Никита Пономарёв с женой и детьми. Хохол пригласил всех подойти к нему поближе. Когда все сгруппировались возле него, он осмотрел всю эту толпу и сказал:
— Вот что, земляки! Видимо скоро нас отправят. И повезут не в Крым, а на Север. Один добрый человек сказал мне, что сошлют нас в Котлас, на лесоповал. А город этот лежит почти у самого Белого моря. Там на тысячи верст один лес и не встретишь ни города, ни деревни. Зимой там такие морозы, что речки промерзают до дна.
— О, Господи, избавь и помилуй! — простонала Настя, сноха Дымкова и широко перекрестилась. Хохол посмотрел на нее укоризненно и продолжил:
— Не подумайте, что я вас запугиваю, я просто предупреждаю всех, в каких условиях нам придется жить. Правда, хоть там и редко встречаются деревни, но все же они есть и там живут люди. Они приспособились, и нам нужно будет приспосабливаться. Нам там дома не приготовили и не приготовят. На первых порах придется жить в землянках или шалашах без печек, пока кирпичей не наделаем. Кормить нас тоже не собираются. Будем заготавливать ягоды, грибы, ловить рыбу, зверей. Но до этого, сначала, нужно выжить в дороге, а сделать это будет очень трудно. Самое главное, что мы должны с вами сделать — это запастись продуктами на дорогу и на первое время проживания. Необходимо прочесать все село, попросить всю родню, чтобы привезли продукты, одежду. Брать все, что будут давать, начиная от мяса, сала и кончая картошкой, луком и чесноком. Пусть бабы с детишками идут по селу и просят у людей еды. Не отказывайтесь ни от пшена, ни от соли. Мужики, кроме того, должны добыть лопаты, топоры, ножовки и другой инструмент. Ни брезгуйте, ни ложкой, ни миской, ни кочергой, ни ножом, ни спичками.
— Ты что же, Иван, нас побираться заставляешь? — пробасила Чульниха, глядя ему в глаза.
— Нет, Авдотья, не побираться я заставляю, а брать все. Ты вспомни, как твои же соседи тащили из вашего дома все, что попадалось им под руки. Я уверен, что и здесь было то же самое, так что пусть отдадут награбленное. Мы должны не побираться и не просить, ради Бога, а требовать. И пусть попробуют не дать, предупреждайте, что может и аукнуться.
— А как же мы пойдем в село, если за ограду не пускают и охрана по кругу ходит? — спросил Никифор Дымков.
— Это я беру на себя, — ответил Хохол. — А ты, Дарья, возьми вот ведро с картошкой, принес все же Илюша Шубякин, почисть ее с бабами, помой, и приготовь к варке. Нужно хоть немного поесть горячего. Картошку не оставляйте, чистите всю.
Бабы пошли чистить картошку, а Хохол, прихватив несколько подростков, пошел обламывать ветки с деревьев. Вскоре запылал костер, на него поставили ведро с картошкой. Воду с готовой картошки слили в посуду, какая нашлась у людей, и помяли в нее несколько картофелин, Хохол нарезал кусочками сала, побросал в варево и всех пригласил отведать еду. У кого нашлись ложки, стали хлебать жидкую похлебку, прикусывая рассыпчатой картошкой, у кого нашелся хлеб, ели с хлебом. Все так были увлечены едой, что никто не обратил внимания на священника с матушкой, которые сидели в стороне и о чем-то шептались. У них не было ни ложек, ни посуды и они явно стеснялись брать картошку руками. Хохол развязал мешок, достал из него глиняную миску, положил в нее несколько картофелин, прибавил два соленых огурца, отрезал два ломтика хлеба. Достав другую миску, налил похлёбки с кусочками сала, прихватил две ложки и все это отнес святой чете. Они так растрогались, что забыли поблагодарить, а только неистово крестились, шепча, при этом, то ли молитвы, то ли слова благодарности. Хохол хорошо знал, что несчастных стариков выгнали из дома, не дав ни одеться, ни взять продукты, кроме кошёлки с яйцами и куличами, да и те Никита Пономарёв стащил ночью.
Илья Шубякин, кроме ведра с картошкой, принес еще полный мешок, набитый разными тряпками. Дарья очень обрадовалась старенькому лоскутному ватному одеялу, так нужному для подстилки детям во время сна. Принес он узелок пшена, большую кошелку соленых огурцов, увесистый мешочек с луком, чесноком и даже большой шмат солёного сала. Хохол был доволен тем, что у него, на первое время, скопилось уже достаточно еды. Были Дарьины продукты и еще те, которые он прихватил в ту злополучную ночь в своем доме. В дальнейшем он надеялся на случай.
Наутро всем женщинам внезапно разрешили ходить свободно по селу, взяв с собой по одному ребенку. Многие из них, прихватив детей, вышли за ограду. Через какое — то время они, кто раньше, а кто позже, стали возвращаться. Первая из похода вернулась, ладно скроенная сноха Дымкова Настенька, жена Фёдора. Она шла словно пьяная, крепкие ноги плохо слушались и по ее милому лицу катились слезы. Вела ее за руку племянница, двенадцатилетняя Катя, и растерянно смотрела на встречавшихся людей. Настя, казалось, ничего не видела перед собой, и только помощь племянницы позволила ей найти дорогу. Низкорослый Фёдор вскочил на ноги, кинулся к жене и, не зная, что делать, стал неумело обратной стороной ладони вытирать слёзы с ее лица. Люди притихли и с недоумением смотрели на эту сцену. Фёдор посадил жену на пол, подстелив пиджак, встал перед ней на колени и стал уговаривать её перестать плакать, но Настенька продолжала захлебываться в слезах. Хохол поднялся с корточек, подошел к ведру, зачерпнул кружкой воды и, оттолкнув Фёдора, поднес к ее рту воду. Настя, давясь и обливая свою пышную грудь, сделала несколько глотков. Постепенно рыдания стихли, но началась икота и Хохол, прижав ее голову к себе, стал нежно гладить волнистые, темные волосы, уговаривая Настеньку успокоиться. Наконец рыдания и икота прекратились и она, словно проснувшись после долгого кошмарного сна, удивлённо посмотрела на окружающих ее людей. Взгляд ее больших синих глаз, обрамленных густыми ресницами, стал осмысленным и чистым. Выждав некоторое время и дождавшись, когда она окончательно успокоиться, Хохол ласково обратился к ней:
— Ты, Настенька, расскажи, что с тобой случилось? Поверь мне, я тебя в обиду не дам!
Глаза у нее вновь наполнились слезами и сверкнули гневом, словно чистое голубое небо внезапно покрылось черной тучей.
В это время подошли ещё женщины с детьми и тем самым отвлекли внимание от Настеньки. По увесистым и не очень, узелкам и котомкам, было видно, что им повезло больше, чем Дымковым. Чульниха, разложив перед собой принесённое добро, внезапно спросила Хохла:
— Скажи, Иван, а почему, когда нас гнали сюда, сторожили строго, не давая и шагу ступить в сторону, а теперь разрешили свободно ходить по селу и не бояться, что люди разбегутся?
— А ты, Авдотья, возьми и уйди!
— Куда же я пойду от детей и внуков?
— Как видишь, наш начальник не дурак, и знает, что делает. За ограду выпускает только бабу с одним ребенком или мужика. Куда вы так денетесь, вернетесь, как миленькие!
Хохол не сказал, что без его участия в этом деле не обошлось. Накануне он, с глазу на глаз, поговорил с начальником охраны. Он напомнил ему, как тот пушил его за сына, которого у него не было, и спросил, как тот думает отчитываться, если потеряет сразу несколько человек. Начальник охраны усмехнулся и ответил, что этого не может быть, так как охрана надежная и многочисленная. Хохол сказал, что в этом нет сомнения, да и люди бежать никуда не собираются.
— Так в чем же тогда дело?
— Если бы ты знал, как нас раскулачивали, ты бы не задавал этот вопрос.
— А чего я должен знать?
— Хотя бы то, что мы не прокаженные, а крестьяне, обычные люди, на которых почему-то решили отыграться, а ты обращаешься с ними, как со скотиной.
— А почему вы обижаетесь? Ты говоришь, что вы тоже крестьяне, но почему тогда эксплуатировали других, заставляли работать на себя?
— Кто тебе наговорил эту чушь? Никто на нас не работал, и магазинов с мельницами у нас не было. Наша беда была только в том, что мы работали лучше других, не зная покоя ни днем, ни ночью, а нас не только вышвырнули из своих домов, отобрали все, что мы нажили, но не позволили даже одеться и взять еды. Доходило до того, что когда бабы отказывались выходить из своих домов, то хватали детей и выбрасывали их на снег. Бабы бросались за ними и их назад больше не впускали. И они раздетые, с ребятишками на руках, в мороз, шли по улице, пока сердобольные люди не пускали несчастных к себе в дом. Если ты не веришь мне, то поговори с другими мужиками, и они тебе расскажут не такие чудеса. Пока мы еще жили в своём селе, то родственники или просто соседи, как могли, подкармливали, а как только нас вывезли сюда — лафа кончилась. Многие уже несколько дней сидят голодными. У женщин, которые кормили детей грудью, пропало молоко, а это значит, что грудные обречены на голодную смерть.
— И что же ты предлагаешь?
— Нужно кормить людей, пока они умирать не начали. Я понимаю, что у тебя такой возможности нет, но отвечать придется тебе.
— Тогда скажи мне, умник, как бы ты поступил, будь на моём месте?
— На твоём месте я бы выстроил людей, поклонился бы им до земли, попросил прощения и отпустил.
Начальник охраны нахмурил брови, задумался и спросил:
— Так что же ты предлагаешь?
— Не нужно держать людей под винтовками, а разреши им свободно ходить по селу. И как бы это не прозвучало для тебя странным, но пусть люди ходят и побираются. Тебя за это никто не накажет, но ты сохранишь сотни людей от голодной смерти. Я говорю серьёзно, ибо еще два, три дня и нам придется хоронить людей.
— Допустим, что я разрешу людям ходить по селу, а кто даст гарантию, что они не разбегутся?
— Такой же вопрос я задал старой мудрой женщине.
— И что же?
— Она ответила, что уходить не собирается, потому что нельзя бросить детей и внуков. Куда, мол, они, туда и я. Пойми, что нельзя людей взаперти держать, где они просто сдохнут с голоду или, доведенные до отчаяния, все же бросятся бежать по сторонам. И что? Вы будете стрелять по старикам и детям? Это скандал на весь белый свет. Тебя, в лучшем случае, снимут с должности и отдадут под суд.
— Ну, допустим, что я им разрешу свободно ходить по селу, а кто их будет собирать?
— Все просто. Отпускай не всех сразу, а по отдельности — бабу с ребенком или одного мужика. Мужик не бросит свою семью, не побежит он неё, а баба тем более не бросит своих детей.
— Ну, а кто будет определять, кого отпускать в село, а кого нет, ведь ни я, ни охрана не знает людей, не знает их семьи?
— И здесь выход имеется. Собери всех старост и объясни им суть дела. Скажи, что они будут отвечать головой за каждого человека и если, кто не вернется, то тут же все походы будут запрещены, и никого не будут даже подпускать к ограде. Уверен, что всё будет так, как ты скажешь.
— Хорошо! Иди, а я подумаю!
Так был решен очень важный вопрос жизни и смерти людей, находившихся в церкви, но никто из них об этом разговоре не подозревал. Хохол всем говорил, что если разрешили ходить по селу, то нужно использовать момент и запасать еду, пока имеется возможность, ибо без еды долго не протянуть. Советовал посылать гонцов к родным и знакомым, так как в селе у людей закрома не бездонные.
Иван Иванович во дворе варил кулеш к ужину, когда какой-то мужик из ограды позвал его. Он, не спеша, подошел к нему и только тут узнал в этом человеке Сергея. Хохол огляделся вокруг и подал ему через забор руку. О чем они говорили между собой, так и осталось тайной, но в конце беседы Сергей попросил позвать ему жену и Иван пошел выполнять просьбу товарища. Узнав, что муж ждет её у забора, Дарья подошла к нему не сразу, а очень осторожно, делая вид, что собирает дрова для костра, ибо её вновь обуял дикий страх. Ей казалось, что все люди, ходившие около ограды, следят за ней и только ждут, когда можно будет донести охране. Но людям было не до Дарьи. Одни стояли у ограды и разговаривали с родственниками и знакомыми, приехавшими проводить и проститься, другие были заняты своими делами и не обращали на неё никакого внимания. Нигде не было видно и охранников. Видя, что она никому не нужна, Дарья пошла к мужу, поздоровалась и, с грустью в голосе, спросила:
— Ну, где ты, и что ты думаешь делать?
— А что мне делать, если все идет не так, как мне хотелось? Прячусь, пока, у воров. Спасибо Жандару, что приютил и пообещал в обиду не давать. И всё же мне удалось кое-с кем поговорить и мне объяснили, что в Обкоме партии, якобы решили не отправлять в ссылку женщин и детей, если у них нет мужей. Так что придётся ждать и тогда решать, что делать.
— А если это брехня, и меня с детишками все же отправят. Все бабы с мужьями, а я одна. Может быть тебе, Серёга, явиться к начальнику и присоединиться к нам?
— Я уже решился, но меня остерегли и предупредили, что я в розыске. Дело в том, что меня выставили, как злостного противника коллективизации и организатора всеобщего бойкота колхозному строительству. В вину ставят активное участие в подготовке крестьянского восстания в Воронежской области, а это тюрьма, если не расстрел. Так что лучше самому сразу застрелиться и сдаваться не будет необходимости. Кроме того, я поговорил с Иваном Ивановичем, и он тоже не советует мне идти с повинной. Иван поклялся, что тебя с детишками не бросит, чтобы не случилось. Будет вас оберегать и охранять. Давай из двух зол выбирать меньшее. Ты же не хочешь, чтобы меня расстреляли или сгноили в тюрьмах! В конце — концов, ты с людьми и, поможет Бог, не пропадёшь! Всё утрясется, и мы опять будем вместе.
Дарья всхлипнула и по — щенячьи заскулила.
— Не плачь! Ну, кто думал, что так обернется?
— Что-то, Серега, ты похудел, одни кости кожа. Ты, наверное, голоден. Может тебе денег дать?
— Деньги береги, они тебе еще понадобятся, а я обойдусь!
— Ребятишек не хочешь поглядеть?
— Нет, этого делать не нужно. Ты иди и береги их. Придет ещё к нам улицу праздник.
Сергей протянул через забор руку и погладил Дарью по мокрой щеке.
Хохол снял с костра ведро с кулешом, затушил огонь и собрался нести ведро в церковь. В это время, случайно бросив взгляд в сторону забора, заметил по ту сторону знакомые лица. Подойдя к ограде, он увидел двух племянниц Дарьи, Татьяну и Маньку. За ними стояла жена Семёна, Груша. По-всему было видно, что они обрадовались, встретив знакомого человека.
— А где Дашка? — спросила Груша, выступая вперед.
— Где ей быть, если не с детьми, — ответил Хохол.
— Ты, Иван Иванович, позови ее!
— Она сейчас будет кормить детей. Вот видишь, наварил кулешу и несу им. Ведь здесь никто не покормит, вот они и ждут, не дождутся этой каши, — неприязненно ответил Хохол, видя, что гости пришли с пустыми руками.
— Недаром говориться, что сытый голодного не разумеет. Вот этим сопливым девчонкам простительно, но у неё два брата, сестра и никто не догадался прислать даже картошки, огурцов, бутылку молока, не говоря уж о куске хлеба. Вы, что? Пришли узнать, как Дарья сидит с голодными детишками и поговорить с ней о её горькой судьбе? Ей и без вас тошно. Передайте родным, что Дарье есть нечего и её детям тоже. Спасибо заранее всем! Дарье я не скажу, что вы приходили, а пока, до свидания, до встречи!
Хохол подхватил ведро и зашагал к церкви, ни разу не обернувшись. Вскоре он кормил кулешом ребятишек и Дарью. Накормил святое семейство и Федора с Настей. Настя к этому моменту успокоилась, приободрилась, шеки порозовели, глаза высохли и сияли на ее миловидном личике. Она покушала и теперь, сидя на полу, кормила грудью ребёнка. Фёдор выскреб остатки из миски, что осталась от жены, вылизал ложку и подошел к Хохлу. Отвёл его в сторону, попросил закурить и рассказал, что случилось с женой. Оказалось, что Настя со своей племянницей зашла к Андрею Кадетову, женатого на её закадычной подруге, сироте Полине Лавлинской, которую взяли в Подклетное, позарившись на её рослость и крепкое телосложение. Отец Андрея рассудил, что если у сироты нет родни, то не надо будет и на гостей тратиться. Крепкая девка будет хорошей работницей, а её природная застенчивость говорит о покорности. Отец считал, что, попав к ним в семью, Полина, после трудной сиротской жизни, будет век молить Бога за подвалившее счастье. Спустя некоторое время, после свадьбы, весь род Андрея переехал на новое место жительства в Новое Подклетное, оставив Андрею большой деревянный дом и довольно крепкое хозяйство. Все мужики рода Кадетовых отличались острым умом, но природа наградила их в избытке еще хамством и наглостью. Не был исключением и Андрей. Настя попала к Кадетовым к обеду. Андрей, рослый, крепкий мужчина, сидел с детишками за столом и хлебал деревянной ложкой наваристые щи из глиняной миски. Пот ручьем катился по его сытому лицу, которое он время от времени вытирал рукавом рубахи. Полина стояла у печки, заложив руки под фартук, и внимательно наблюдала за мужем, готовая при первом намёке угодить своему господину. Настя поклонилась хозяевам, подошла к подружке и обняла её. Так и стояли они, не в силах оторваться друг от друга.
— Ну, чего это вы прилипли друг к другу, словно пиявки. Ты чего пришла? — спросил Андрей Настю, вытирая ладонью жирный подбородок, ощупывая блудливыми, масляными глазками её фигуру.
— Да, как сказать тебе, Андрей! Очень неудобно, но что делать? — выдавила из себя Настя и не узнала своего голоса, — Вот уж какой день мы голодаем, отощали совсем. Помогите, чем можете, а то, неровен час, передохнем с голодухи.
— А чем я смогу вам помочь? — грубо оборвал он Настю и отвалился спиной к стене. В выпуклых бесцветных глазах запрыгали бесенята. Он недобро усмехнулся, продолжая пялить свои глаза на Настю.
— Мне бы, Андрей, хоть немного картошки.
— Картошки говоришь? А ты попляши, глядишь, и дам, а может быть, и не дам?
— Побойся Бога, что ты говоришь? Какая пляска, если я еле на ногах стою, — не поняв издёвки, ответила Настя.
— Может быть, ты стесняешься плясать в избе, тогда пойдем на сеновал и там потанцуем.
Андрей вылез из-за стола, подошел к Насте, обнял за плечи и прижал к себе. Настя не помнила, как вырвалась и выбежала на улицу, как дошла до церкви и что было с ней дальше. Её душила не злость на Андрея, а боль от его насмешек. Было ужасно стыдно за свои унижения перед этим скотом. Рассказав Хохлу историю, Фёдор попросил совета, что делать:
— Может быть, дядя Ваня пойти и зарубить его?
— Ты, Федор, — укоризненно ответил ему Хохол, — конечно прав, что таких сволочей нужно учить, но подумай сначала о себе и своей семье. Хорошо, если тебя осудят, а если к стенке поставят без суда и следствия. Всё будет зависеть от того, кому ты в руки попадешь.
— Выходит, что если я заступился за свою бабу, то меня нужно расстреливать?
— В данном случае, Федор, расклад иной. Тебе припишут не драку, а борьбу кулачества с линией партии на коллективизацию страны. Андрея выставят защитником этой линии, а тебя посчитают злостным кулаком, который ненавидит все советское и от бессилия вымещает свою злобу на честном колхознике. Так что выкинь эту чушь из головы. Ты лучше вот что сделай. Попроси наших баб, чтобы они разнесли по селу слух об Андрюхе, а там посмотрим.
Через два дня после разговора Хохла с Фёдором, глубокой ночью, когда все раскулаченные спали при закрытых дверях, Андрей Кадетов сгорел. От избы и надворных построек остались одни головешки. Спасибо сами успели выскочить из пылающей избы.
Конец второй части
Часть 3
Утром, когда весть о пожаре облетела церковный двор, появились люди в военной форме. Поползли слухи, что приехало ОГПУ разбираться в том, кто поджег Кадетова, и теперь всех мужиков арестуют. Новость принесла Дарья, но она была так напугана, что Хохол сразу не понял, о чем она хотела рассказать. Разобравшись, он успокоил её, сказав, что Андрей не такая уж большая шишка и, скорее всего, прибыла смена караула, которая будет сопровождать их в дороге. И как всегда оказался прав.
Передача власти прошла быстро. Старый начальник со своими милиционерами отбыл в город, а новый обошел и деловито осмотрел территорию церкви, выставив по ходу часовых. Во всем его поведении чувствовалась армейская выправка. Одет он был в длинную шинель с разговорами, шапку-кубанку с красным верхом и хромовые сапоги. Знаков различия у него на одежде не было, как не было их и у сопровождавших его новых охранников. Он потребовал к себе старост, по спискам проверил наличие людей, вышел на середину церкви и громко объявил:
— Я начальник вашего эшелона, прошу любить и жаловать! Никаких беспорядков не потерплю и поэтому походы в село отменяю!
Этой же ночью громкие голоса охраны разбудили спящих людей. В распахнутые двери от Дона потянуло ночной свежестью. В тусклом свете «летучих мышей» зашевелилось многоголовое и многорукое чудище многоликой толпы. Люди ёжились от прохлады, сбрасывали с себя остатки сна и не сразу поняли, что от них хотят. Они сбились в кучу и притихли в ожидании, ожидая решения своей судьбы. Малыши сидели на руках своих родителей. Ребятишки повзрослей, держались за юбки матерей и штаны отцов. Село еще спало в молчаливых, темных избах и кругом стояла зловещая тишина. Даже собаки, неизменные нарушители тишины, забились в свои конуры и молчали. Только в церкви толпились те, кого лишили сна и покоя. Но вот ворота ограды открылись, толпа дрогнула и люди, окружённые охраной, потянулись нестройной колонной вдоль затаившихся и равнодушных к их судьбе дворов. И только когда последние избушки остались позади, вслед ушедшим заголосили петухи, словно посылая обездоленным людям, свое последнее прости — прощай. Их повели той же дорогой, по которой вели сюда. Охранники негромко, с матерком, торопили, пытаясь в темноте поскорей увести людей подальше от любопытных глаз. Люди на прихваченном морозцем песке спотыкались, падали, на них натыкались другие, валились на упавших, проклиная всех и вся на этом свете. Как ни торопили людей, но когда они пришли на станцию, на востоке слегка посерело, и тьма стала рассеиваться, предвещая утро. Контуры редких строений и человеческие фигуры стали вырисовываться более четко и все вздохнули с облегчением. Люди, хотя и были измотаны переходом и бессонной ночью, сразу обратили внимание на то, что тупик заставлен двухосными товарными вагонами во главе с попыхивающим паровозом. Начальник эшелона позвал к себе старост. Хохол ушёл, но через некоторое время вернулся и повёл свою группу вдоль состава. Посередине эшелона он остановился и распорядился грузиться, указав на вагон. В вагоне был наведен порядок, и по всему чувствовалось, что к нему приложили руки. По обеим сторонам от двери в два уровня были сколочены нары из оструганных досок, в дверях висела деревянная стремянка, а на люках прикреплены железные решётки. Посредине вагона к полу был прибит большой железный лист, но печки не было. Зато стояло пустое ведро. Не трудно было догадаться, что сделали всё это на заводах и в депо Козлова, Грязей и Воронежа, выполняя срочное указание руководства области.
Когда все забрались в вагон и затащили в него нехитрые пожитки, Хохол обратился к своим друзьям по несчастью:
— В германскую мне уже приходилось ездить в таких вагонах. Правда, тогда размещали по сорок человек, а нас здесь сорок шесть, и поэтому, чтобы не было скандала, я сам распределю места. И прошу не возникать! Справа наверху нары займут батюшка с матушкой. Егор Иванович с сыном и снохой рядом, потом Дарья Пономарёва с детишками и я — всего одиннадцать человек. Внизу Митрофан и Никита Пономарёвы с семьями. Правда, вас семнадцать человек, но почти треть взрослых. Взрослые смогут спать по очереди. Слева наверху спать будет Никифор Дымков со своим семейством, а на нижних нарах Чульнев Григорий со своим. Кому не нравится, пусть привыкает, выбирать не из чего. И прошу, наконец, всем понять, что ремонт вагонов делался не для поездки на соседнюю станцию. Повезут нас далеко, так что заручайтесь дружбой и взаимовыручкой на все время нашего долгого путешествия. Кроме того, вы сами знаете, что все эти дни продукты нам не давали, да и в дальнейшем, судя по всему, нас никто кормить не собирается. Поэтому прошу экономить еду и по мере возможности делиться друг с дружкой. А теперь укладывайтесь на нарах и отдыхайте!
Еще не успели люди расположиться на своих местах, как к вагону подошли два охранника, заглянули вовнутрь, закрыли двери и набросили накладку. В темноте шум утих, люди затаили дыхание, прислушиваясь к звукам за стенками вагона. Когда прошло первое замешательство, всем окончательно стало ясно, что эти массивные двери навсегда отрезали их от дорогого и привычного с детства мира, в каком суждено было родиться, познать радость и горе и откуда их вышвырнули неизвестно за какие грехи. В висках.
— Прощай родная земля, прощай отчий дом! Придется ли кому-нибудь из нас вернуться назад?
Ближе к обеду двери открылись, и охранник сказал, что дети и женщины, кому нужно, могут выйти на улицу. Как только поступила команда, из всех вагонов посыпались бабы, девки и ребятишки. Взрослые тут же сбились в кучки, и повели оживлённый разговор, делясь последними новостями, хотя у всех они были одинаковые. Дети за эти дни отвыкли от весёлых компаний, шутливых игр и близких друзей. Они плохо разбирались в сложившейся обстановке, в своей трагедии, но тоже чувствовали, что обычный уклад жизни безвозвратно утерян и старались держаться поближе к родителям. Для Ванюшки самым близким человеком в вагоне, не считая матери, был дядя Ваня. Он считал его мудрым и умным, ибо все мужики обращались к нему за советом. Рядом с ним он чувствовал себя, как за каменной стеной и был уверен, что дядя всегда сможет защитить и даже справиться со страшными охранниками. А охрана, выпустив из вагонов женщин, отошла на приличное расстояние, дав возможность справить нужду. Через некоторое время женщины и дети вернулись. Около вагонов стало пусто. Потом разрешили выйти мужикам. Они попрыгали на обочину, и у кого была возможность, закурили. Другие угрюмо молчали. Да и о чем было говорить, если за эти дни так никто и не смог понять, что их ждет впереди. Вдруг Хохол встал и, не сказав никому ни слова, пошел к ближайшему охраннику. Подойдя к нему, он поздоровался и спросил:
— Послушай, служивый! Долго ли мы будем здесь стоять? Уже солнышко высоко стоит, а мы ничего не ели. Ребятишки и взрослые голодные. Кормить, как я вижу, нас никто не собирается, вот и хочу узнать, успеем ли мы приготовить себе еду?
— Успеете! Готовьте столько, сколько хотите, поедем мы не скоро. Передай, если ещё не слышали, что можно сходить в хвост состава к колонке за водой, — добродушно ответил молодой охранник.
Хохол поблагодарил его за доброе слово и вернулся назад. Передав мужикам ответ охранника, он посоветовал тут же заняться едой и запасом воды в дорогу, а то придётся в вагоне сидеть не только голодными, но и без воды тоже. Спустя некоторое время, вблизи вагонов то там, то здесь запылали костры из наваленных неподалеку старых шпал и мужики, взяв припасы, принялись готовить незамысловатую еду себе и сидящим в вагонах родственникам. На закате солнца их загнали в вагоны, двери закрыли, и над тупиком стихло. Вечерний свет с трудом пробивался через зарешёченные вагонные люки, лениво разгоняя темноту. Люди укладывались спать, а в это время в голову лезли одни безрадостные мысли. Вспоминали войну, тиф, голод, продотряды. Но это было Божьей карой за людские грехи, которая постигла всех без исключения. А вот за что именно их, да ещё в мирное время, лишили всего, что было нажито каторжным трудом, лишили свободы и теперь, словно скот, загнали в вагоны, внятного объяснения для себя не находили. К тому же скот при перевозке поят и кормят, а тут сотни детей, больных стариков, крепких и работящих мужиков и баб взяли и обрекли на голодную смерть. Выходит, что их и за скотину не считают. Так думали люди, заточенные в эти деревянные коробки на чугунных колесах. С наступившими сумерками вдруг раздался длинный, душераздирающий гудок паровоза, словно посылая последний привет родным местам, лязгнули буфера вагонов, и поезд плавно тронулся, набирая ход. И тут в ответ паровозу заголосила сноха Никифора Настя, её завывание подхватили ещё несколько баб, к ним присоединились ребятишки, и вскоре весь вагон в едином порыве выл от безысходного горя и невыносимой тоски. Поезд, между тем, набирал скорость. Колеса весело перестукивали на стыках рельс, выговаривая: «Так и вам и надо, так и вам и надо!» Эшелон с ходу проскочил станции Воронеж-Курский, Воронеж-Пассажирский, Сомово и втянулся в зеленый коридор соснового леса, обступавшего с двух сторон железное полотно. Под мирный перестук колес и покачивание вагона, люди, сморенные тревогами и переживаниями, постепенно засыпали, забывшись в тревожном сне. Не спалось только Хохлу, который сквозь решётку бокового люка внимательно всматривался в темноту ночи. Но вот лес расступился, и навстречу выплыли огоньки довольно большой станции. На фронтоне промелькнувшего вокзала явно проступили буквы «Графская». Хохол понял, что их везут на север, и вскоре тоже уснул.
Поезд без остановок шел всю ночь и остановился только утром. Через некоторое время за стеной вагона послышались голоса, и двери со скрежетом открылись. Солнышко стояло довольно высоко, и его лучи ласково пригревали всё вокруг, наполняя воздух ароматами пробуждающейся земли. Если бы к этому не примешивался приторный запах мазута, железа и угарного газа от паровоза, да не маячили охранники с винтовками, стоявшие на значительном расстоянии от эшелона, то можно было бы сравнить это утро с утром уже далёкого, но такого милого сердцу села. Поезд стоял на втором пути небольшого полустанка. По одну сторону состава, за редкими акациями лесополосы, раскинулся зеленеющий пригорок. На противоположной стороне расположилось здание приземистого, обшарпанного снаружи, вокзала. Неподалеку от него стоял маленький домик с белыми занавесками на окнах, очевидно жилище служащих полустанка, и багажный сарай. На горизонте белели хатки какой-то деревни. Как и накануне, женщинам и детям разрешили первым выйти из вагонов. Они тут же воспользовались этим и запрудили весь косогор вдоль эшелона. Управившись со своими делами, женщины стали собирать проклюнувшиеся из земли поросли молодой крапивы и щавеля. Загнав женщин назад в вагоны, охранники выпустили мужиков, которые в придорожной лесополосе стали заготавливать ветки, сходили за водой в колодец около вокзала. Спустя некоторое время вдоль вагонов задымились костры, и люди, под присмотром конвоиров, стали готовить себе еду. Пока Хохол колдовал над ведром с жиденькой пшенной кашей, к нему подсел Чульнев, за все это время не проронивший и двух слов, спросил:
— Скажи, Иван Иванович, почему нас остановили здесь? Может быть, тут и переселят? Как думаешь?
— Ты, Григорий, вроде не дурак, а рассуждаешь как малое дитя. Ты, думаешь, что раскулачили только нас? Вон видишь вдалеке деревню, так знай, что в ней тоже потрясли мужиков, а теперь везут родимых впереди нас, а если еще нет, то повезут следом. А по-твоему выходит, что их выселят, а нас на их место поселят? То есть поменяют шило на мыло? Нет, милый мой, трясут всю Россию. Недавно мне рассказывали, что в казачьих краях выселяли сразу целыми селами, поголовно. Не думай, что мы самые разнесчастные. Несчастными будут и те, кто остался дома. Еще только весна и что же? Мельницу полой водой снесло, скотины и половины не осталось, а если бы мельница и осталась в целости, то на ней нечего молоть будет. Землю отобрали, а засеяли только на треть. Так что, Григорий, выбрось из головы фантазии и думай как выжить, ибо нам предстоит путь длинный и очень тяжелый. У вас есть хоть какие-нибудь продукты?
Григорий не ответил, молча поднялся и пошел к своим, свесив голову на грудь.
Ванюшка с сестрами с жадностью и надеждой смотрели из вагона на булькающее в ведре варево, которое готовили им дядя Ваня. Не бог весть, какая была эта еда, но и ту ждали с нетерпением, так как мучительно чувствовали голод, который не отпускал, ни на минуту, ни днем, ни ночью. Хохол знал, что его попутчики голодают, но постоянно твердил об экономии продуктов. В жидкий кулеш он положил несколько маленьких кусочков сала. Дарья ребятишкам намазала тонким слоем топленого масла по куску черствой лепешки. Хотя этого было мало, но все понимали, что таким образом можно какое — то время продержаться. Дети голодали, обвиняли в этом дядю Ивана, и только много лет спустя убедились в том, что он был прав, прижимая еду.
Который день подряд, поезд, под перестук колес, все дальше уносил людей от родных мест. Они уже привыкли к установленному порядку. Ночью, в закрытых вагонах, их везли, а днем загоняли в тупик на каком-нибудь пустынном полустанке и давали возможность перевести дух. На ночь в вагоне обычно укладывались и молчали, но чувствовалось, что спят не все. Ворочались, охали, вздыхали на жестком ложе. Очевидно каждый, в одиночку переживал свое горе. Но вскоре всему этому пришёл конец. Появились больные, маявшиеся зубами, животами, головной болью. У Насти Дымковой пропало молоко, и её ребенок от голода кричал не переставая. Иван посоветовал дать ему кусок хлеба, который размочил в воде, завернув в тряпочку, но мальчик такую соску в рот не взял и продолжал надрываться от крика до тех пор, пока не охрип и стал синеть. На другой день он умер. У матери, обезумевшей от бессонницы и голода, не нашлось сил даже оплакать своего ребёнка, и она бессмысленно смотрела на его худенькое тельце, почти прозрачное и воздушное. Чульниха обтерла трупик влажной тряпочкой и завернула в лоскутное одеяльце. Отец Василий прочитал над ним молитвы, и Фёдор вынес мертвого сына из вагона. Григорий Чульнев вырыл на обочине могилку, уложил в неё мертвого ребенка и забросал его землей. Вокруг не было ни куста, ни деревца. И осталось сиротская могилка без креста и надгробья. Что ждало впереди других?
На второй день после смерти внука слегла Акулина Дымкова. Жалея внучат и детей, она почти ничего не ела, таяла на глазах и безропотно шла к своему концу. Как жила она молчаливой и покорной, так и умерла — тихо и незаметно. Кинулись только утром, когда поезд стоял на очередном разъезде, а Дымковы собрались завтракать. Вся большая семья очень любили бабушку, и её смерть повергла всех в шок. Сначала заголосили снохи и внуки, следом присоединились и дети. Женщины, рыдая, столпились возле нар, где лежало высохшее тело их подруги по несчастью. Оплакивали они не только бренные останки усопшей, но и свою горькую судьбу, которая уготовила им страдания и могилу в чужой, неизвестной стороне. Чульниха прикрикнула на баб и заставила их умолкнуть. Потом они обтёрли тело Акулины мокрой тряпкой, завернули её в какое-то тряпьё, и заставили мужиков вынести труп на улицу. Над неглубокой ямой, вырытой с помощью топора и обломка доски, батюшка Василий прочитал молитву, и могилку засыпали. Никифор срубил березку, соорудил крест и воткнул его в мягкую землю могильного бугорка. В это время с косогора спустился охранник, вытащил самодельный крест из могилы, сломал его и забросил в кусты, объяснив, что приказано не оставлять после себя следов. В тот же день, когда похоронили Акулину, в поезде умерло еще одиннадцать человек.
Через три дня, после похорон Акулины, умер Митрофан Пономарёв и его мать Матрёна, оставив на голодную смерть десять ртов. В тот же день из других вагонов вынесли и похоронили еще двенадцать умерших. Егор Иванович, после смерти брата, стал понемногу прикармливать оставшихся девчонок и сына. Но у дяди тоже не было продуктовых кладовых.
После очередного печального обряда мужики, присев на бровку кювета, курили и размышляли о своей судьбе.
— Мне вот ночью не спится, в голову лезет всякая чертовщина, — нарушил молчание Никифор Дымков.
— Ну и что же тебе лезет? — спросил Чульнев.
— Думаю, что не должны нас морить голодом. Я сюда что? Шел по своей воле? Меня забрали насильно, загнали в скотский вагон, везут на край света, а раз это так, то будьте добры, хоть кормите меня. Не знаю как вы, но я не верю, что нас обрекли на голодную смерть. Если это так, то зачем нас куда-то везут? Не лучше и дешевле было бы запереть нас в церкви и дождаться, когда мы все передохнем. А, может быть, наши охранники припрятали хлебушек, который должны раздавать нам? Кто их проверит, кто учтет, куда он делся?
— Слушай, Никифор, не спиться не только тебе, — как бы рассуждая сам с собой, произнес Хохол. — Я тоже думаю и ничего хорошего не придумал, но сделал кое-какие расчеты. Вы знаете, сколько людей едет в нашем поезде? Не знаете? Так я вам скажу: одна тысяча триста шестьдесят душ по списку. Мы едем третью неделю. Если бы нам на одного человека выдали по фунту хлеба, то за это время мы бы съели пять тонн. А если мы проедем еще две — три недели, то потребуется в два раза больше. Выходит, что для хлеба нужен отдельный вагон, которого нет. Все вагоны заняты людьми. Кроме того, ночью нас везут, не открывая на остановках, а днем загоняют в такие дыры, где не только хлеба, но зачастую и воды негде взять. Может быть я не прав, но думаю, что всё это делается неспроста. Начальство прекрасно знает, что мы голодаем. Выходит, им наплевать на то, сколько людей доберётся до места. Главное состоит в том, чтобы убрать нас поскорей с глаз подальше, а подохнем мы с голоду сейчас или замёрзнем на севере потом — все равно. И ещё. Нас везут не отдыхать, а ишачить на самых тяжёлых работах. Для этого требуется мужская сила и чем больше по дороге передохнет стариков, женщин и маленьких детишек, тем лучше.
— Так что? — вскочил на ноги крепкий, как орешек, Мишка Дымков. — Может отнять у охраны ружья, запереть ее в вагоне и разбежаться?
— И куда же ты побежишь? — усмехнулся в ответ Хохол. — Ну, один ты можешь сбежать, да и то едва ли. Денег у тебя нет, а если и есть, то куда ты денешься без документов. А куда ты денешь стариков, старух, баб, детишек? Нет, Мишка, терпи до конца, а там видно будет. Лучше думай, как не умереть с голоду.
Как ни думали мужики, а люди не переставали умирать. Для всех полной неожиданностью стала смерть Григория Чульнева. Он не жаловался на здоровье, не болел и вдруг угас. Умерла его внучка двенадцатилетняя Таня. Следом, на второй день, дочка Полина. Сначала детишки маялись животами, потом открылся кровавый понос и рвота. Они не слазили с ведра, которое для нужды поставили у двери, но никто и ничем не смог им помочь. Власти, загнав сотни людей в вагоны, не собирались их ни кормить, ни оказывать врачебную помощь. Да пошли хоть дюжину врачей, результат был бы один, так как люди, обезумевшие от голода, ели подряд все, что росло вдоль железной дороги. Правда, после трех смертей, последовавших друг за другом, матушка посоветовала Хохлу, чтобы он запретил всем пить сырую воду и потреблять траву и ветки без варки. С этого момента в вагоне постоянно стояло ведро с кипяченой водой.
Кому-то в голову пришла мысль, и с помощью нехитрого приспособления из трех кусочков проволоки, мужики стали ловить сусликов. На них, на каждой стоянке, ребята и взрослые устраивали настоящую охоту. Нежное мясо сусликов стало серьезным источником поддержки силы удачливых охотников и пополнения их скудного рациона питания. Без всякого преувеличения можно утверждать, что эти незаметные грызуны в то время спасли жизнь не одному голодному человеку. Но большинство людей были не в силах ловить сусликов и умирали от голода. Они не бились в агонии, не стонали, не жаловались, а молча угасали, как догоревшие свечи и, оставшиеся в живых, в скорбном молчании провожали их в последний путь, дожидаясь своей очереди. Больше не было слышно надрывного плача над покойниками, не было душераздирающих сцен. Отец Василий на своих старческих ногах ежедневно обходил вагоны, отпевая покойников, иногда принося матушке скудные подаяния.
К похоронам привыкли и считали их в порядке вещей, но подкралась другая беда, которую не ждали. Вечером, когда тронулся поезд, в вагоне не досчитались двух девок умершего Митрофана Пономарёва: Машу, по прозвищу Галда, и Нюрку. Они были погодками: Маше исполнилось восемнадцать, Нюрке семнадцать. Пропажа сестёр встревожила весь вагон. Фекла, оставшись одна во главе большого семейства, не так сокрушалась в связи со смертью мужа и свекрови, как с пропажей дочек. А между тем пошли догадки, разговоры, домыслы. Одни говорили, что они пошли к своим подругам в другой вагон, да там и остались на ночь, что часто случалось в свое время дома. Другие предполагали, что они просто зазевались и отстали от поезда. Некоторые выдвигали более серьезные предположения, говоря, что они просто сбежали из-под охраны и решили вернуться домой. Долго думали и гадали о странном исчезновении, но все прояснилось утром, когда поезд остановился на очередном, пустынном полустанке. Первыми сестёр увидели женщины, высыпавшие из вагона. Сестры шли рядом, пошатываясь, с трудом передвигая ноги. Волосы у них были растрепаны и спускались клоками на плечи, глаза затуманены и если бы не женщины, то едва ли они самостоятельно влезли в вагон. Кроме того, им мешали какие-то свёртки из газет, прижатые к груди. Они были совершенно пьяными и на вопрос: » Где были и, что случилось?»- бормотали что-то невразумительное. Едва взобравшись в вагон, девчонки улеглись на нары и тут же уснули.
Проснулись девчата только к вечеру и явно чувствовали себя не в своей тарелке. Они сидели на нарах растрепанные, с опухшими лицами и синевой под глазами. К ним подошла мать и, отвесив каждой по увесистой оплеухе, отвернулась и заплакала.
— Если бы отец был жив, он вновь умер бы от такого стыда, — приговаривала сквозь слезы Фёкла.
— А ты, матушка, хотела, чтобы и мы сдохли? — ответила Маша. — Тебе мало того, что с голоду умер отец и бабушка. Вы с батей, сообразили настрогать восемь девок, но не сообразили, как кормить нас в дороге. Люди старались запастись продуктами и ходили по дворам в Подклетном. Вы же сами стеснялись ходить с протянутой рукой и нас не пускали. Мы жить хотим, мы молодые. Ты нас не упрекай, а лучше придумай, как нам выжить!
Машка Галда, обвиняя родителей во всех бедах, конечно, оправдывалась и не понимала, что трагедия семьи от них не зависела. Другие семьи испытывали такую же нужду, но никто из детей до сих пор не обвинил родителей в своей несчастной доле. И все же после случая в семье Пономарёвых, многие с ужасом стали ожидать таких же поступков и от своих детей. И только подружки Галды и Нюрки, не поняв в чем суть дела, с нетерпением допытывались у них, что же случилось. Вскоре сестры рассказали свою историю. Оказалось, что они пошли вечером вдоль вагонов посмотреть на людей, и может быть встретить знакомых. Когда дошли до зеленого вагона, их окликнул охранник, стоявший на его подножках, и приказал подняться в вагон. Полумертвые от страха, сестры поднялись по порожкам и оказались в светлом помещении с множеством полок и маленьких столбиков возле окон. В первый момент показалось, что вагон был пустым, так как кроме охранника они никого не встретили, но не успел провожающий усадить их на сиденье перед столиком, как появились другие охранники, радостно приветствуя молоденьких девочек. Вскоре на столе появилась закуска из давно забытых сестрами продуктов, которыми их стали настойчиво угощать. С перепугу и стеснения, они сначала отказывались от еды, но приветливые улыбки молодых ребят, настойчивые уговоры, соблазнительный вид продуктов, а в придачу и многодневный пост заставили сестер отбросить стыд и страх. Охранники предложили выпить за дружбу и они, чтобы не обидеть добрых людей, с трудом проглотили обжигающую горло и желудок влагу. Хорошая закуска заглушила неприятный вкус, по телу разбежалась теплота и приятно закружилась голова. Сколько они выпили еще и что было дальше, девчата не помнили или не захотели рассказывать.
Фёкла, как могла, старалась забыть про случившееся, но через два дня, утром, пришел охранник и снова увел сестер Пономарёвых в свой вагон.
Чем дальше поезд продвигался на север, тем становилось холоднее. Повсеместно еще лежал снег, деревья стояли голыми, трава только пробивалась на небольших плешинах земли, свободной от снега. Теперь поезд шел не только ночью, но и днем. Крупные населенные пункты встречались всё реже и реже. Железнодорожные станции, в основном, были деревянными. Из вагонов люди выходили только по нужде и спешили скорее вернуться назад, под защиту деревянных коробок. Подножный корм кончился, суслики не появлялись и люди молили Бога, чтобы скорее кончилась дорога. Однажды утром поезд подошел к довольно большому городу. Первому, который люди увидели с момента отъезда из Воронежа. Это была Вологда. Вскоре открылись двери вагонов и охранники объяснили, что женщины могут сходить на пристанционный базарчик и, если есть деньги, купить кое-что из продуктов. В первый момент люди не поверили, а некоторые сначала даже не поняли, что им предлагают. Но охрана предупредила, что поезд будет стоять здесь часа полтора, а поэтому женщины пусть поторопятся, так как ждать их никто не будет.
После этого женщины зашевелились. У кого были деньги, стали доставать их из различных заначек, а у кого их не было, начали перебирать свои тряпки, надеясь на них выменять продукты. В ход пошли штаны, юбки, кофты, шали. Пошла на базар и Дарья Пономарёва. Матушка не пошла — у неё не было ни денег, ни тряпок. Из драгоценностей остался только нательный крестик, подарок матери, с которым она не могла расстаться. Остальное, начиная с обручальных колец, цепочек и перстеньков, было отобрано при раскулачивании.
Когда женщины ушли, Иван Иванович закурил свою трубку и встал у двери. Спустя некоторое время к нему присоединилась и матушка.
— Вот смотрю, Иван Иванович, на этот вокзал и вспоминаю свою молодость. Как это было далеко и вроде недавно!
— Вам, матушка, знакома Вологда?
— Как же не знакома, если мы с батюшкой бывали тут неоднократно. Люди нашего круга всегда спешили на юг, за границу, на лучшие курорты, а мы, когда поженились, решили съездить в Соловецкий монастырь. Нам тогда очень приглянулась здешняя природа, понравилось местное население, в котором крепостничество не смогло задушить дух свободы и независимости. По своим взглядам и характеру местные жители в корне отличаются от жителей Чернозёмья. Это и привлекало нас с батюшкой. Мы неоднократно приезжали в этот край и исколесили его вдоль и поперёк. Так как же мне не знать эти места!
— А Вологда далеко от Москвы?
— Далеко!
— Тогда почему мы её не видели?
— А мы и не проезжали Москву, а объехали её стороной, совсем другим маршрутом. Нас, очевидно, везли через Рязань, Владимир, Иваново, Кострому. Куда повезут дальше, не знаю!
— Разве здесь много путей?
— Не очень, но есть ответвления. Если поедем налево, то попадем в Архангельск, а там Соловки. Если свернем направо, то попадем в Котлас, центр лесозаготовок.
— Очевидно, это и будет наш приют!
— Я тоже думаю так же, ибо, насколько мне известно, Соловецкий монастырь давно стал тюрьмой и там нами делать нечего. Остров этот голый, работы там нет, а держать такую кучу народа без дела глупо и невыгодно. Нет, нас заставят работать, а работа здесь одна — лесоповал!
В это время к поезду с покупками стали подходить женщины с базара. В основном те, кто купил продукты за деньги. Теперь они спешили накормить свои семьи. За ними потянулись и другие. Одной из первых пришла Дарья Пономарёва. Кроме зелени и картошки, она купила кусок мяса, несколько десятков яиц, но сварить пищу не удалось, так как охрана запретила разводить огонь на путях.
Как и предсказывала матушка, поезд свернул вправо и взял направление на Котлас. Остановившись в Коноше, поезд простоял почти целый день, предоставив людям возможность приготовить еду. Женщины рассказывали, что на базаре в Вологде продукты были дешёвыми, а местные торговки с охотой брали не только деньги, но ещё одежду и другие вещи.
Наконец, через несколько суток, ранним утром, поезд прибыл в Котлас. Он остановился на дальнем от вокзала пути, и охрана стала с грохотом открывать вагонные двери. Тут- же раздалась команда, чтобы люди выходили из вагонов с вещами. На улице было морозно и тихо. Под ногами лежал осевший снег, покрывший довольно крепким настом землю. Люди от мороза оживились и притоптывали ногами, стараясь согреться. От вокзала, через пустые рельсы, быстрым шагом подошло шесть человек. Первые трое в гражданской одежде, задние в военной форме и с винтовками за плечами. Навстречу им вышел начальник эшелона и поздоровался за руку с гражданскими лицами. Переговорив минут пятнадцать с одним из них, одетым в полушубок, начальник эшелона направился на вокзал, а охранники стали осматривать вагоны и закрывать двери. Новые конвоиры отошли в сторону от толпы, не сказав прибывшим людям ни слова.
Прошло не так много времени, как раздался протяжный гудок, и на соседний путь выползла» кукушка», ведя за собой десяток открытых железнодорожных платформ. Поступила команда платформы занять, и пока люди с шумом, гамом и матом грузились на новый вид транспорта, на востоке стала светлеть узкая полоска, рассеивая окружающую тьму. Как только люди расселись по местам, охранники влезли в будку паровоза, машинист дал гудок и состав тронулся с места. Высокие, серебристые ели тесно прижимались к железной дороге, но колючий ветер, поднятый движением поезда, вольно гулял по открытым платформам, пронизывая насквозь плохо одетых людей. На многих были надеты только пиджаки из домотканого сукна, да холодные сапоги и поэтому для защиты от ветра в ход пошли дерюжки, мешки, шали и всевозможное тряпье. Полушубки и валенки нашлись только у очень запасливых. На полпути между Котласом и Яренгой, где река Вычегда почти вплотную приблизилась к железной дороге, начальник конвоя остановил состав и приказал разгружаться. Пассажиры спустились на землю, паровоз дал гудок и покатил дальше, а оставшиеся на рельсах люди, едва стоявшие от холода на ногах, терпеливо ждали своей участи. Даже он, одетый в добротный полушубок и белые катанки, понял, что если таким образом проехать еще верст пятьдесят, то вместо людей он привезёт одни замершие трупы. Начальник подозвал к себе несколько мужиков и приказал им протаптывать дорогу по льду реки на другой берег. Он сам возглавил эту группу, а за ними потянулись и остальные. Невозможно было представить себе печальней картины, как полузастывшие, голодные, обессиленные люди вели по сугробам за замёрзшие ручки своих маленьких детишек, а некоторые несли совсем ещё маленьких на руках, прижимая их к своей груди. Оторванные от дома, от родных мест, заброшенные на край света, брели несчастные «мироеды» не зная куда, и зачем. И только то, что начальник заставил замерзших людей двигаться пешком, было единственным верным решением в этой ситуации, чтобы сохранить жизнь людям, отданным под его власть. Вскоре из-за туч появилось яркое солнце и на правом берегу стало немного пригревать. Люди приободрились, в глаза уже не бросалась явная усталость, да и дорога вдоль берега реки оказалась освобождённой от снега, была твёрдой и не мешала ходьбе. Через версту колонне разрешили остановиться и отдохнуть. Мужики наломали ельника, развели костры. Дав людям отдохнуть, начальник поднял их и, шагая впереди колонны, повёл своих подопечных на известное только одному ему место. Через час они вышли на довольно обширную поляну, ограниченную с одной стороны обрывом к реке, а с другой стороны высокими, вековыми елями. На поляне, ближе к лесу, в полукруг стояли три шалаша с чёрным кострищем перед ними. Начальник остановил толпу, вышел с подчинёнными на середину и, обратившись к людям, сказал довольно громким голосом:
— На этом месте будет ваше жительство. Как мы будем здесь жить и работать поговорим завтра, а сегодня все устали и не до разговоров. Ночи сейчас очень холодные, а поэтому нужно быть готовыми к ночёвке. Кто хочет, пусть начинает строить шалаши, другие могут всю ночь жечь костры, добро, что дров здесь хватает. А завтра шалаши начинать строить всем. В них вам придется жить до тех пор, пока мы не построим бараки с печками. В дальнейшем, кто желает, пусть строит себе отдельные дома. А теперь прошу разойтись! Спокойной ночи!
До самой темноты основным занятием для всех стало разведение костров и заготовка дров. Никто за всю ночь не сомкнул глаз. Наутро, когда мужики группами обсуждали что же теперь делать, к ним вышел начальник с двумя провожатыми, попросил внимания и сказал:
— Я уже говорил, что мы находимся на том месте, где впоследствии вы срубите себе дома и создадите село, а может быть и город. А пока будете жить лагерем, все вместе. Меня зовут Исайя Соломонович, фамилия моя Либер, по должности я комендант лагеря. Отныне вы не раскулаченные, не ссыльные, не арестованные, а переселенцы. Вас никто не будет караулить, вы люди свободные!
— Тогда скажи, начальник, если мы свободные, то почему здесь находятся красноармейцы с винтовками? — вдруг раздался чей-то голос из толпы.
— Вопрос интересный! Они здесь затем, чтобы не караулить вас, а охранять. Дело в том, что в этих местах водятся медведи, волки, дикие кабаны и даже рыси. А поэтому в ночь, на помощь бойцам, вам придется выделять по нескольку мужиков для охраны лагеря. Кроме того, прошу в одиночку в лес никому не ходить. Об этом предупреждаю всех, особенно женщин и детей. Теперь я представлю вам своих товарищей. Это вот Борис Абрамович Лохман. Он врач и будет вас лечить. Кроме того, он на первых порах будет распоряжаться продуктовым пайком. Прошу, Борис Абрамович! Представьтесь людям!
Из-за спины начальника лагеря вышел и встал с ним рядом довольно высокий и худощавый человек с рыжей клиновидной бородой и такими же рыжими усами. Говорил он ровным глуховатым голосом, уставившись своими выпуклыми глазами в одну точку:
— Товарищи! Я обязан лечить ваши недуги, но будет лучше, если бы вы не болели вовсе. Но это сказано к слову. Вся правда в том, что вам придется жить в другом климатическом поясе, в других условиях, а поэтому нужно приспосабливаться. Вас будут поджидать разные неприятности, начиная от простуды, воспаления легких и заканчивая цингой. Цинга — это такая болезнь, когда будут шататься, выпадать зубы, кровоточить десны и пухнуть лицо. Всё может закончиться смертью. Но этого можно избежать, если бы у вас был чеснок, лук и картофель, но поскольку всего этого нет, то придется пользоваться местными средствами. Самым простым средством от цинги является хвойный отвар, можно также рвать шишки, молодые побеги и просто жевать их, причем глотать не обязательно. Но, ни в коем случае не пейте сырой воды. Вот и все, что я хотел вам сказать. Будьте здоровы!
Выступив перед людьми, Борис Абрамович повернулся к коменданту лагеря, что-то сказал ему и они пошли к своим шалашам. На их место вышел третий человек. В отличие от врача он был среднего роста и крепкого телосложения. Голос был хриплым, как у сильно простуженного человека. Он откашлялся и проговорил:
— Меня зовут Владимиром Степановичем, фамилия моя Прохоров. По должности я прораб, то есть распределитель работ. Одним словом, я ваш непосредственный начальник и все вопросы, которые будут возникать у вас, прошу решать со мной. Вас привезли сюда для работы, и ваша задача состоит в том, чтобы валить лес и снабжать им строительство Беломорканала. Работа это тяжелая и неблагодарная. Мужчины обязаны будут ежедневно заготавливать шесть кубометров древесины, для женщин норма в два раза меньше. Подростки будут собирать ветки, и сжигать их. Кроме того, пока нам не прислали лошадей, бревна таскать на берег будем вручную. Когда река вскроется ото льда, мы должны быть готовы к сплаву леса. Хочу напомнить, что продовольственные пайки будут получать только те, кто работает на лесоповале. Кто перевыполнит норму, к пайку получит прибавку, если же кто не справиться с нормой, то и паёк получит соответственный. Кроме того, что нам предстоит валить лес, нужно построить несколько бараков, где вам придется жить зимой, которая бывает здесь жестокой и довольно снежной. Кроме бараков необходимо построить жильё для руководства и склад, а так же конюшню для лошадей. Но это будет завтра, а сегодня вы займитесь другими делами. Вы понимаете, что постройка бараков и других служб потребует какого-то времени, а вам нужно жить сегодня, поэтому разойдитесь по своим семьям и начинайте строить шалаши. Делать их нужно основательно, ибо в них вам придется жить до самой осени. Хочу предупредить, что кроме зверья здесь водится и другая тварь — мошка. Если зверя можно убить, испугать, натравить на него собак, то на эту нечисть нет никакой другой управы, кроме огня и густого дыма. Имейте в виду! Еще попрошу вас завтра утром опять собраться здесь со всем имеющимся в наличии инструментом.
Наутро люди вновь собрались на том же месте, где вчера слушали выступления своих начальников. Мороз спал, потянуло оттепелью. На этот раз к ним пришел только прораб. Владимир Степанович поздоровался с людьми, окинул взглядом толпу, и по выражению его лица стало заметно, что он остался недовольным. Да и чему было радоваться, если стоящий перед ним народ, внешне представлял собой кучу человеческих отбросов. Женщины, закутанные в тряпье, еще как — то походили на женщин, но мужчины являли собой тоскливое зрелище. Многие из них были одеты в женскую одежду, с накинутыми на плечи мешками, с ногами замотанными в тряпье, с осунувшимися и обросшими щетиной лицами. Все они, скорее напоминали не живых людей, а выходцев с того света, пришедших предъявить претензии живущим на земле. Прораб осмотрел это сборище убогих и, указав пальцем на Хохла, подозвал его к себе. Очевидно, он выделил его потому, что тот был единственным мужиком, одетым по сезону. На нем был добротный суконный пиджак на теплой подкладке, мерлушковая шапка, а на ногах красовались яловые сапоги.
— Назови свою фамилию, имя и отчество! — попросил его прораб.
— Зовут меня Лавлинским Иваном Ивановичем!
— Вот что, Иван Иванович, я назначаю тебя старшим по строительству бараков, то есть своим помощником. Стройматериал растет перед тобой. Размеры построек, а так же место, где будем их ставить, я вам укажу. Пока земля еще не оттаяла, срубы будем рубить на любом ровном месте поближе к лесу, чтобы не таскать бревна слишком далеко. Вот и все, что я хотел сказать. Есть ко мне вопросы?
— У меня к вам, Владимир Степанович, есть не только вопросы, но и требования, — ровным голосом ответил Хохол. — И коль уж вы меня назначили старшим, то прошу их выполнить!
— Вот как? — вскинул черные, мохнатые брови прораб.
— Вот так! — в тон ему ответил Хохол. — Вчера вы говорили, что мужчины должны заготавливать в день шесть кубометров древесины, а женщины в два раза меньше. Эти нормы установили не вы, а вышестоящее начальство и они не слезут с вас до тех пор, пока не добьются своего. Но чтобы выполнить такую норму, нужны условия. Вы же строитель, как я понимаю, и знаете, что без хорошего инструмента никакой нормы мы не выполним, да ничего и не построим. Мы получим уменьшенную пайку, вы же получите повышенный нагоняй. Чтобы не было между нами недоразумений, прошу вас сделать следующее.
Прораб слушал, а Хохол продолжал:
— Насколько я понял, у вас сейчас никакого инструмента нет, а у нас всего десять топоров и пять пил, да и те точить надо. А ведь для постройки жилья, кроме бревен, нужны двери, окна и полы, всевозможная мебель, нары. Значит, нужны доски и столярный инструмент. Для распиловки бревен на доски понадобятся продольные пилы, которых нет, а для точки пил и топоров нужны терпуги и точила. Как быть?
— Я с тобой полностью согласен, Иван Иванович, но об этом поговорим отдельно. Всем разойтись, а мы с тобой прогуляемся!
Прораб резко повернулся и упругой походкой направился к лесу. Хохол направился следом. Они шли рядом, и издали казалось, что идут два брата-близнеца. Оба широкоплечие, могучие, по-медвежьи косолапые.
— Скажи мне, Иван Иванович! — Не поворачивая головы, спросил у Хохла прораб. — Ты что, самый богатый мужик был в деревне?
— Откуда вы, Владимир Степанович, взяли это?
— Да потому, что обратил внимание, как к тебе относятся люди, да пожалуй, ты единственный из всех одет и обут довольно сносно.
— Нет, Владимир Степанович, я никогда не был богатым. Да и все остальные богатством не отличались.
— Тогда почему тебя раскулачили?
— Это долгая история!
— Расскажи, если не секрет, спешить нам некуда. Кстати вот и ель поваленная. Давай присядем, покурим, а ты расскажи свою историю!
— Был в нашей деревне умный человек, — повел рассказ Хохол, — Пономарев Сергей Егорович. При НЭПе он собрал несколько работящих мужиков и сказал нам, что пришло время переходить к культурному земледелию. Для этого нужно объединиться и всем вместе приобрести железные плуги и бороны, конные косилки, веялки и другой сельскохозяйственный инвентарь, запастись высокоурожайным посевным фондом, удобрениями. Потребуются, конечно, деньги. Во-первых, говорил он нам, у каждого в запасе найдутся какие-то деньжонки, а во-вторых, возьмем кредит в банке. Как раз в то время начали создаваться всевозможные товарищества, кооперативы и другие объединения, которые хорошо поддерживались правительством, банками и учеными. Мужики долго мялись, но все же поверили и согласились объединиться. В наш кооператив вошло двенадцать семей. Тут еще годы выдались урожайными, да хорошо помогал семенами и консультациями специалистов сельскохозяйственный институт, причем без всякой корысти. В первый год мы собрали по двести пудов с гектара пшеницы, когда крестьяне на соседних полях собирали по 50–60. Если учесть что мы стали сеять и собирать отборное зерно, которое с охотой брали все лабазники, то за три года нам удалось расплатиться с кредитом и с лихвой вернуть все вложенное в кооператив изначально. Крестьяне, видя результат, стали проситься к нам, но Сергей всем отказывал и советовал создавать свои кооперативы. Но, очевидно, не находилось толковых организаторов и дальше разговоров у других дело не шло. И вдруг все изменилось. Началась коллективизация. В один прекрасный день был созван сход жителей, на котором сказали, что отныне вся земля передается колхозу без выкупа и на вечные времена. Крестьянам предложили сдать в колхоз коров, овец, свиней, лошадей, а так же сельскохозяйственный инвентарь. Объявили, что колхозники освобождаются от продовольственного налога, и записали в кулаки всех членов кооператива, то есть нас, а также священника и мельника. Правда, самого Сергея Пономарёва и его брата Никиту в кулаки сразу не записали, так как Сергей имел заслуги перед Советской властью и даже получал от неё пенсию, а Никита был награжден боевым орденом за Перекоп. Несмотря на угрозы ареста и на то, что землю и скот забрал колхоз, сельские мужики не торопились в него записываться, считая, что всё это проделки местной власти и наверху вскоре разберутся, наведут порядок. Так думали и мы. В итоге нас, кулаков, обвинили в срыве сбора продналога и в пропаганде, направленной против коллективизации и колхозов, то есть, против линии партии. И пошло — поехало. Из города прислали рабочих для оказания содействия местной власти. Собрали бедноту и безлошадных на собрание, приняли решение и объявили, что колхоз организован, о чём доложили в Обком партии. Там выделили новоиспеченному колхозу деньги для становления, а записавшимся в колхоз, разрешили выдать по 50 рублей. Так и сделали. Начальство на радостях, что получилось, всю ночь глушили самогон, а наутро обнаружили, что колхозные деньги пропали. Куда они делись, так и не узнали. Потом, чтобы заставить крестьян вступать в колхоз, было решено показать, кто в доме хозяин, и раскулачить наш кооператив. Сказано — сделано! Колхозники, во главе с деревенским начальством, выбросили нас и наши семьи на улицу, разрешив только одеться. Пришлось искать крышу над головой у родственников. Мы даже не могли себе представить, что с нами, русскими людьми, которые защищали страну, кормили её, поступят как с прокажёнными. Сергей и Никита кинулись к большим начальникам. Никита даже добился приема у Калинина. Все обещали разобраться в жалобах, но на обещаниях всё и закончилось. Мало того, пока братья добивались справедливости, их семьи тоже повыгоняли из домов. И только тут до нас дошло, что местная власть не причём. Они никогда, без приказания свыше, не осмелились бы творить произвол. Как только стало теплеть, всех раскулаченных собрали, под конвоем вывезли на станцию, посадили в вагоны и отправили в эти богом забытые места. Вот и сижу перед вами, крестьянин, хлебороб, призванный теперь валить вековые ели, потому что я — кулак!
Владимир Степанович промолчал, поднялся на ноги, крякнул и торопливо направился к лагерю, где началась какая — то возня. Хохол потянулся за ним. Подойдя к поляне, они увидели четырех лошадей, запряженных в груженые мешками сани. Вокруг толпились люди, возбужденно шумели и о чем-то спорили. Владимир Степанович остановился, повернулся к своему попутчику и сказал:
— Вот тебе, Иван Иванович, и первый обоз!
— А что они привезли?
— Не знаю, но скоро узнаем!
Подойдя к толпе Хохол, поинтересовался, что тут за шум. Никита Пономарёв с какой-то злобой ответил:
— Да вот говорят, что привезли продукты, но никто толком не знает, когда их будут раздавать!
— Успокойся, — ответил спокойно Хохол. — Во-первых, никто не знает, сколько привезли продуктов, и каких. Во-вторых, ещё никто точно не знает, сколько людей в лагере. Вот когда всё узнают, тогда и решат, когда и каким образом их делить!
— И сколько же нужно времени, чтобы узнать? — съязвил Никита.
— Думаю, не раньше, чем завтра!
Мужики, слышавшие этот разговор, поняли, что сегодня делить продукты не будут и стали постепенно расходиться. Владимир Степанович облокотился на ближайшие сани, позвал Хохла и подозвал к себе возчика с первых саней. Тот тут же подошел к нему, снял с головы рысью шапку и слегка, без следов явного подобострастия, поклонился ему. Это был человек высокого роста, широкий в плечах, с узкими глазами на круглом лице, заросшим густой черной бородой. На нем была добротная кухлянка, на ногах красовались унты. После поклона он выпрямился перед прорабом и стал ждать дальнейших распоряжений.
— Скажи мне, добрый человек, что вы привезли нам? — ласково спросил Владимир Степанович, с интересом рассматривая стоявшего перед ним великана.
— Привезли мы, почитай, шестьдесят пудов разных продуктов. Здесь сухари, пшено, соль, хлеб и вяленая рыба. Да вы не сомневайтесь, все в целости до грамма, — на довольно чистом русском языке доложил возчик.
— А документы на груз есть?
— Груз весь, а документов не давали. Мы так!
— Хорошо, — успокоил его прораб. — Теперь распрягайте лошадей, покормите их, да и сами отдохните. Груз, считай, ты мне сдал полностью, за что всем большое спасибо. А ты, Иван Иванович, собери мужиков, пусть выгрузят все мешки из саней вон под ту ёлку. А я сейчас пришлю охрану. Когда сделаешь, приходи ко мне в шалаш!
Владимир Степанович лежал в шалаше на толстом слое лапника, заложив руки за голову. При входе Ивана Ивановича он не встал и даже не приподнялся, кивнув головой на приютившийся у входа массивный чурбак. Наконец, не меняя позы, он вздохнул и с какой-то скорбью сказал:
— Устал я, Иван Иванович, жутко устал. Муторно у меня на душе!
— Тебе-то что? — улыбнулся Хохол, посасывая трубку. — Человек ты свободный! Как говориться, вольный сокол, куда хочу, туда и лечу!
— Если бы я мог поменяться с тобой местами, я бы был, наверное, самым счастливым человеком на свете. Выписал бы сюда свою жену, детей, построил бы избушку, валил бы лес или охотился!
— А кто тебе не велит?
— Как говориться, рад бы в рай, да грехи не пускают!
— Что-то я тебя не понимаю!
— А тут и понимать нечего. Не свободен я, не волен поступать по своему хотению. Вот над тобой совершили насилие, выгнали из дома и привезли сюда на поезде. Но тебя не судили, не читали приговор, не назвали срок заключения. Тебя просто, без суда и следствия, выслали из деревни. Это называется беззаконием. Но ты имеешь право здесь жить со своей семьей, иметь свой дом, огород, скотину. Я же всего этого лишён. Все дело в том, что я не ссыльный, а заключённый, каторжник. Я ведь, Иван Иванович, учёный. До этого времени работал заместителем директора строительного института в Москве. И вот в одну из ночей все руководство института арестовали. Все были хорошими специалистами, на них держался институт, развивалась наука, а теперь там остались люди с образованием на уровне рабфаков, но зато с пролетарским происхождением. Обвинили нас в троцкизме, в двурушничестве и пособничестве капиталистам. Всех судили, признали виновными и дали каждому свой срок. Мне определили десять лет исправительно-трудовых лагерей и отправили на строительство Беломорканала. И меня, учёного человека, получившего классическое образование, хорошего научного работника, заставили ворочать брёвна по пояс в воде. Вначале я думал, что я один такой, но вскоре убедился, что рядом со мной работали другие инженеры, учёные, поэты, композиторы, музыканты, одним словом, интеллигенция. Похоже, что в промышленности и науке остались одни выскочки и неучи. Ох, и дорого обойдется это России, дорого! Как то раз меня вызвали в лагерную контору и сказали, что условно освобождают от судимости и переводят в разряд вольнонаёмных. Я сначала ничего не понял, но мне на русском языке объяснили, что я теперь не заключённый, а вольнонаёмный, но мне запрещено уезжать из этих мест и вести переписку с родными и знакомыми. В случае нарушения условий, я буду вновь осуждён, но уже на более длительный срок. Потом, по ходу разговора, до меня дошло, что нужен специалист, строитель посёлков для ссыльных людей. Планируется масштабное перемещение людей, вот власть и решила некоторые категории заключенных расконвоировать. Теперь вы здесь и давай, Иван Иванович, за работу. Если нас свела такая судьба, и другая пока не светит, то будем вместе хлебать лихо полной ложкой!
Владимир Степанович поднялся со своего ложа, протёр глаза и стал закуривать. Разжёг свою погасшую трубку и Хохол. Спросил:
— Скажи мне, пожалуйста, кому всё это нужно, для чего это делается?
— Если бы я знал, если бы знал? — задумчиво повторил два раза прораб.
— И всё же я хочу понять? Вот вы сказали, что хороших специалистов у вас в институте арестовали, посадили, заставили работать на каторжных работах, а оставили на вашем месте неучей. Кому это выгодно? Какая польза от этого властям и стране? Вот и в нашем селе такая картина. Самых толковых крестьян раскулачили, а остальных загнали в колхоз. Но люди-то разные. Одни из них хорошо или плохо, но работали, другие же по дворам на работу нанимались, чтобы своего хозяйства не иметь. Работяги стали работать спустя рукава, а бездельники работать совсем перестали, и пошло все через пень-колоду. В этом году колхоз засеял только треть посевного клина. Раскулачили мельника, тот сбежал в неизвестном направлении, но никто не догадался, да и не знал, что полую воду на мельнице нужно спускать. Плотину снесло, и село осталось без мельницы. Кому это выгодно?
— Иван Иванович! Я тоже задавал себе такой же вопрос, и сам до конца не понимаю, почему все так, по — изуверски, делается, что ни в какие разумные рамки не укладывается!
— Но вы, же люди ученые, знаете больше нашего, неужели вы никогда не говорили об этом между собой?
— А с кем было говорить? До ареста об этом никто не думал, а в лагере об этом говорить было страшно, ибо неизвестно, не донесёт ли на тебя твой собеседник начальству!
— А не боишься, что тоже донесу?
— Не боюсь! Да и какой тебе от этого будет навар? Причём, я тоже могу донести на тебя, и мне больше поверят, как-никак я ближе к начальству!
Хохол весело рассмеялся и стал набивать трубку табаком.
— И все же, Владимир Степанович, мне интересно знать, для чего все это делается, зачем?
— Для чего? Думаю, что все упирается в борьбу за власть. Чтобы обладать властью, нужно распоряжаться экономикой. Это и тебе хорошо известно. В любой деревенской семье хозяином является тот, у кого в руках семейные деньги и имущество. Сталин поэтому и стремиться сосредоточить в своих руках всё производство и торговлю, а следовательно, и всю власть в стране. В первую очередь Сталин расправился с НЭПом. Он ликвидировал частные магазины, мастерские, то есть всё, что было при НЭПе в руках частника, и передал в руки партии и государства, а значит в свои руки. Но это сделать было довольно легко. Задушили частника налогами и все частные предприятия сами закрылись. С крестьянами оказалось труднее. Если в городе владения частника передавали в руки его рабочих и служащих, которым все равно на кого работать, то в деревне некому было передавать землю, кроме самих крестьян. Но как заставить крестьян работать не на себя, а на партию? Для этого хитрый азиат на пятнадцатом съезде партии принял решение о коллективизации сельского хозяйства. Создал комиссию, которая и предложила объединить крестьян и землю в колхозы. По сути, создать на селе такое же производство, как и на заводе. Но как заставить крестьян идти в колхозы, если они нутром чуют, что для них готовят ловушку. Единственным выходом из этого положения был террор, устрашение крестьян. В жертву были брошены самые трудолюбивые, знающие себе цену люди, по определению — кулаки. Вот и решили подбить завистливых бездельников отобрать у них хлеб, скотину, имущество, даже одежду, и выгнать в шею из домов. Этим было показано крестьянству, что если партия не посчиталась даже с самыми уважаемыми людьми села, то с остальными она не будет церемониться вообще. А работать и бездельников все равно скоро заставят, можешь не сомневаться. Вот тебя, например, еще только назвали лесорубом, а норму выработки за пайку уже определили. И колхозники будут отдавать даром все, что произведут, вплоть до огурцов и петрушки с огорода. А не сдадут вовремя и сколько нужно — в тюрьму или к стенке. Конечно, не все согласны с такой политикой Сталина. Некоторые партийцы открыто выступают против него, обвиняя в диктаторских замашках, в пагубной для страны политике. А он, тем временем, на все ключевые посты в стране и в партии продвигает своих ставленников, готовясь к борьбе с противниками. И поверь мне, эта борьба окончится для многих плачевно и будет оплачена кровью. Вот моё мнение на затронутые тобой вопросы. Но ты никогда и ни с кем об этом не говори, иначе не сносить тебе головы. И давай закончим эти разговоры, поскольку нам предстоит огромная работа, и никто за нас её делать не будет!
— Ты, Иван Иванович, — продолжил прораб, — по всему видно, не дурак, а поэтому слушай меня внимательно и наматывай себе на ус. Завтра мы с начальником лагеря на этих лошадях поедем в Котлас. Я мог бы поехать и один, но без него там ничего не выбьешь. Здесь в начальниках ходят в основном евреи, особенно в отделе снабжения, а еврей еврея видит издалека. Поэтому ты здесь остаешься главным. Доктора в расчет не бери. Хотя он и врач, но пьет по — чёрному. Одним словом, законченный алкоголик. Начальник лагеря, чтобы удержать его от спиртного, постоянно навязывает ему игру в шахматы. Наверное, они и сейчас сражаются в шахматы у доктора. Пробудем мы там не менее недели, так как дорога туда не близкая, да и товар нам придется добывать нелегко. Ты столько мне наговорил, столько потребовал. Когда мы уедем, составишь списки людей по семьям, начиная с грудных младенцев и заканчивая стариками. Учтешь количество продуктов и распределишь их по едокам. Хоть начальник лагеря и назначил доктора распределителем продуктов, но он будет пьяным в стельку и даже двум свиньям корм не разделит!
— А где он здесь вино берет? Магазинов ведь здесь нет?
— Да он пьет не вино, а глушит спирт. Когда мы ждали ваш эшелон, то нам пришлось взять на первое время немного продуктов, пока нам их подвезут. Мы набрали консервов, колбасы, хлеба и еще кое-что, а доктор нагрузился спиртом. Нужно сказать, что в здешних лазаретах нет никаких лекарств, все болезни местные лечат спиртом, благо его здесь навалом, и ему, как доктору, в этом отказу не было. Теперь он дорвался, и пьет один спирт, ничем не закусывая, да хлебает воду из проруби, которую приносят ему охранники!
— А что начальник лагеря?
— Да ничего! Он у нас, как английская королева — царствует, но не правит. Избрал тактику невмешательства в наши дела, ни в чем не хочет разбираться и рад, что ему тоже никто не мешает. Человек он неглупый, хитрый и в случае провала со всей этой затеи с переселенцами свалит все неудачи на меня!
— Ну и дела! — хмыкнул Хохол.
— А теперь ближе к делу. Пока мы будем в отъезде ты должен срубить помещение конторы лагеря. В ней должно быть четыре комнаты и коридор. За глухой стеной прирубите пристройку для склада. С руб поставить тут же, позади наших шалашей. Углы установите на лежаки, а когда земля оттает, то мы подведем под стены стояки.
Прораб откуда-то вытащил брезентовую сумку, повозился в ней, достал плотный лист ватмана и, прищурившись, протянул Хохлу, словно оценивая его умение разбираться в строительной документации.
— Вот тебе, Иван Иванович, план дома, где указаны его размеры и строительный материал. Ты сможешь разобраться в этом чертеже?
Хохол взял лист бумаги, поднялся и вышел из шалаша. Он долго рассматривал его, потом вернулся, опять сел на свое место и спокойно ответил:
— А чего тут хитрого, все понятно, разберусь!
— Вот и хорошо. Давай договоримся, что я буду осуществлять общие задачи, указывать тебе, что и где делать, а вот руководить людьми, назначать их на работы, говорить, кому и чего делать, будешь ты. По всем вопросам своего цикла работ и другим затруднениям будешь обращаться ко мне.
— Это мне понятно, но могу ли и я подсказывать, если возникнет такая необходимость?
— А почему бы и нет? Говорят, что ум хорошо, а два лучше. Кроме того, я верю тебе, надеюсь на тебя, да к тому же ты лучше меня знаешь, кто и на что из людей способен.
— Тогда разреши мне задать еще один вопрос?
— Давай!
— Будут ли у нас лошади?
— Обязательно. Вот эти четыре лошади уже переданы нам, а может быть, и еще выбьем. Завтра мы поедем на этих лошадях, на них же и вернемся назад.
— Тогда вы возьмите с собой Никифора Дымкова с сыновьями, которые будут и конюхами и возчиками. Не вам же, начальникам лагеря, по пути назад ухаживать за лошадьми. Кроме того возьмите с собой Егора Ивановича Пономарёва. Он не только прекрасный плотник, но еще столяр — краснодеревщик, каретник и шорник. Уж лучше его никто не знает, какой нам нужен инструмент. Только прошу, доверьтесь полностью ему. Знайте, что мастеровые не любят, когда им указывают!
— Хорошо, я с тобой согласен. А теперь иди по своим делам, я немного посплю!
Иван Иванович, не заходя к себе, направился к Егору Ивановичу. Тот сидел на корточках у входа в построенный шалаш и подбрасывал веточки в костер, над которым висел котелок с водой. Его сноха Дуняша внутри что-то готовила для варки. Сын Яшка и внучка Варька возились внутри шалаша, слышался смех девочки и ворчание отца. Иван Иванович поздоровался с хозяином, присел около костра и сказал:
— Ты, Егор Иванович, завтра утром поедешь в Котлас за инструментом вместе с прорабом. Отберёшь все что нужно: топоры, пилы, и весь нужный столярный инструмент для вязки рам, дверей и разной утвари. Не забудь прихватить терпуги для точки пил и точило для топоров. Выбей там продольные пилы для роспуска бревен на доски, хотя бы две-три штуки. Проси больше, а там, сколько дадут. Да что тебя учить? А будет время, походи по городу, поговори с людьми, узнай, что делается на свете. Если можно будет, то купи разных газет и не забудь купить несколько фунтов махорки. Завтра я приду проводить!
Потом Иван Иванович заглянул к Дымковым. В шалаше вокруг закопченного ведра сидели женщины и дети, хлебая из него деревянными ложками жидкую похлебку, сваренную из горсти муки. Мужики стояли на улице и о чем-то тихо разговаривали, Хохол пожал им руки и, обратившись к Никифору, сказал:
— Ты, Никифор, видел лошадей, которые пришли сегодня?
— Ага!
— Отныне эти лошади передаются нам для работ. Ты и твои ребята назначаются конюхами. Вы будете не только работать на них, но и ухаживать за ними, кормить, поить, заготавливать им корм. Завтра утром начальство выезжает в Котлас, поедешь с ними и ты Никифор со своими ребятами. По дороге присмотритесь к лошадям, нет ли у них какого дефекта или каких болезней. Если что найдете, то попросите прораба заменить. Таким образом, примете лошадей и на них вернетесь назад!
Наутро Иван Иванович вышел на пятачок рано. Но там уже были Дымковы, Егор Иванович, несколько мужиков и ребятишек. Хохол поздоровался и отозвал в сторону Егора Ивановича. Подал ему два мешка и сказал:
— Выбери свободное время, а оно у тебя будет, сходи на базар и купи мешок картошки и мешок лука. На вот тебе деньги и сунул ему в руку.
— Да ты чего вздумал, какие-то деньжонки и у меня есть! — запротестовал Егор Иванович и отодвинул руки.
— Бери, а свои деньги побереги!
В это время из своих шалашей вышло начальство и направилось к саням. Лошади были уже запряжены и ждали своих седоков. Хохол подошел к прорабу, поздоровался с ним, указал на Егора Ивановича, Дымковых и сказал, что эти люди поедут с ними. Прораб кивнул головой и показал мужикам, чтобы они садились, затем сел начальник лагеря и прораб. Лошади тронулись и вскоре скрылись за плотной стеной деревьев.
Пока начальство собиралось к поездке, народ постепенно подходил к месту отправления. Казалось, что люди решили отметить отъезд со всей торжественностью. Хохол же прекрасно знал, что привлекла их сюда не любовь к своему начальству, а совсем другие заботы. Он же сам вчера обещал им раздачу продуктов. Но для этого нужно взвесить и пересчитать все продукты, составить списки ссыльных. И тут он вспомнил, что не попросил у прораба бумаги с карандашом. Недолго думая, он направился к доктору, чтобы попросить у него несколько листов бумаги и карандаш, но остановился, словно пораженный молнией. Как он думает делить продукты, если у него не было весов? Он тут же вернулся и, боясь показаться полным идиотом, спросил у мужиков, есть ли у кого безмен. Те переглянулись и пожали плечами. Но тут вышел мужичок из Медвежьего и сказал, что безмен есть у него, и это все, что осталось от хозяйства. Когда его пришли раскулачивать, то он схватил безмен и бросился с ним на активистов, но его скрутили и выбросили на улицу, а безмен, как был, так и остался в руках. И теперь он с ним не расстается. Мужик тут же отправился за безменом, а Хохол пошел к доктору. Тот сидел в шалаше и готовился к выпивке. Перед ним, на чурбаке, стоял стакан, до половины наполненный спиртом, кружка с водой и резиновая грелка, в которой, очевидно, хранился спирт. Доктор не ответил на приветствие Хохла и предложил выпить. Иван Иванович отказался, сославшись на занятость, но пообещал обязательно заглянуть, а потом спросил:
— Борис Абрамович, Исайя Соломонович сказал, что вы будете распределять продукты, и люди ждут, когда же вы начнете делить? Они почти все собрались!
— Да пошел он к черту, тоже мне начальник! Мне некогда заниматься ерундой, да, говоря по совести, я не только не хочу, но ничего и не смыслю в этом деле. Так что, Иван Иванович, занимайся делёжкой сам!
— В таком случае, не найдётся ли у вас бумага и карандаш?
— Этого добра у меня навалом. Вот тебе журнал для записи больных и карандаш. Все равно никого я записывать не собираюсь, так как никого лечить тоже не буду, ввиду того, что у меня нет никаких лекарств, кроме зелёнки.
Когда Хохол вернулся, то ему вручили безмен с медным противовесом. Он позвал Ивана Гусева, передал ему безмен и попросил вместе с Никитой и Симоном перевесить пшено, сухари и пересчитать вяленую рыбу. Потом открыл тетрадь и сказал людям, чтобы от каждой семьи подходило по одному человеку и сообщали её состав, но не имена и фамилии, а количество взрослых и детей до двенадцати лет. Причем предупредил, что врать не стоит, ибо прораб потом лично пересчитает всех по своим спискам и если, кто наврёт, то в следующий раз не получит ни куска. Иван Иванович знал что делал. Знал, что говорил.
Пока Хохол составлял списки, мужики успели перевесить и сосчитать продукты. После этого он углубился в расчеты и, спустя некоторое время, заявил:
— Вот что, дорогие мои, в списках на сегодня числиться одна тысяча сто семьдесят человек, то есть за время нашего путешествия мы похоронили сто девяносто близких и родных людей. Царство им небесное! Пусть земля им будет пухом! А теперь к делу. На каждого взрослого человека приходится по полфунта пшена, сухарей и муки, а на ребёнка по четверти фунта. Кроме того, каждая семья получит по одной буханке хлеба и рыбине. Отпускать вам будут те, кто развешивал!
Тут он подозвал Симона, вручил ему журнал со списком людей и попросил следить за порядком и правильностью отпуска продуктов. Продукты, в своём большинстве, получали женщины, увязывали их в узелки и быстро уходили. Пока шёл торг, Хохол обратился к присутствующим мужикам и попросил их задержаться. Когда все угомонились, он выступил вперед и сказал:
— Сегодня вы продолжайте устраиваться, а завтра начнем работать. Нам нужно заготовить лес для постройки конторы и поставить сруб. В нашем распоряжении, как стало известно утром, имеется десять топоров и пять пил. Не ахти какой инструмент, но другого пока нет. Ель выбирайте средней толщины, обрубайте ветки на месте, а лесины надо будет перетащить к шалашам наших начальников. Заготавливать лес будут Чульневы, Рыбины и Пономарёвы на переменку. Вернее они будут валить лес, а обрубать ветви и перетаскивать будут другие. Кто конкретно, решим завтра на месте. От вас требуется одно, чтобы все вы вышли на работу. Симон! Дымковы получили продукты?
— Да, приходила сноха Настя!
Со следующего дня резко потеплело. Небо очистилось, и солнце щедро поливало своими благодатными лучами угрюмую тайгу и жалкий лагерь с его обитателями. Радуясь теплу, даже грачи, до этого молчаливо лениво перелетавшие с дерева на дерево в ближайшей березовой роще, подняли такой гвалт, что заглушали своими криками говор людей. Совсем другую картину представляли собой люди, выползавшие из шалашей под яркие лучи сияющего солнца. Плохо одетые, с осунувшимися лицами, еле передвигающие ноги, они с утра потянулись к просеке, где их ждали вековые деревья. Глядел Иван Иванович на своих товарищей по несчастью, и закипела в его душе злоба на тех, кто, получив волей судьбы власть, забросил их в этот безлюдный, безжалостный и суровый край. Продрогшие и голодные, покорно шли они туда, куда указал им такой же несчастный, как и они сами. Никаких дополнительных распоряжений не требовалось. Они делали то, что им было знакомо по прежней жизни. Но Иван Иванович не замечал обычного рвения и желания поскорей закончить работу. Пильщики все чаще и чаще садились отдыхать, сменялись по несколько раз, прежде чем свалить дерево. То же самое происходило и с теми, кто обрубал ветки и перетаскивал бревна к месту строительства конторы.
— О каких шести кубометрах на брата можно говорить? — думал Хохол. — Как можно требовать такой выработки с полуживых людей, если их не кормить? Нет, господа сволочи — рассуждал он про себя, — если хотите чтобы люди работали, сначала накормите их, а я всё сделаю для этого!
Насмотревшись на безрадостную картину, Хохол повернулся и быстро зашагал к лагерю. Охранники сидели возле шалаша на солнышке. Тут же развалились Машка и Нюрка Пономаревы. Все были навеселе. Хохол подошел к теплой компании, поздоровался и строго сказал девкам, чтобы те убирались вон. Они не стали перечить, быстро встали и ушли, ни разу не оглянувшись. Иван Иванович сел на лапник, набил табаком трубку, закурил.
— Вот что, ребята, я к вам с большой просьбой! — начал Хохол, внимательно рассматривая лица охранников. — Нас везли сюда почти целый месяц. В дороге не кормили, ели по дороге траву и сусликов. По дороге от голода умерло почти двести человек. Да и сейчас, вы сами видите, как людей кормят. От голодухи они еле передвигают ноги. Начальство, уезжая в Котлас, приказало мне валить лес и строить дом, в котором вы будете жить, а люди не только валить лес и строить дом, но с трудом могут добраться до просеки. Помочь можете только вы!
— У нас и самих жрать почти нечего, — сказал один из охранников, скривив губы и глядя на землю. То ли башкир, то ли калмык.
— Я и не требую от вас никакой жратвы, но спасти людей от голода вы можете! — возразил ему Хохол. — Начальник лагеря говорил, что в тайге водятся олени, лоси, медведи и другое зверье, то есть то, что может идти в пищу. У вас есть винтовки, и вы можете подстрелить любого зверя. Да и вам не помешает свежатина.
— А что, братцы, мужик говорит дело. Давно я не охотился и готов идти хоть сейчас! — заявил нацмен.
— Я бы тоже пошел, но вывихнул ногу, и ходить не могу, — сказал другой охранник.
— Вы ребята, как хотите, я же пас. Эта тайга мне так надоела, что не только не хочу по ней ходить, но и видеть ее не могу, — со злобой ответил третий охранник.
— Выходит, что я остаюсь один на один с тайгой, а одному по ней ходить опасно, — разочарованно проговорил нацмен.
— Почему одному? — продолжил разговор Иван Иванович — Если ты согласен идти на охоту, то я дам тебе двух мужиков. Оба они опытные охотники, у которых можно многому научиться. Вопрос в том, чем их вооружить?
— Ты хочешь сказать, чтобы мы отдали им свои винтовки? — спросил охранник с вывихнутой ногой.
— Именно так!
— Кто же нас по головке погладит, если мы отдадим свое оружие?
— А какое в этом преступление? Начальник лагеря при вас говорил, что мы не заключенные, а переселенцы, люди свободные. Вас же сюда, говорил он, отправили для того, чтобы, не караулить нас, а охранять. Вот и получается, что охранять нас надо не только от зверья, но и от голода. Иначе вами тут делать нечего. Грош вам будет цена, если вы позволите умирать безвинным детишкам, старикам и молодым мужикам с бабами.
— А кто ответит, если ваши мужики повернут оружие против нас?
Хохол почувствовал, что охранники согласны пойти на нарушение устава, но что-то удерживало их от этого шага. Он усмехнулся и решил выложить перед ними свою козырную карту:
— Во-первых, эти двое не бандиты, а просто крестьяне, которые пойдут в тайгу ради того, чтобы спасти от голодной смерти таких же крестьян, как они. Во-вторых, один из них Симон, на шее которого сидят восемь его сестер. Кстати две девочки, которые только что ушли отсюда, его родные сестры. У второго, Никиты, здесь отец, жена и четверо детей. Вы бы могли бросить своих родных на произвол судьбы и обречь их на голод? Смогли бы вы пожелать этим симпатичным девчонкам, которые ушли недавно от сюда, голодной смерти? Я этому не верю. А теперь решайте, как вам поступить. Кроме того, я сейчас исполняю должность прораба и в случае чего всю вину возьму на себя.
Нацмен вскочил на ноги, забросил винтовку за спину и сказал:
— Пошли, однако, мужик! У этих шакалов никогда не было ни отца, ни матери. У нас не так, для нас родители святое. Пошли!
— Погодь, авось возьми мою винтовку! — остановил своего товарища охранник с больной ногой.
— Возьми и мою, — предложил другой.
Иван Иванович, в сопровождении охранника Абаса, поспешил к просеке, где мужики валили деревья. В руках он нёс две винтовки. Подойдя к группе мужиков, он увидел Никиту Пономарёва, сидевшего на бревне с опущенной головой. Хохол подошел к нему и сказал, чтобы тот нашел Симона. Когда они вместе с Симоном подошли, Хохол сказал:
— Сейчас вы с Абасом — он указал на охранника, — пойдете в тайгу на охоту и без добычи не возвращайтесь. Без неё мы не только не сможем работать, а совсем перестанем передвигать ноги. Одним словом, будем ждать вас со свежатиной. От вас зависит дальнейшая жизнь большинства людей. Вот вам винтовки, берегите их и по возвращению сдадите мне лично!
В глазах у мужиков сверкнул блеск радости, какой бывает только у детей, которым подарили желанную игрушку. Вскоре охотники покинули просеку и скрылись за стеной высоких деревьев.
Ближе к вечеру в лагерь пришел Симон, нашел Хохла и сообщил, что они завалили двух оленей. Эта новость подняла на ноги весь лагерь. Хохол отобрал около десятка самых крепких мужиков и отправил их в тайгу вместе с Симоном. К вечеру охотники и их помощники на слегах притащили убитых оленей. Посмотреть на добычу пришло почти всё население лагеря. Разделывать туши взялось сразу несколько мужиков, которые под руководством Никиты и Симона, быстро управились с этим делом. К освежёванному оленю подошел Абас, вытащил из ножен большой тесак и ловким движением отрезал переднюю ногу до самых ребер. Потом вырвал часть ливера и сложил всё это на шкуру. Хохол кивнул Симону и тот сбегал за мешком, в который сложил приготовленное мясо. Ему же он передал винтовки. Симон закинул за спину мешок с мясом, взял оружие и вместе с охранником пошел в сторону шалашей руководства. Затем Иван Иванович достал из-за пазухи журнал, передал его Никите и сказал, чтобы тот начинал отпускать мясо по спискам. На каждого человека, будь то ребенок или старик, нужно отвесить по одному фунту мяса.
Пока провожали охранника, пока уточняли количество мяса на одного человека, пока рубили мясо, никто не заметил, как к толпе подошел доктор. Он выждал, когда будут решены все организационные вопросы, вышел вперед и попросил его послушать. Все удивились его появлению, поскольку доктора, с первого дня знакомства, никто не видел. У Хохла мелькнула мысль, что тот узнал от охранников об удачной охоте и поспешил к делёжке мяса, но все услышали следующее:
— Я хочу вас предупредить! — сказал доктор. — Вы долго голодали, плохо питаетесь, многие отощали и больны. Поэтому мясо для вас сейчас будет ядом. Советую вам два, три дня мясо не есть, а варить мясной бульон, особенно из костей, чем и подготовить свой желудок. Не жадничайте. Надеюсь, что эти олени будут не последними. Я вас предупредил, а дело за вами!
На следующий день к обеду прибыл обоз. В это время мужское население работало в лесу и приехавших встретили женщины, ребятишки и несколько немощных стариков. Но слух о возвращении обоза из Котласа быстро долетел до просеки и лесорубы потянулись к пятачку, желая узнать свежие новости, питая в душе надежду, что им разрешат вернуться в родные места. Первое, что бросилось в глаза, это наличие рядом с мощной фигурой прораба тщедушного мужичка. Всего в коже, в ремнях и кожаной кобурой с наганом на боку. На маленькой куриной голове примостилась кожаная фуражка с красной звездой. Коменданта лагеря, среди приехавших, не было. Невзрачный человек нервно шагал около прораба, размахивал руками и что-то горячо доказывал ему. Наконец он остановился, посмотрел своими бесцветными глазами на притихшую толпу, что-то сказал прорабу и, взобравшись на сани, обратился к людям. Голос у него был высоким, звучным и казалось, что он вкладывает в него всю свою силу.
— Меня назначили комендантом вашего лагеря — начал он, — и не только комендантом, но еще отцом и судьей! Прежний начальник распустил вас так, что вы мышей перестали ловить. За две недели не заготовили ни одного дерева, а Беломорканал требует тысячи кубометров древесины ежедневно. Не знаю, кто саботировал эту важную для государства задачу, пусть разбирается в этом трибунал. Но я не допущу такого безобразия. Недели через две река вскроется, и к этому времени мы должны заготовить и вытащить на берег пять тысяч кубометров бревен. Как только лед пройдет, лес нужно будет спустить в воду, чтобы он сам пошел вниз самотёком. Кровь из носа, но эту задачу вам предстоит выполнить. Бригаду плотников я сокращаю до пяти человек, плюс к ним еще два столяра. Все остальные направляются на заготовку леса. Норма выработки остается прежней, но сухой паёк я отменяю, и отныне все работающие будут питаться из общего котла. Те, кто будет перевыполнять норму, получат добавку к столу. Те же, кто не будет выполнять норму, будут получать уменьшенный паёк. Не работающих я — кормить не собираюсь. Надеюсь, что все ясно? А раз так, то всем за работу!
Он, было, собрался спрыгнуть на землю, но в это время из толпы вышел Симон, жестом остановил его и обратился с вопросом:
— Извините, добрый человек, не знаю вашего имени и звания, но у меня к вам есть вопрос?
— Слушаю!
Симон был сносно грамотным, бойким на язык и в карман за словом не лез. Подойдя к саням, на которых возвышался начальник, он снял с голову треух, поклонился ему и, приняв вид сермяжного мужика, заискивая, спросил:
— Вот вы сказали, что вы для нас теперь и отец и судья. В библии сказано, что Бог в бытность накормил пять тысяч голодных человек из своего народа пятью булками хлеба. Почему же вы отказываетесь кормить всего тысячу, ведь отец обязан кормить своих детей?
Новоиспеченный начальник, не ожидая такого подвоха от этого невзрачного мужика, растерялся, но быстро нашелся и ответил:
— Простите, не представился. Зовут меня Исааком Ефимовичем. Фамилия Локман. Отцом я буду для взрослых, а вашим детям я в отцы не напрашиваюсь, так что о них беспокойтесь сами. Чтобы накормить их, нужно выполнять, а лучше перевыполнять производственную норму!
О Боге он ничего не сказал. Потом легко спрыгнул из саней и, не попрощавшись с людьми, в сопровождении охранника направился к шалашу бывшего начальника лагеря.
Люди постояли, покачали головами и нехотя стали расходиться. Прораб подозвал к себе Егора Ивановича и сказал, чтобы тот с мужиками выгрузил из саней привезенный из Котласа инструмент, который утром должен быть готов к работе. Дав такое указание, он отозвал Ивана Ивановича в сторонку.
— А мы, Иван Иванович, пойдем, посмотрим, что вы тут натворили за все это время, — проговорил прораб, когда они отошли от мужиков на несколько шагов.
Они направились к свежевыстроенному срубу конторы, который возвышался над обрывом реки, презрительно глядя своими оконными проемами на убогие шалаши. Когда они подошли к срубу конторы, прораб окинул взглядом постройку, неторопливо обошел ее снаружи, зашел внутрь, хлопнул ладонью по венцу, улыбнулся и сказал:
— Ну, Иван Иванович, не ожидал от мужиков такой лихости и мастерства. Кто бы мог подумать, что извечные пахари и сеятели сумеют так красиво, одним топором, сладить такое чудо. Спасибо тебе, мужик, за такой подарок. Чудный наш русский мужик, непонятный. Эх ты, матушка Россия! Ты и убога, ты и обильна, ты и могуча, ты и бессильна.… Давай, Иван Иванович, посидим, отдохнем, поговорим, покурим, а мужики и без нас знают, что им делать. Да, там мы привезли махорку, ведь все исстрадались без курева. Локман не курит, ну и заартачился, говоря, что без этого зелья никто еще не умер. Пришлось мне настоять на своем!
Прораб достал из кармана несколько пачек махорки, протянул их Хохлу и сказал усмехнувшись:
— А это тебе награда за твои дела, а то ты, смотрю, сосешь пустую трубку.
— Вот за это спасибо! — Хохол торопливо набил трубку махоркой, затянулся и вдруг закашлял, вытирая ладонью глаза.
— Я хотел бы еще поблагодарить тебя за мужиков, которых ты подобрал нам для поездки в Котлас! — продолжал прораб. — Если бы не они, то сидеть бы нам с обозом до морковного заговенья в каком-нибудь овраге. Сколько бы они сделали добра, занимаясь дома своим делом. Эх, матушка, Русь!
Хохол молчал, слушая прораба, но почувствовав грусть в его словах, решил поддержать разговор.
— Владимир Степанович, а почему сменили прежнего начальника лагеря? Вроде он был неглупым человеком, в людях разбирался хорошо, был добрым к ним?
— Вот за это его и сняли. Он успел мне рассказать, что его обвинили в увлечении благоустройством и в неспособности оперативно наладить заготовку леса для Беломорканала. По приезду в Котлас наш бывший комендант попал на расширенное совещание руководителей ГУЛАГа. Вел совещание начальник Главного управления трудовых лагерей и поселений Берман. Присутствовали начальники отделов Паукер, Реденс, Иоффе, начальники областных лагерей Коган, Финкельштейн, Шкляр, Фридберг, Фирин, Кацнельсон. Присутствовал даже начальник всех тюрем Апетер. Берман сообщил, что он недавно приехал из Москвы, где их собирал заместитель председателя ОГПУ Ягода. Обсуждался вопрос работы лагерей. В своем выступлении Ягода подверг жесточайшей критике расхлябанность, и отсутствие дисциплины среди заключенных, выселенных и самих руководителей лагерей. Последние, по его словам, находят сотни причин, чтобы оправдать свою бездарность, неумение руководить, а иногда даже саботировать распоряжения партии и правительства. Ягода предупредил, что отныне не будут приниматься никакие оправдания и причины срыва задания по постройке Беломорканала. Сказал, что пусть никого не тревожит смертность и болезни заключенных и выселенных, ибо на замену пришлют других. Сослался на слова товарища Сталина, который подчеркнул, что все проблемы связаны с людьми, а если нет человека, нет и проблем. Ты, наверное, спросишь, для чего я тебе это рассказываю? Да мне после того, что говорилось на этом совещании, хочется выть во весь голос. Власть готова уничтожить весь наш народ, и если их не остановить, то они это и сделают. Но я бессилен чем- либо помочь. Знаешь ли ты, что такое лагеря, сколько их разбросано от Архангельска до Урала? До этого мне пришлось поработать в некоторых, и там я уже видел воочию, что такое голод, болезни и смерть. Я, не хуже тебя, думал, что всё зависит от лагерного начальства, но теперь понял, что партия и правительство возвели процесс уничтожения русского народа в ранг государственной политики. И еще рассказываю об этом потому, что все вы обречены на вымирание, и никто не ударит пальцем о палец, чтобы этого не случилось. Передохните здесь от голода и болезней, пришлют на ваше место новые эшелоны с новыми заложниками. Нет человека, нет и проблем! Ведь об этом прямо заявил Берман. Недаром же он отстранил от работы нескольких руководителей, в том числе и нашего бывшего коменданта. Некоторых я знал, и это были не самые глупые люди. Теперь он заменил их Локманами.
— А что он за человек, этот Лохман? Случаем, он не родственник нашему доктору? — вдруг спросил Хохол прораба.
— Едва ли. Да его не Лохман, а Локман фамилия, а что он за человек, поживем-увидим. В Котласе я встретил своего коллегу по институту, он работает то ли бухгалтером, то ли писарем у начальства. Он мне кое-что рассказал о нём. По бумагам, его отец был мелким портным в Бердичеве, и Исаак с малолетства помогал отцу кормить многочисленную семью. Он малограмотен, плохо воспитан и будет стараться выслужиться перед начальством, что бы получить продвижение по службе. Будет творить всякие пакости и беззакония. Мы еще хлебнем с ним горя, тем более, что и пожаловаться будет некому. Но пользуясь его невежеством и малограмотностью, я все же постараюсь навязать ему свою волю. Только прошу тебя не спорить с ним, не возражать, соглашаться с его указаниями, а делать будем по-своему. Ты постарайся, что бы работа двигалась, а я буду докладывать о заготовке древесины с перевыполнением плана. Уверен, он ничего в кубометрах не смыслит, да и рассчитать их у него в голове не хватит цифр. Сплавлять брёвна мы будем не в плотах, а молевым способом, то есть россыпью. Какой дурак там, в низовьях, будет их считать по бревну в лесоспусках? Сколько напишем, столько и оприходуют. Наша с тобой задача помочь людям выжить. Кстати, скоро вскроется река и пусть все, старые и молодые, готовятся к рыбалке. Рыбы в этой реке много и крестьяне, надеюсь, умеют её ловить. Пусть ещё готовят петли и ямы для ловли мелкого зверя, которого здесь тоже навалом. А теперь иди к людям, а я пойду к начальнику, поговорю с ним по душам.
Исаак Ефимович сидел в шалаше на тулупе, прикрыв ноги одной его полой. Владимир Степанович, войдя в шалаш, спросил:
— Можно к вам?
— Заходите, Владимир Степанович, жду вас с нетерпением. Хочу знать, что у нас делается?
— Все мужики заняты наладкой инструмента. Без хорошо наточенных топоров и пил валить лес нет смысла.
— Разве все это требует много времени?
— Много. Пилы необходимо не только наточить, но и развести, а для пил предназначенных для роспуска бревен на доски, нужно сделать некоторые приспособления. Кроме того, нужно соорудить козлы. Топоры мы привезли без топорищ, а их нам нужно не только изготовить, но и насадить на топоры.
— Прошу вас, Владимир Степанович, не спускать глаз с этих мужиков, с них нужно требовать не только работы, но и контролировать каждый шаг. Я смотрю, что многие из них шатаются по лагерю без дела. Отныне на ночь нужно выставлять охрану, ибо охранники совсем обленились и не следят за передвижением людей, так они могут и разбежаться!
— Вот об этом, Исаак Ефимович, я и хочу поговорить с вами. Насколько мне известно, вы до этого работали с заключёнными? Эта категория людей требует к себе особого подхода. Их в свое время арестовали, судили, каждому из них определили срок заключения. Я сам такой и по себе знаю, что такое тюрьма. Лагерное начальство делает всё, чтобы заключённые, оторванные от семьи и обычной жизни, помещённые за колючую проволоку с часовыми на вышках, работали, соблюдали дисциплину, подчинялись правилам тюремной жизни и не могли сбежать из-под охраны. Люди в нашем лагере не заключённые. Их никто не арестовывал и не судил, а просто выселили из сёл и привезли сюда на работу. Это трудовой лагерь, а они — рабочие. Если заключённые изолированы от семьи и общества, то переселенцы живут семьями, с жёнами, детьми и стариками. И всех их нужно кормить, чтобы не умерли с голода. Конечно, можно рассуждать, что вместо умерших к нам пришлют новые эшелоны переселенцев. Но пока мы их не видим и будут — ли они, никому неизвестно, а вот древесину требуют уже завтра. На днях вскроется река и мы должны начать сплав леса. Вот вы сказали людям, что отныне все работники будут кормиться из общего котла. А где эти котлы, которых у нас нет? В чем вы собрались варить? Потом говорите, что охрана должна ночью следить за передвижением людей. Зачем? Вы боитесь, что они сбегут? Напрасно, у каждого мужика здесь семья, которую он никогда не бросит, подавшись в бега. Этих людей не надо заставлять работать — они вечные работники и без дела сидеть не будут. Это не уголовники, не интеллигенты, которые не привыкли к физическому труду. Они с детства привыкли трудиться и не нуждаются в понукании. И еще, убедительно прошу вас снять с ремня кобуру с наганом и спрятать его под куртку, не надо будоражить людей!
Начальник, не перебивая, выслушал прораба, сказал, что благодарит за информацию и подумает над его предложениями. Выйдя из шалаша, прораб встретился с Иваном Ивановичем, который ждал его. Ему очень хотелось узнать, чем закончились переговоры между двумя начальниками. Владимир Степанович не остановился и прошел мимо, дав Хохлу знак следовать за ним к лесу. На опушке, разместившись на бревнах, мужики ладили инструмент, тут же стояли только — что изготовленные козлы для распиловки бревен. Одни точили пилы и топоры, другие делали топорища и насаживали их на топоры. Несколько ребятишек осколками стеклянной банки, найденной у шалаша охраны, шлифовали топорища. Прораб с Хохлом, посмотрев на работу мужиков, углубились в лес, нашли бревно, присели на него и закурили. Первым нарушил молчание Хохол:
— Поговорили?
— Поговорил, как уксусу напился?
— И что он сказал?
— Ничего, промолчал. Мне кажется, что он так ничего не понял!
— Он что тупой или притворяется?
— А кто их этих евреев поймет? Думаю, что он хорошо все понял, но все равно будет лезть из кожи, чтобы угодить своему начальству.
— А скажи мне, Владимир Степанович, почему у нас в России стали заправлять одни недоумки? Дома русские, здесь евреи?
— К сожалению, Иван Иванович, не только в России, а по всему миру правит очень много, как ты выразился, недоумков. Точнее, психопатов, на которых сразу не подумаешь, что они больные. Если верить знаменитому писателю Льву Николаевичу Толстому, то он считал и был твердо уверен в том, что миром правят только одни сумасшедшие, поскольку нормальные люди командовать другими или стесняются, либо просто не могут. Объяснял свои выводы Лев Николаевич очень просто. Дело в том, писал он, что психически больные люди намного успешнее нормальных могут достигать поставленных перед собой целей, поскольку им не ведом ни стыд, ни совесть, а порой и страх, что позволяет даже совершать героические поступки ценой собственной жизни. Я думаю, что ему можно поверить, так как у него самого на старости лет с головой стало плохо, а церковь прокляла и предала его анафеме. И ты думаешь за что? За то, что призывал не сопротивляться злу, а безропотно позволять всякой дряни и нечисти жить и калечить жизнь окружающим так, как ей заблагорассудится. Так, мол, жить спокойнее. Поэтому и назвал его наш вождь Ленин — » зеркалом революции», то есть отражением истинных целей революционных преобразований в стране. Рыбак рыбака видит издалека! Когда я сидел в Соловках, мне посчастливилось там встретиться с очень грамотными людьми. С нами сидели ученые всех рангов, начиная от преподавателей вузов и кончая докторами наук. Мы там мало работали, времени свободного было достаточно. Обычно по вечерам собирались в какой-нибудь камере и слушали лекции, начиная с математики, физики, химии и кончая историей и литературой. Я сам ученый, но до этого много не знал и даже не догадывался. Какие там были умы! Их в Соловки и сослали за этот ум и за знания. Я очень любил слушать лекции по истории и психологии, которые читал нам профессор Ленинградского университета по фамилии Фарбер. Этот преподаватель обладал настолько живым умом, что в своей голове держал сотни фамилий, дат, высказываний выдающихся людей нашей планеты. Вот он и объяснил нам то, о чем ты сейчас меня спросил и приводил такие факты, что мы только качали головами, верили и не верили. Специалист в области психологии, он с полным знанием своего дела охарактеризовал идеологов революции и руководителей нашего государства с точки зрения их душевного состояния. Оказывается, отец коммунистической идеи Карл Маркс был психически нездоров, что отразилось потом на его потомстве. Три его ребенка умерли в младенчестве, две дочери, будучи взрослыми, покончили жизнь самоубийством. Сам он никогда не работал и жил на иждивении у богатого Фридриха Энгельса, который любил его, как женщина мужчину, а он, в свою очередь, отвечал взаимностью. Ты, Иван, точно не захотел бы породниться с такой семейкой, а тут целую страну за его идеи сосватали. И кто сосватал? Ленин, который, как и Маркс, тоже нигде ни одного дня не работал, не смог нарожать детей, как всякий нормальный человек, и умер в 53 года полным идиотом, устроив перед этим в стране кровавую резню. После смерти вскрытие показало, что одна половина мозга у него не работала и полностью сгнила. Родной брат Ленина, Александр, был арестован и казнен за участие в подготовке покушения на царя. Этот юный мерзавец, мальчишка и негодяй, лично, своими руками, изготавливал и начинял бомбы отравленными кусками свинца, желая смерти человеку, которого он видел всего один раз, и то издалека. Ясно, что до такого мог додуматься только больной на голову человек. Та еще семейка. Троцкий с детства страдал припадками, что впоследствии явилось причиной серьезного нарушения психики. С точки зрения медицины, он представляет очень большой интерес для ученых — психиатров, так как является уникальным человекоподобным существом, у которого полностью отсутствуют чувства жестокости и доброты, как у зверя. Он родился без души, наличие которой отличает человека от всего остального животного мира. По воспоминаниям знакомых, люди для него — не более чем куклы, с которыми он забавляется в кровавых играх. Дзержинский, как и Троцкий, тоже был припадочным и дошел до того, что в горячке додумался собрать по всей стране огромную массу садистов, убийц и организовать их в чрезвычайную комиссию или ЧК. Затем, поручил этой комиссии заняться преследованием, грабежом и уничтожением людей без суда и следствия, а формой одежды для сотрудников определил кожаные тужурки, по аналогии с кожаными робами убойщиков скота на скотобойнях. На окружающих Дзержинский наводил ужас одним своим внешним видом, поскольку, в отличие от других людей, никогда не моргал. Сталин, что бы ты знал, рыжий, полутораметрового роста человек, с сухой рукой, что является внешним признаком нервного заболевания. Превратить всю страну в тюрьму и разделить общество на заключённых и надзирателей — это его бредовая идея. Фарбер дал психологические портреты и другим высокопоставленным большевикам, но я не буду продолжать, смысл ты понял. Самое страшное в том, что всех этих людей объединяет общее для всех заболевание под названием — комплекс власти. Навязчивое желание командовать другими людьми — это психическое расстройство, которое делает человека очень активным, целеустремленным, способным к инициативе и умению убеждать в необходимости совершать определенные действия окружающих. Для нормального человека такие качества похвальны, поскольку здравая инициатива преследует благородные цели. А вот главная и единственная цель, рвущихся к власти психически больных людей, заключается в том, чтобы получить постоянную возможность причинять другим людям моральные и физические страдания, получая тем самым удовольствие, как пьяница после стакана водки. Для того и объединяются в партии, становятся революционерами все эти явные и скрытые сумасшедшие, которые не могут нормально жить и работать. Поэтому и лезут они из кожи и готовы на всё, чтобы только получить руководящую должность, а с ней и возможность издеваться над людьми. Понятно тебе теперь, кто оказался у власти в вашей деревне и здесь на лесоповале? Их специально для этого отбирали, а чтобы не спутать с другими, записывали в партийные списки.
Владимир Степанович прервался и уставился на Хохла. Иван Иванович сидел, не шевелясь, ожидая продолжение рассказа.
— Результат, Иван Иванович, тебе приходится сейчас испытывать на собственной шкуре. От помещиков и тяжелого крестьянского труда, как и обещали, ты теперь свободен и осваиваешь новую, нужную государству профессию лесоруба под руководством, направленного партией и правительством недоумка. О твоем здоровье заботится врач, которого самого нужно лечить от алкоголизма, а твой покой охраняют специально подобранные из человеческих отбросов, вооруженные люди. Все при делах!
Прораб умолк. Молчал и Иван Иванович. Они закурили. Наконец прораб, словно подытожив все им сказанное, с грустью сказал:
— Вот так!
— Вы мне, Владимир Степанович, рассказали ужасные вещи! — Непроизвольно перешел на «вы» Хохол. — Мне не только стало страшно, но и обидно. Выходит, что мы проливали свою кровь не за русский народ, а за власть сумасшедших, которые теперь душат нашего брата. Как же могло случиться, что кучка негодяев смогла одурачить миллионы русских людей? Ладно, мы, безграмотные, серые людишки, но не могу понять, как смогли провести вокруг пальца столько грамотных людей, интеллигентов, дворян и даже разгромить белую гвардию? Почему большевикам так легко досталась власть? Разве в России не было армии, полиции, не было умных людей, которые смогли бы предугадать события и не допустить произошедшего?
— Вот ты, Иван Иванович, спрашиваешь, что же не нашлось в России умных людей, которые объяснили бы народу, к чему все это приведет? А кому объяснять? Безграмотным и забитым крестьянам, одетым в шинели? Так их, сначала, нужно было научить грамоте, объяснить, как построено и по каким законам развивается общество, но царское правительство это мало заботило. Вот и нашлись люди, которые пообещали покончить с войной и покончили, обещали раздать помещичьи земли и раздали, а за это попросили защитить розданное от бывших помещиков и капиталистов. И ведь поверили. На клочья друг друга рвали. А вот что из этого вышло, ты лучше меня знаешь. Наш мужик действительно богат задним умом. Но всё же, лучшие умы России предупреждали о возможном беспределе русский народ. Задолго до большевиков, другой выдающийся русский писатель, Достоевский, писал, что очередная революция произойдет именно у нас, так как нет порядка в управлении и обществе. Все царство будет потрясено и залито реками крови. Так оно и случилось! Да что там Достоевский? Две тысячи лет прошло с тех пор, как Сын Божий Христос попытался лечить психопатов, церковь создал, чтобы люди могли там покаяться в своих сумасшедших мыслях, поступках и спастись, таким образом, от окончательного безумия. Так его за это, тогдашние Локманы, гвоздями к кресту прибили. Ты, думаешь, почему власть с такой ненавистью рушит храмы? Да только потому, чтобы лишить человека веры в Бога, в идеал, на который нужно в своей жизни равняться. Лишить человека возможности совершенствоваться, оценивать происходящее внутри и вокруг себя с точки зрения нормального человека.
Прораб усмехнулся и добавил:
— А, собственно говоря, на кого ты, Иван Иванович, обиделся? Если ты хочешь обижаться, то только на себя. Ведь это ты вручал власть большевикам, воевал за неё. Такие же, как и ты, крестьяне и рабочие, обезумев от жадности, зависти и ненависти друг к другу, мечтали отобрать землю у помещиков, заводы у капиталистов и поделить так, чтобы соседу поменьше досталось. Поделили? Вот теперь и пользуйтесь!
С каждым днем солнце поднималось все выше и выше, обливая долгожданным теплом угрюмую тайгу. Ожили говорливые ручейки, снег основательно усел, обнажив корни вековых деревьев. Комендант лагеря, ожидая паводка, торопил прораба и людей с заготовками древесины. Он ежедневно с рассветом проходил по лагерю и торопил народ с выходом на работу, чего никогда не делал прежний начальник. А люди, изнеможенные холодом и голодом, одетые в тряпьё и лохмотья, вылезали из убогих шалашей и, прихватив пилу или топор, тянулись к просеке. В лагере оставались только малыши и больные старики. Начальник распорядился бросить на валку леса не только мужиков, но и женщин с подростками. Обработанные деревья женщины и подростки с помощью веревок волоком тащили на берег реки и складывали в штабеля. На работу вышла и Дарья Пономарёва, захватив с собой старшую дочь Марию. До этого она сидела в шалаше, ни с кем не встречалась и не разговаривала. С той самой ночи, когда ее с детьми вывезли из родного села и отправили в ссылку, она сильно изменилась, ушла в себя, словно спряталась в раковину и никого не хотела видеть. Увидев кого-нибудь из лагерного начальства, вся сжималась, втягивала голову в плечи, словно боясь, что начнут бить. Ее преследовал панический страх за свою жизнь, страх перед наказанием, боязнь тюрьмы и даже расстрела. Сегодня она пошла на работу только потому, что начальник лично проверял шалаши и выгонял всех на работу. До этого она сама не вылезала из шалаша, боясь показаться на глаза начальству, но не выпускала на улицу детей, чтобы они, по своей глупости, не наделали чего-нибудь, за что ее могут привлечь к ответственности. Поэтому Дарья, уходя на работу с Машей, под страхом наказания приказала остальным детям из шалаша не выходить и ждать её прихода. Но разве можно было вытерпеть, если кругом слышались приглушенные голоса взрослых и восторженные крики детворы, радующихся первому теплому деньку и яркому солнцу.
Первой демонстративно покинула шалаш Татьяна, девка своенравная, с неуправляемым характером. Нюрка, как обычно, забилась в уголок и перебирала лоскутки ткани. Ване стало скучно и он, забыв наказ матери, вылез из шалаша, оглянулся, щурясь на ярком солнце, и тут же столкнулся со своим двоюродным братом Митрошкой, сыном дяди Никиты. В первый момент Ваня даже не узнал его, ибо тот так похудел, что трудно было признать в этом всегда веселом, крепком парнишке, одного из самых близких товарищей по играм. Да и одет он был так странно, что Ваня не сразу сообразил, что было на нем напялено. Голова его была обмотана грязной тряпкой, наподобие чалмы, а тело от шеи до пяток покрыто чем-то вроде мешка. Присмотревшись к одеянию брата, Ваня догадался, что на него одета женская юбка, затянутая на тощей шее загашником, а через надорванные прорехи наружу просунуты руки. Лицо у брата было не просто грязным, давно не мытым, а глубоко пропитано сажей, с темными разводами на лбу и щеках. Его губы и подбородок были окрашены в грязно-зеленый цвет. Митрошка обрадовался встрече и сказал, что отец с матерью, братом Сергеем и сестрой Марией ушли на работу, сестра Полина подалась с девчонками в лес, а его не взяли, и он решил зайти к Ванюшке. Его жалкий вид так тронул брата, что тот, забыв строгий наказ матери не трогать запас еды, залез в шалаш, отломил маленький кусочек хлеба и сунул его в грязные руки Митрошки. Растроганный такой щедростью, братишка предложил вместе пойти в берёзовую рощу и попытаться набрать грачиных яиц. Согласие было получено немедленно. В березняке было наметено и все ещё лежало столько снегу, что ребята, проваливаясь в сугробы по пояс, долго пробирались между березками, пока добрались до первых деревьев, где грачи, ремонтировали старые гнезда, поминутно взлетая и оглушительно каркая. Остановившись под гнездами и переведя дух, Ваня снял пиджак и, обхватив ногами ствол дерева, стал ловко подниматься наверх. Не успел он дотронуться до гнезда, как вся стая грачей обрушилась на него. Не ожидая столь яростной атаки этих горластых бестий, Ваня стал отчаянно отбиваться от них свободной рукой, держась другой за ветку березы. Защищая голову и лицо от взбесившихся грачей, он почувствовал, что ветка, за которую держался, предательски хрустнула, отломилась, и он мешком свалился вниз, воткнувшись головой в глубокий снег. Еле-еле выкарабкавшись из снежного плена, Ваня сквозь шум в ушах услышал голос Митрошки:
— А яйца там есть?
Отдышавшись и обретя голос, Ваня ответил:
— Полезай сам и узнаешь! Какие там яйца, если они только начинают строить гнезда. Послушаешь дурака, сам им будешь!
Он отряхнул снег, поднял шапку, напялил её на голову и полез через сугробы назад в лагерь.
В лагере Никифор Дымков со своими сыновьями запрягали в сани лошадей, готовясь к отъезду в Котлас, куда собрался комендант лагеря. Владимир Степанович крутился возле саней и что-то наказывал Никифору, а Исаак Ефимович стоял в сторонке, делал вид, что вся эта суета его не касается. Когда всё было готово к отъезду, начальник уселся в сани и обоз тронулся в дорогу. Взрослое население было на работе, а поэтому, кроме прораба и детишек, их никто не провожал. Перед поездкой начальнику лагеря было сказано, что дороги через реку нет, лед покрыт водой, появились проймы. Но тот заупрямился и настоял на своём. Пришлось согласиться, тем более, что уже ощущалась нехватка продуктов, пополнить которые можно было только в Котласе. Прораб уже несколько раз предлагал организовать охоту на оленей, лосей и кабанов, но без разрешения начальства Исаак боялся взять на себя такую ответственность и решил сам ехать за продуктами. Прораб не выдержал и перед отъездом высказал ему все, что про него думает:
— Вы, Исаак Ефимович, всё стараетесь навести порядки, царящие в лагерях для заключённых. Ничего у вас из этого не получиться. Вы же не можете отдать людей под суд и прибавить им срок? Как вам еще в голову не пришло построить карцеры и сажать в них неугодных? Не ваше дело проверять шалаши и выгонять народ на работу. Для этого здесь нахожусь я, есть и бригадир. Да и люди не нуждаются в понукании. Без вашего или моего вмешательства Пономарёв, со своей бригадой, построили контору, скоро обставят ее и мебелью. Это вам не урки, не грабители, не убийцы, а люди, которые всю жизнь добывали себе и своей семье кусок хлеба трудом. Вы прекрасно знаете, что они раздеты, голодны и всё же построили не только контору, но еще заготовили целые штабеля древесины для сплава. И делали это не потому, что вы орёте на них, а потому, что они приучены к труду и без работы не могут. Один мужик мне недавно сказал, что если бы не дети, он давно кого-нибудь убил, чтобы попасть в лагерь для заключенных, где дают пайку и баланду. Нам обещали, что пришлют других переселенцев, а чем вы собираетесь их кормить, если этим есть нечего? Поэтому давайте думать над тем, как наладить нормальное питание, в том числе охотой на зверя.
Слушая прораба, Исаак Ефимович в душе был согласен с ним, но приученный исполнять волю начальства и не иметь своего мнения, боялся нарушить уставной порядок. Он угрюмо молчал, не говоря ни да, ни нет. Обоз тронулся в путь.
В тот же день, к вечеру, вскрылась река. Лед, поднятый водой, с грохотом и гулом дробился на отдельные глыбы, вставал на дыбы, уходил под воду, всплывал, нагромождая горы изо льда и снега. Подхваченные быстрым течением реки огромные льдины с яростью громоздились друг на друга, бились о крутой берег, крошились, разламывались на куски и уносились полой водой в свой далекий путь. Первыми к реке прибежали малыши и со страхом глядели на разбушевавшуюся стихию. Потом стало подходить и взрослое население. Люди, приехавшие со степной стороны и видевшие тихие разливы, были поражены буйным поведением вышедшей из берегов северной реки.
На другой день вернулся обоз. Никифор рассказал, что дорога была плохой, а когда добрались до переправы, то началось половодье, и ни о каком переезде на другой берег не могло быть и речи. А тут смерклось и они, переночевав в тайге, решили вернуться назад. Народ, выслушав рассказ Никифора, понял, что лагерь остался без еды. Начальник, как только остановились лошади, выпрыгнул из саней и направился в контору, пригласив прораба. За последнее время здание конторы, благодаря рукам Егора Ивановича и его бригады, сильно преобразилось. Были постелены полы, вставлены рамы, навешены двери, в комнатах появились столы и скамейки. Для отдыха поставлены топчаны. Зайдя в контору, начальник лагеря, не раздеваясь, присел на топчан и, не пригласив присесть прораба, спросил:
— Почему не стали сплавлять бревна?
— Сплавлять лес начнем тогда, когда пройдет лед!
— Почему?
— Да потому! — вспылил Владимир Степанович. — Если мы сейчас начнем сплавлять, то в конечный пункт придут не бревна, а щепки. Советую еще раз, что вам нужно думать не о бревнах, а о людях и о том, что они будут есть!
— У меня нет продуктов, да, собственного говоря, я не обязан никого кормить!
— Эта установка мне хорошо известна, но знаете ли вы, что половина людей нашего лагеря болеют цингой, а вторая так истощена, что с трудом держат в руках пилу? Если раньше бревно из лесосеки до берега могли донести два мужика, то сейчас его несут десять баб с ребятишками и в два раза дольше. Вот сойдет лед, и нам нечего будет сплавлять, а за это с вас голову снимут!
При последних словах прораба Локман вскочил на ноги, побежал к дверям и позвал доктора. Тот, очевидно, не спал и сразу появился в комнате начальника. Лицо его было серым, одутловатым, под глазами мешки, да и на ногах держался некрепко.
— Скажи мне, Борис Абрамович! — начал комендант, брезгливо скривив губы — Почему я узнаю о цинге от Владимира Степановича, а не от тебя, доктора?
Тот переступил с ноги на ногу, оперся рукой о косяк двери и сказал:
— А что толку, если бы я и сказал? Ведь вы все равно не дали лекарств, которые нужны.
— А какие нужны лекарства и что это за болезнь? Не заразная ли она?
— Нет, она не заразная. Каждый заболевает индивидуально, а вызвана она недостатком в питании витамина С — аскорбиновой кислоты.
— Цинга характеризуется, — как по писанному затараторил доктор, — синюхой ушей, губ, пальцев и ногтей, набуханием и кровоточивостью десен, расшатыванием и выпадением зубов. На коже голеней, бедер и ягодиц, появляются точечные кровотечения. Затем на местах давления одежды и ушибов возникают кровоизлияния под кожу в мышцы, а также в органы и полости тела. При этом возникает нестерпимый зуд и боль. Человек не может не только работать, но ходить и даже спать. Потом нарушается работа желудка и кишечника, развивается анемия. Резко понижается сопротивляемость организма к заболеваниям, а в конечном итоге всё кончается смертью. Вот вам короткая характеристика цинги!
— Но все же есть какие-нибудь средства от этой болезни?
— Есть! В первую очередь нужно кормить людей высококалорийной пищей, чтобы они почувствовали в себе силу. Употреблять в еду нужно мясо, овощи, в особенности картофель, а также капусту, лук, чеснок. Очень помогают плоды черной смородины, шиповника, клубники. Можно пить отвар хвои.
— А у нас разве нет хвои?
— Есть, но без хорошего питания она не поможет. Людям нужно мясо и жиры!
— Борис Абрамович, прошу позвать сюда охранников!
Тут же появились охранники и уставились на своего начальника, ожидая нахлобучки. Это были молодые, здоровые, откормленные ребята.
— Вот что, дорогие мои, хватит вам жрать и спать. Завтра с утра пойдете в тайгу на охоту и без дичи не возвращайтесь. Понятно?
— Слушаемся! — В три голоса ответили охранники. — Но дело в том, что у нас только Абас занимался охотой, а мы в этом ничего не смыслим.
— Я вам выделю двух охотников! — Отозвался прораб. — С ними Абас уже знаком.
На следующий день, утром, охранники ждали прораба в конторе. Он зашел, поздоровался и, сказав, чтобы шли следом, вышел за порог. За ним вышли охранники. Дойдя до просеки, прораб попросил подождать и пошел к лесорубам. Найдя Симона и Никиту Пономарёвых, Владимир Степанович подвел их к бойцам и сказал, чтобы все они отправлялись на охоту и без двух оленей назад не приходили. А сейчас пусть идут с ним в контору и плотно поедят, а то не будет сил ходить по тайге. К вечеру в лагерь пришел Симон и сообщил, что удалось, как и было приказано, убить двух оленей, и нужны мужики для переноса. Через час с небольшим, в лагере лежали две убитые туши, вокруг которых сразу собрался народ. С этого дня охотники стали регулярно ходить в тайгу, и не было случая, чтобы они возвращались без добычи. Когда прошёл лед, и спала вода, обозы за продуктами стали отправляться строго по графику. Однажды в лагерь привезли даже две подводы картошки. Локман был доволен, что заготовка леса заметно улучшилась, а прораб радовался, что нашел слабину в характере Локмана. Стало очевидно, что начальник смертельно боялся потерять свое место, боялся потерять доверие начальства и всякую надежду на карьеру в карательных органах, мечту всей своей жизни.
Весна вступила в полную силу, полая вода унесла лед, а цинга и брюшной тиф унесли в могилы семьдесят две жизни ссыльных. Те, кто остался в живых, продолжали валить лес, сбрасывая его в реку. Быстрое течение подхватывало бревна, раскручивало их, но, столкнувшись с другими бревнами, они успокаивались и устремлялись в путь. Прораб говорил Ивану Ивановичу:
— Лучше было бы сплавлять лес плотами, но их нечем вязать, да и дело это хлопотное, требует много времени. Зато оставили бы после себя чистую реку, а то загадим ее так, что нельзя будет потом по ней не только пароходам, но и лодкам ходить. К тому же на перекатах и изгибах, бревна будут втыкаться в дно реки, тонуть, потом гнить, отравляя не только воду, но и рыбу. Только кому все это нужно?
В это время бригада плотников Егора Ивановича основательно готовилась к строительству жилого барака. Прораб распорядился вырыть под барак котлован, в который опустить сруб на глубину в два штыка лопаты с тем, чтобы исключить обледенение стен в лютые зимние морозы. Верхний рыхлый слой земли залегал всего на две ладони, а под ним оказалась такая твердая глина, что ее пришлись рубить не только лопатами, но и топорами. Прораб, видя, что при такой работе рыть котлован потребуется не менее месяца, дал указание Хохлу выделить в помощь бригаде еще несколько мужиков, но при условии, чтобы они умели делать кирпичи. Иван Иванович знал, что Рыбины и Пономарёвы для своих домов сами резали кирпичи, сами обжигали их. Поэтому он позвал к себе Никиту и сказал ему, чтобы он, со своими шуряками, шёл на помощь строителям. И когда будет снят первый слой глины, принимались делать кирпичи для печек. Никита спросил:
— А где же, Иван Иванович, брать песок?
— Песок брать речной, другого нет!
Мужики предложили Егору Ивановичу заняться изготовлением форм для кирпича и лотка для резки глины, а сами занялись рытьем котлована. Вскоре неглубокий котлован был вырыт. Плотники ушли тесать брёвна для сруба, а формовщики начали готовить замес из глины. Выбрали довольно обширную ровную площадку, очистили ее от травы и кустарника, посыпали песком. Месили глину Федор и Михаил Дымковы верхом на лошадях. Вскоре на площадке перед лотком стали ложиться ровные ряды кирпича-сырца. Обрубщикам сучьев было сказано, чтобы они теперь ветки и сучья не сжигали, а собирали их и приносили на берег реки, где было решено вырыть яму для обжига.
Строители, не покладая рук, занимались благоустройством, а больных в лагере становилось все больше и больше. Не помогало и то, что люди теперь систематически питались наваристым бульоном. Кроме того, подростки, старики и даже старухи занялись рыбалкой. Появились верши, корзины, топтушки, пауки из женских юбок и даже удочки. Добро, что в реке водилось много рыбы. Во многих семьях появилась уха, варёная рыба. Её стали коптить и вялить, запасая впрок на зиму. Весь лагерь и люди пропитались рыбьим запахом, который висел в воздухе даже в самую ветряную погоду. Цингу, благодаря улучшившемуся питанию, еще удалось приостановить, но участились случаи заболевания тифом, и появилась угроза эпидемии. Локман распорядился соорудить поодаль несколько шалашей и разместить в них тифозных. Ухаживать за ними вызвалась Нюрка и Варька Пономаревы, тем более что тифом заболели их сестры Дуня и Татьяна.
Однако страх перед жуткой болезнью вытеснили произошедшие вскоре события.
Однажды ребятишки, ходившие на рыбалку, наткнулись на утопленника, которого волной прибило к берегу. Они позвали плотников и проводили их к берегу, где в прибрежных кустах на легкой зыби покачивался труб незнакомого человека. Вскоре пришло лагерное начальство и распорядилось вытащить утопленника на берег. Осмотрели карманы, но ничего в них не обнаружили. На вид ему было лет сорок. Лицо худощавое, со свежей щетиной, не тронутое водой. Очевидно, утоп он недавно и недалеко от лагеря. На нем был добротный костюм и такое же пальто. В расстегнутое пальто просматривалась белая дорогая сорочка с запонками на манжетах и коричневые остроносые туфли. Всё указывало на принадлежность утопленника к интеллигентному сословию. Комендант распорядился закопать нежданного гостя, повернулся и ушёл. В лагере весь вечер обсуждали происшедшее: «Кто он? Как попал в эти края?» Загадка вскоре стала ясной и понятной для всех.
Утром мужики, сбрасывающие в воду бревна, заметили лодку, плывущую по реке. Очевидно, лодка была пустой, так как никто ей не управлял. Симон быстро разделся, вошел в воду и поплыл наперерез. Доплыл, ухватился рукой за край, перелез через борт, уселся на скамью и, взяв весла, быстро повел лодку к берегу. Неожиданная находка очень обрадовала, но ближе к обеду, работающие на берегу, заметили несколько плывущих утопленников. Двое мужиков сели в лодку и вскоре вытащили на берег пять трупов очередных незваных гостей. Об этом сообщили начальнику, который вскоре пришел, посмотрел на трупы и сказал, чтобы их опять бросили в воду и пусть плывут от греха подальше. После чего дал команду продолжать работу. Многие стали креститься и осуждать Локмана, говоря, что нужно было бы похоронить их по-христиански и предать земле, а так весь грех ляжет на лагерников. И тут старый Парфен из Гвоздёвки заметил на реке что-то черное, длинное и округлое. Никто из присутствующих ещё не видел ничего подобного и поэтому все насторожились и замолчали. Пока стояли, словно в столбняке, заворожённые необычным зрелищем, подошел прораб, посмотрел и сказал, что это приближается перевернутая вверх килем деревянная баржа. Мужики опять сели в лодку и поплыли навстречу чудовищу. Спустя некоторое время, походив по дну баржи, они вернулись и рассказали, что обнаружили в днище баржи довольно внушительную дыру, через которую видны тела захлебнувшихся людей. Прораб сказал, что ни в коем случае ничего не надо делать и пусть баржа продолжает свой скорбный путь. Сбежавшиеся на берег поселенцы потянулись в лагерь. Подошедший на шум Хохол спросил:
— Как, Владимир Степанович, это всё объяснить? Сначала лодка, потом утопленники, а теперь вот баржа?
— В этом нет ничего загадочного, — ответил прораб, направившийся вместе с другими в лагерь. Он вдруг остановился и повернулся к Ивану Ивановичу.
— Лагерное начальство готово идти на любые подлости, чтобы только иметь себе выгоду. Ты мне говорил, что вас несколько дней держали в церкви, потом везли целый месяц в поезде без еды, а ведь деньги, хотя бы на хлеб, начальник эшелона наверняка получил. Благодарите теперь Бога, что не все передохли по дороге. Тем, кого мы видели на реке, повезло меньше. Их погубили всех до одного, и никто за это не ответит. Погибших спишут за счет болезней и концы в воду. Спрашивается, почему их не повезли поездом, а баржей? Да потому, что это выгодно! В бумагах написали, что для сопровождения заключенных в поезде выделено несколько десятков бойцов и командиров, на которых положено получить командировочные, а фактически забили под завязку заключенными баржу, закрыли трюмы крышками, поставили на палубе двух бойцов и отправили в путь, не боясь побега или бунта. В плавании баржа налетела на корягу или камень, в пробоину хлынула вода, и люди захлебнулись. Охранники даже не открыли крышки, когда баржа стала крениться на бок, а сели в лодку и высадились на берегу, пустив лодку по течению. Несколько трупов через пробоину выдавило наружу, вот мы их и увидели. Объяснить это можно двумя словами — запланированное убийство!
Теперь баржу встретят ниже по течению, подтащат к берегу, и такие же заключенные, под дулами винтовок, закопают несчастных в подходящей низинке. И все будет шито — крыто!
Прораб попросил Ивана Ивановича подождать его и зашел контору. Локман лежал на топчане, заложив руки за голову, и о чем-то думал. Прораб поздоровался и присел на скамейку.
— Ну, чего нового? — спросил его Локман.
— Да вот, Исаак Ефимович, проплыла перевернутая баржа с утопленниками!
— И чего вы сделали?
— А чего мы могли поделать с такой махиной. Посмотрели на нее и проводили с Богом!
— Правильно сделали. Ещё не хватало нам забот!
— Да, Исаак Ефимович, зашел я к вам вот по какому делу. У нас опять кончаются продукты. Правда, есть рыба, но кончился хлеб, подходит к концу мука, крупа, сухари. Нет даже соли. Кроме того, нам нужно стекло для окон и литье для печей. Так что кому- то из нас придется ехать в Котлас.
— Я думаю, что мне пора съездить в город и уладить кое-какие дела. Так что готовь лошадей на завтра, утром я и уеду. Только ты подготовь справку о количестве заготовленного и сплавленного леса.
— Хорошо, Исаак Ефимович, все будет сделано!
Выйдя из конторы, прораб на просеке нашел Иван Ивановича и приказал, чтобы к утру были готовы поводы для поездки в город. Тот кивнул головой и отправился искать Никифора Дымкова, предупредить о намеченной на утро поездке в Котлас.
— С вами поедет начальник лагеря, — объяснял Никифору Иван Иванович — который будет занят своими делами. Вам же придётся подобрать некоторый материал для стройки. Запомни, что нам нужно стекло для окон. Хорошо бы там нарезать его по единому стандарту 30 на 25 сантиметров. Если нарезать не получится, то берите полную упаковку, но в таком случае купите пару стеклорезов. Для печей купите пять плит, пять духовок, пять дверок для топок и пять дверок для поддувала. Столько же колосников и вьюшек. Это самое главное, а полный список я дам тебе завтра утром. Да не забудь наносить травы в подводы. А теперь иди и готовься к отъезду!
Дав наказ Никифору, Иван Иванович направился к своему шалашу. Ему хотелось отдохнуть и перекусить. Там он увидел Никиту Пономарёва, который сидел на скамейке у входа и курил, явно ожидая его. Иван Иванович поздоровался с Никитой, присел рядом и тоже закурил. Всегда самоуверенный и наглый, Никита в этот раз выглядел растерянным и жалким. Он первым нарушил молчание, и в его голосе почувствовалось тоска и отчаяние:
— Скажи мне, Иван Иванович, чего ждать? Загнали нас на край света, да и здесь мы никому не нужны. Нас специально морят голодом и работой. Люди еле ноги волочат. Ты же знаешь, что моя баба до этого весила шесть пудов, а сейчас от нее даже половины не осталось. Детишки начинают пухнуть. От цинги люди заживо гниют. Как-то зашел к тифозным и увидел не людей, а скелеты, обтянутые кожей. Хлеб мы видим изредка, а сейчас нет ни крупы, ни муки. От рыбы скулы сводят, я не только есть, но и глядеть на неё уже не могу. Если мы и дальше так будем жить, то скоро все передохнем. Не пора ли нам, Иван Иванович, сматываться отсюда?
— А как ты, Никита, думаешь это сделать?
— Очень просто. Разоружить охрану, а если нужно, то расправиться с ними, захватить какие есть продукты, дойти до железной дороги и податься на шахты или домой.
— Я понимаю, что расправиться с охраной никакого труда не составит. А дальше? Нас, почти тысяча человек, из которых более половины детей, стариков и больных. И ты думаешь, что они смогут пройти более сотни верст до железнодорожной станции, где их ещё будет ждать эшелон с паровозом? Не смеши. Как только в Котлас перестанут приплывать брёвна, тут же сообразят, что в нашем лагере что-то случилось и пришлют бойцов. По нашим следам пустят собак. А так как мы будем еле передвигать ноги, то нас быстро догонят и хорошо, если вернут в лагерь, а могут и перестрелять, всех до одного, прямо на месте. И родные не узнают, где могилка твоя! Так что, Никита выбрось из головы эту затею и терпи.
Никита ушел. Больше к этому разговору он не возвращался, словно внял совету Ивана Ивановича и постарался забыть о своей минутной слабости. По-прежнему был деловит и непоседлив. Тем более, что дел было невпроворот. К этому времени подсохли, изготовленные из глины и песка, кирпичи. Их загрузили в яму и начали обжиг, периодически сменяя друг друга у печи в течение суток. С едой было совсем плохо. Бабы рвали молодую траву, варили баланду в виде зеленых щей и ждали обоза, надеясь на подвоз продуктов. А он не ехал, словно пропал в глухой тайге. Наконец, на исходе недели, за поворотом показались подводы, надежда изголодавшихся людей. Народ побросал работу и потянулся к конторе. Из первой повозки выпрыгнул Локман, пожал руку прорабу и спросил о делах. Тот ответил, что все идет хорошо, но людям недостаточно еды, и пока их так долго не было, выработка резко упала. На замечание прораба, что люди голодают, Локман никак не отреагировал, а стал рассказывать, почему они задержались в Котласе. Он сказал, что на другой день после приезда состоялось очередное совещание в горкоме партии, которое длилось два дня. Его похвалили за перевыполнение плана по заготовке древесины и он, воспользовавшись этим, попросил выделить продуктов больше нормы и получил их сполна. Локман, сияя, рассказывал, как его ставили в пример другим комендантам лагерей, и по всему было видно, что он еще находится под впечатлением.
Прораб, слушая начальника лагеря, думал, что если бы высшее руководство умело не только читать отчеты, а еще считать и переводить бревна в кубы, то Локмана не только не стали бы хвалить, а тут же сняли с поста и отдали под суд за обман и очковтирательство. Владимир Степанович с трудом отвязался него и стал пробиваться сквозь людскую толпу к подводам. К этому моменту с последней подводы сняли клетку со стеклом и печное литье. Продукты все еще лежали нетронутыми, люди ждали раздачи. Прораб развязал мешки и обнаружил в них только хлеб, пшено и сухари. Не было ни сахару, ни жиров, ни муки. Он подозвал к себе Ивана Ивановича и распорядился раздать по полуфунту пшена на каждого человека, начиная с малышей и кончая стариками. На каждую семью пришлось еще по буханке хлеба и пригоршне сухарей. Когда раздача была закончена, на последней подводе осталось лежать несколько мешков с продуктами для начальства. Прораб не стал развязывать мешки, заранее зная содержимое, а только приказал перенести их в контору, что и было сделано.
С каждым днем становилось теплее. Солнце поднималось все выше и выше, дни становились длиннее, и казалось, что скоро наступить сплошной день. Вся округа покрылась изумрудной зеленью, радуя глаз и душу восторженной жизнью. Радовались этому птички, наполняя воздух весенним щебетанием. Не радовались весенней красоте лишь люди, изнуренные перенесенными холодами, голодом и беспросветной нуждой. К тому же появились комары и мошка. От этого наказания нельзя было скрыться ни в лесу, ни в бараке — ни днем, ни ночью. От обилия кровососов не спасала одежда, костры, дымари. Закрывая лица, люди обвязывались до глаз тряпьем, но насекомые лезли в глаза, начисто ослепляя их. На ночь прямо в бараке жгли костры, подбрасывали в них сырую траву для дыма. Народ задыхался, кашлял и не мог уснуть. А утром, не выспавшись, с больной головой и с пустым желудком, бедолаги, словно тени, тянулись на работу. Страна требовала выполнения пятилетки в четыре года. Теперь их никто не подгонял, никто не торопил, но они, словно заводные, продолжали валить и сплавлять лес, как того позволяли остававшиеся еще силы. Даже начальник лагеря, вначале рьяно взявшийся за наведение порядка в лагере, понял, что от этих людей, измученных голодом и болезнями, большего требовать невозможно и смирился с тем, что есть. И все же, несмотря на все невзгоды, люди думали о будущем и обживались. Заселили первый барак, завершили другой, заложили третий. Закончив обжиг кирпича, Никита Пономарёв с родней клал печи. Печки из рук Никиты выходили неказистыми, но горели и грели хорошо. Сначала соорудили плиту с духовкой в конторе. Прораб, посмотрев, распорядился в каждом бараке установить по две печки и готовить дрова на зиму.
Все взрослое население лагеря и подростки каждый день трудились на лесоповале. Поэтому днем в бараке оставалось они ребятишки, но они, помня наказ родителей, вели себя тихо. Сдерживало еще и то, что в помещении, кроме них, было много больных, в том числе родных и знакомых. Однажды, когда родители были на работе, в барак зашел комендант лагеря. Он поздоровался с ребятами, прошел вдоль рядов нар и внимательно осмотрел больных. Потом опустился на скамейку и взмахом руки подозвал к себе малышей. Они, напуганные его приходом, жались друг к другу, затаив дыхание, и боялись пошевелиться. Из разговоров взрослых дети давно уяснили, что самый большой начальник злой и от него ничего хорошего ждать не приходится. И поскольку все невзгоды идут от него, боялись коменданта, как огня, стараясь лишний раз не попадаться на глаза. Видя, что детишки напуганы, он слегка улыбнулся и, ткнув пальцем в более рослых ребят, велел подойти к нему. Те, прячась друг за друга, сделали несколько шагов и остановились. Он стал спрашивать имена и фамилии, учились ли они и в каком классе, расспросил о родителях. Выслушав ответы, начальник немного подумал и сказал:
— Вот что, ребята! Я знаю, что многие из вас помогают родителям в работе, но этого мало. Нужно вашим родителям организовать небольшой отдых и немного повеселить их. Давайте вместе устроить им праздник. Вы, наверное, видели в своих селах выступления комсомольцев? Вот и мы сделаем то же самое. Согласны?
Большинство ребят ничего не поняли, что от них потребовал этот страшный человек, но согласно закивали головами. В этот же день плотники получили задание и, прекратив строительство барака, стали сооружать рядом с конторой помост для выступления самодеятельных артистов. Репетиции Локман вёл лично сам. Он оказался неплохим режиссером, но люди, узнав об этой затее начальника, только качали головами и между собой говорили, что человек с жиру взбесился. Иван Иванович от прораба знал, что Локман, в свою бытность, отвечал за политико — воспитательную работу среди зеков, и вот теперь на него вновь напал организаторский зуд, тем более, что он просто изнывал от безделья.
В один из редких выходных дней, возле конторы собрались все жители лагеря, не считая тяжелобольных. Ждали выступления новоиспеченных артистов. Для этого случая Локман приказал женщинам сшить выступающим трусы, невиданную для деревни одежду, и облачить всех в майки. Перетряхнули весь лагерь. С горем пополам, из каких-то шобол сварганили не то трусы, не то штаны до колен, но приказ был выполнен. Ввиду отсутствия резинок, обошлись одной помочью через плечо. Перед выступлением ребят помыли, причесали, и поскольку маек сделать было не из чего, решили выступать без них, в одних трусах. И вот в одних трусах, с выступающими ребрами и ключицами, ребята выстроились на помост и ждали команды начальника. А он, выйдя вперед, с высоты помоста сначала обратился с речью к зрителям, говоря о новой социалистической эре в жизни страны, о великих стройках, о пятилетнем плане и сознательном отношении к труду. После вступительной речи, по сценарию Локмана, ребята должны были под грохот барабанов промаршировать по помосту, выстроившись в затылок друг другу, а затем построить пирамиду. Барабана в лагере не нашлось и пришлось его заменить железной бочкой, установленной на левом краю импровизированной сцены. Васька Рыбин, полный достоинства и гордости за порученное дело, по знаку начальника лагеря забарабанил оструганными палками по бочке. Ребята, под звук неладной дроби, как могли, держали строй, но все же сбились с ритма и, наступая друг другу на пятки, толкаясь и стараясь не упасть, с горем пополам закончили круг почета. Потолкавшись еще немного, они выстроились в одну шеренгу и стали ждать. Наконец барабан умолк и Гришка Дымков, самый рослый и крепкий парнишка, низко нагнулся над помостом, расставив в стороны руки. К нему на спину взобралась Нюрка Пономарёва, маленькая, тщедушная девчонка с красным флажком в руке. Впереди Гришки встали брат и сестра Рыбины с молотком и серпом в зажатых кулаках, а два двоюродных брата Пономарёвы, Иван и Митрофан, уцепившись за вытянутые в стороны руки Гришки, откинулись в стороны, лицом к зрителям. То ли братья нечаянно дернули Гришку за руки, то ли у Нюрки закружилась голова, но она вдруг качнулась, сорвалась и во весь рост растянулась на досках. Фекла с криком кинулась дочери на помощь, вскочила на помост, подхватила ее не руки и, прижав к себе, побежала к бараку. Пирамида при падении Нюрки развалилась, и ребята в нелепых позах забарахтались на сцене, мешая друг другу подняться на ноги. Выручили девчонки в красных косынках с красными полотнищем, на котором неровными буквами было написано: «Пятилетку — в четыре года!» Они поднялись на сцену и своим транспарантом закрыли от зрителей барахтавшихся ребят. Следом вышел Гришка из Рудовки, встал сбоку полотнища, перекинул через плечо ремень неизвестно откуда взявшейся гармошки и стал ждать, когда на импровизированную сцену поднимется ещё одна группа ребятишек. Когда все успокоились, он громко объявил, что сейчас детский хор исполнит революционную песню. Потом перебрал лады, сыграл вступление и, кивнув головой, бодро и ладно повел мелодию. Хор дружно подхватил песню:
С неба полудённого
Жара не подступи,
Мы, конница Будённого,
Рассыпались в степи.
За соцсоревнование,
За пятилетний план,
Мы выполним задание
Рабочих и крестьян.
Певцы они были неважные, тянули кто в лес, кто по дрова, но желания перекричать друг друга, у них было не отнять. Конечно, вникнуть в смысл этой песни они не старались, и для них было безразлично, кто будет выполнять пятилетний план. То ли рабочие и крестьяне, то ли конница Будённого? А может быть, конница Будённого без соцсоревнования не могла рассыпаться по степи? Но пели от всей души. Лучше всего получилась пляска, которую исполнил Митрошка Пономарёв и Наташа Чульнева. Маленькие, худенькие, они так красиво и азартно отплясывали «барыню», что люди долго хлопали им в ладоши. Это было первое и последнее выступление маленьких артистов.
С продуктами опять начались проблемы. Прошло около месяца с того времени, когда люди последний раз получили скудный паек, и с тех пор о продуктах не было ни слуху, ни духу. Правда, начальник лагеря систематически ездил в Котлас, но всякий раз повода возвращались пустой. Люди питались, в основном, рыбой и травой. Хлеба не было. К тифу и цинге прибавилась дизентерия. Второй барак был под завязку набит больными. Люди лежали пластом на нарах, многие не могли ходить. В бараке стояло такое зловонье, что даже здоровый человек не мог бы вынести этого смрада в течение нескольких минут. Многие больные лежали без памяти, от боли они стонали и нагоняли тоску. Вновь появились покойники, и мужики только успевали рыть могилы. Хоронили в глубоком молчании, без ритуального оплакивания.
Друг за другом умерли две дочери покойного Митрофана Пономарёва, Татьяна и Дуняша. Симон тяжело переживал смерть своих сестёр, обвиняя в этом себя. Стоя у свежей могилы, он со слезами на глазах говорил Ивану Ивановичу, пришедшему выразить сочувствие, что если бы он мог хоть немного добыть мяса, то они были бы живы.
— Иван Иванович, пойми меня, — всхлипывал Симон и говорил, словно оправдываясь, — где я мог добыть мяса, если всех зверей заела мошка, и они ушли в тундру, к морю, где более сильный ветер.
Иван Иванович слегка похлопал Симона по плечу и сказал:
— Не казни себя, Симон, не твоя вина в гибели сестёр, а тех, кто вышвырнул нас из дома и загнал в этот богом забытый угол. Живи ради живых. Разве виноваты те, кто лежит под этим крестом? Разве виноваты те, кто еще продолжает жить? А пока живи, береги других сестренок, не вешай носа. И на нашей улице будет праздник.
Симон ушел, а Иван Иванович отправился к Дарье, которая должна была прийти с работы покормить детей. Он уже подходил к бараку, как увидел, что она с Марией вышла из него и направилась ему навстречу. Иван попросил её отойти подальше от барака, там остановил и сказал:
— Мне Владимир Степанович приказал найти бабёнку, чтобы готовила начальству еду и иногда стирала бельё. Вот я и решил приспособить к этому тебя.
Ну, что ты скажешь на это?
— А что? Разве нет других баб?
— Баб-то много, но какой мне резон брать незнакомых. Ведь мне приказано подобрать бабу и отвечать за нее буду я. Мне нужна женщина, какой я буду полностью доверять и на которую могу положиться.
— Да какой из меня повар? Ты, Иван Иванович, как хочешь, но я туда не пойду. Начнут расспрашивать кто я такая, откуда, где муж?
— Ты, Дарья, дура или прикидываешься? Ты что не знаешь, как варить щи, лапшу или картошку? Они всё едят всухомятку, и им это надоело. Самое главное в том, что ты будешь кормить детей! Ты думаешь и дальше кормить их рыбой? Скоро наступит зима, река замёрзнет, и мы точно передохнем, если нас дальше так будут снабжать продуктами. За все лето дали по куску хлеба, да жменьке пшена и все. А тут в твоих руках будут хорошие продукты, ибо начальство не оставляют без еды. Думаю, и на нас хватит!
— Ты мне что? Прикажешь воровать? Я этого не смогу сделать!
— А я тебя и не заставляю воровать. Боже сохрани! Но, Дарья, придется немного хитрить. Пройдет 2–3 дня, и ты будешь знать у кого какой аппетит. Питаться будут шесть человек, а ты готовь, чтобы хватало на восемь. Когда будешь разливать еду по мискам, то наливай в них так, чтобы еда оставалась. Остатки будешь собирать и приносить детям. Они поедят, и тебе достанется. А насчет расспросов не беспокойся. Во-первых, начальник лагеря без расспросов знает кто ты такая и откуда, а во-вторых, ты для него не человек, а берёзовое полено. Теперь хватит болтать и пошли на новую работу. В первое время я буду приходить к тебе, а потом сама привыкнешь. Пойдём, а ты, Мария, в лес не ходи, иди в барак и отдыхай. Потом я найду занятие и тебе.
Иван Иванович смело поднялся на крыльцо конторы и толкнул двери. Оглянувшись, он увидел, что Дарья остановилась перед крыльцом и боялась сделать следующий шаг. Лицо у неё побелело, губы тряслись, и казалось, что она вот — вот упадет в обморок. Он понял, что Дарья панически боится войти в контору.
— Ты, Дарья, перестань трястись и шагай смелей, теперь здесь будешь полной хозяйкой. Так что входи в контору и начинай заниматься своими делами.
Они вошли в комнату охраны. Двое из них играли в карты, а третий спал на топчане. Увидев входящих, охранники встали из стола и поздоровались. Один из них толкнул спящего товарища и разбудил его. Он очнулся, посмотрел на гостей и тоже поздоровался.
Иван Иванович ответил на приветствие охранников, сел и, подвинув ногой табурет, пригласил Дарью садиться. Когда все уселись, он осмотрел ребят и сказал:
— Прошу любить и жаловать! — указал он на Дарью — Зовут ее Дарья Сергеевна, она будет, как распорядилось начальство, готовить вам горячую еду, а то консервы, наверное, надоели до чёртиков. Кроме того, если нужно будет, она и белье постирает. Есть будете три раза в день. Вы понимаете, что готовка требует много времени, а поэтому придется ей по — возможности помогать. Хотя бы снабжать водой и дровами. Да не забывайте её покормить.
— Ну, это для нас не трудно, — отозвался Абас. — Даю слово, что мы её в обиду не дадим.
— А у кого находятся ключи от склада? — спросил Иванович, окинув взглядом ребят.
— Ключи у меня, — отозвался Абас и стал шарить по карманам. Наконец он нашел ключи и показал Хохлу.
— Дай их мне, — сказал Хохол и протянул руку. Он взял ключи и передал их Дарье.
— Отныне, если кто-нибудь проголодается или кому-нибудь захочется отведать другой еды, то нужно будет обратиться к Дарье Сергеевне. Думаю, она будет кормить вас до отвала, а поэтому прошу вас каждый вечер, после ужина, заказывать Дарье Сергеевне на следующий день то, что бы вы хотели видеть на столе. Надеюсь, что вам все ясно, а поэтому, не откладывая в долгий ящик, давайте отправим её на кухню. Что бы вы хотели поесть?
— Я бы хотел — начал самый молодой охранник Лёшка, — хоть раз наесться щей со сметаной.
— А я бы поел плов из барашка, — выдал Абас.
— А мне всё равно, было бы побольше, — сказал Фрол.
— Ну, а как начальство? — спросил Хохол.
— Им безразлично, что подадут — отозвался Лешка, — начальник лагеря кушает мало, доктор питается только спиртом, а Владимир Степанович подметёт всё, что дадут.
— Тогда, ребята, за дело. Нужно принести воды, нарубить дров и затопить печь.
Охранники, словно по команде, встали и вышли из конторы. Оттого, как говорил Хохол с охраной, Дарья поняла, что не так страшен чёрт, как его малюют. Постепенно она оттаяла, успокоилась и уже с любопытством рассматривала убогую обстановку конторы.
— А теперь, Дарья, пойдем, посмотрим твое хозяйство!
Они зашли в небольшое помещение кухни и осмотрелись. Плита была ободрана, облита какой-то дрянью, кастрюли были закопчёны и выглядели неприятно.
— К твоей еде придираться никто не будет, но чистота и порядок начальнику должен понравиться. Поэтому тебе придется сделать капитальную уборку. Нужно вымыть полы, на обеденный стол постелить чистую простынь, вычистить песком посуду, да не мешало бы побелить плиту. А теперь пойдем на склад и посмотрим, что там есть из продуктов.
На складе был такой же хаос, как и в конторе. В одну кучу были свалены мешки, ящики, банки, ведра, грязное белье и разный хлам. Убрав из-под ног разбросанные вещи, они стали разбирать продукты. То, что Дарья увидела, её поразило наповал. Тут были всевозможные крупы, макаронные изделия, мука, топленое и подсолнечное масло, сало, консервы. Иван Иванович отрезал кусок копчёной колбасы и хлеба, и приложив палец к губам, подал Дарье. Потом отрезал то же самое, положил себе в карман и сказал, чтобы Дарья отварила начальству рис, заправила его топлёным маслом и прожаренным луком с кусочками колбасы.
— Да, — сказал он напоследок, — не забудь про чай и заварку!
Он ушел, обещав заглянуть вечером. Но ни вечером, ни на другой день он так и не нашел времени заглянуть к Дарье. Придя в барак, он узнал, что умер старый священник. Умер он, как и жил, тихо и незаметно. Даже скудный паек, который выдавался ссыльным, батюшке и матушке, как неработающим, не полагался. Жалея их, люди, по мере возможности, подкармливали стариков, хотя голодали сами. Покойник лежал на столе в чистом белье, со сложенными на груди руками, в которых тлел неизвестно откуда взявшийся восковой огарок свечи. Длинные седые волосы и борода были тщательно причесаны. Лицо не изменилось, было строгим и одухотворенным. Когда Иван Иванович зашел в барак, он увидел множество людей. Казалось, что здесь собрался весь лагерь, а люди все приходили и приходили, крестились и кланялись. Возле покойного стояла матушка, она не плакала, а только беззвучно шептала и казалось, что она не замечает своих прихожан, столпившихся вокруг стола. Слышался приглушенный плач баб. Чульниха вздрогнула, перекрестилась и сказала:
— Господи! Мы — то люди грешные, а за что, за какие грехи ты наказал этого святого человека?
Эти слова как гром поразили Ваню Пономарёва. Он вырос в семье, где к религии относились равнодушно. Правда, в красном углу висело несколько икон, по праздникам зажигали лампадку, но, садясь за стол, никто не крестил лба, детей не учил молитвам и никогда в семье не соблюдали постов. От своих товарищей и взрослых Ваня слышал, что священники люди святые и после смерти они воскресают, и Господь их забирает на небо. Вот почему Ваня с нетерпением ждал воскрешения батюшки и боялся пропустить этот важный момент. Но, услышав от Чульнихи, что священник тоже грешник, а значит, не воскреснет и ждать больше нечего, дернул Чульниху за юбку и спросил:
— Значит, наш батюшка не воскреснет, если на него обиделся сам Бог? Он что, грешник?
— Не знаю, деточка, грешник или нет, но то, что он страдалец за наши грехи знаю хорошо. За свою долгую жизнь много я видела смертей, но никто ещё не встал, не воскрес. Будь то священник или грешник, никто из них не вернулся с того света! Разочарованный словами Чульнихи, Ваня глубоко вздохнул и тихо вышел из барака. И тут же к Чульнихе подошел Иван Иванович и сказал, что хорошо бы похоронить священника в гробу, а не завернутого в тряпье, как хоронили всех остальных, умерших до него. Чульниха ответила, что гроб уже делает Егор Иванович, а несколько мужиков роют могилу. Хоронили батюшку всем лагерем. Пришел прораб и бросил несколько комочков земли на крышку гроба покойного.
Наутро, впервые в августе, на землю легли заморозки. С восхода солнца земля оттаяла, и Иван Иванович пригласил Яшку Пономарева с женой копать картофель. К удивлению картофель выдался довольно урожайным, хотя сажали его не целыми клубнями, а картофельной кожурой с глазками. Рядом с ними убирали урожай Никита, Симон, Дымковы и еще несколько семей, сообразивших не съесть, а припасти очистки и посадить картофель. К вечеру урожай был собран и перенесен в барак. Иван Иванович высыпал в мешок два ведра картофеля, заставил братьев выделить по одному ведру и по пригоршне муки из последнего привоза продуктов. Никита с Симоном всё отнесли матушке, оставшейся после смерти отца Василия совершенно без всяких средств к существованию.
С каждым днем заморозки становились все сильнее и крепче. С заморозками пропала мошка и комары. Люди с облегчением вздохнули, но холода принесли с собой и другую заботу. Люди были плохо одеты, а обувь у многих совершенно развалилась. Иван Иванович собрал стариков и сказал им, что они освобождаются от заготовки леса, и отныне будут плести лапти, на изготовление которых из очередной поездки, привезли целую телегу лыка в мотушках. Лаптей требовалось много, так как нужно не только обувать людей, но и делать запас из лаптей, ибо они будут быстро изнашиваться на работе. В конце августа выпал первый снег, а в начале сентября разрядилась метель. Метель бушевала целую неделю, не давая людям выглянуть на улицу. О работе не могло быть и речи. В бараке стояла одурманивающая духота, смешанная со спертым воздухом.
И все же людям нужно было выходить из барака. Дымковым нужно было ходить к лошадям, кое-кому во второй барак, в котором отвели место больным, топить печи, кормить лежачих, поить и умывать их. Дарья ходила каждый день в контору, для уборки и приготовления еды. Она постепенно привыкла к своей работе, освоилась, и ей стало даже нравиться. Охранники и начальники, по её словам, относились к ней хорошо и даже сажали иногда за свой стол. При встрече Дарья докладывала Ивану Ивановичу, что сделала и что ещё хочет сделать. Говорила, что сменила постель, выстирала бельё с мужиков. Охранники хорошо помогают по хозяйству, в конторе тепло и чисто, а главное сама сыта и подкармливает детей.
Зачастили метели. Каждый день мужики откапывали двери от снега, проделывая в сугробе глубокий коридор. Барак занесло снегом до самой пелены, и о поездке в Котлас нечего было и думать. С приходом зимы и морозов болезни пошли на убыль, но истощенные болезнями и голодом люди продолжали умирать. Не проходило и дня, чтобы не появилось покойника. При таких суровых морозах нечего было и думать о могилах. Пришлось трупы закапывать в снег, отложив похороны до весны. А ночью к бараку собирались стаи волков, вырывали покойников и устраивали пиршество. Наутро мужики собирали кости и отдельные части человеческих тел. А между тем ночи становились длиннее и длиннее, казалось, что им не будет конца. Эта угнетающая темнота так надоела всем, что люди не знали, куда себя деть. Правда, мужики ухитрились изготовить несколько светильников из консервных банок, подобранных возле конторы и заправить их рыбьим жиром. Потом Иван Иванович принес из конторы две бутылки керосину, налил его в светильники. Редкие хилые огоньки светильников коптили, отбрасывая на стены и потолок причудливые тени. Мужики собирались возле горящих печей, открывали дверцы, курили и вели неторопливые разговоры, вспоминая родные места. Кляли местную власть, уполномоченных, приезжавших для организации колхозов. Кляли коменданта лагеря, обвиняя его во всех смертных грехах, во всех своих несчастьях. Но никто, ни разу не обвинил правительство страны, Сталина, да они и не знали больше никого из тех, кто стоит во главе государства.
После бурь и снегопада установилась ясная морозная погода. Снег завалил барак, хорошо держал в нем тепло, и в помещении было даже душно. Мертвые постепенно освобождали места живым. Наконец Дымковы с третьей попытки пробили дорогу к городу, что дало возможность начальству лагеря поехать в Котлас. Возвратились они через три дня, но не оправдали ожидания людей, которые с надеждой мечтали о продовольствии. Продукты не привезли. Привезли деньги для раздачи работающим людям. Это была первая зарплата ссыльным, за всё время пребывания в лагере. Было объявлено, что деньги будут выплачиваться за полгода из расчета двенадцать рублей месяц. Злились люди не на мизерную зарплату, а на то, что даже за эти гроши ничего нельзя было купить. В лагере магазинов не было, а в город дорога для них была закрыта. Да если бы и был доступ к магазинам, то без продуктовых карточек в них делать было нечего. Мужиков утешало одно, что Дымковы, ездившие в Котлас, привозили махорку.
Получил свою зарплату и Иван Иванович. Выйдя из конторы, он столкнулся с прорабом, который, глядя на зажатые в руке деньги, насмешливо сказал:
— Ну, что, Иван Иванович, сходим в магазин?
— Да вот получил деньги и не знаю, что с ними делать. То ли плакать, то ли смеяться? Кому они нужны эти деньги. Это что? Насмешка над людьми или очередная возможность поиздеваться?
— А не скажи, — ответил прораб и по его лицу пробежали тени отчаяния. — Давай, Иван Иванович, присядем вон на той скамье, — сказал прораб и пошел к помосту, где летом выступали самодельные артисты.
— Ты вот говоришь, кому эти деньги нужны? Во всяком случае, не мне. Послать их своей семье я не могу, а здесь они ни на что не нужны. Меня одевают, кормят неплохо, так что тратить мне их негде. Когда нас направляли в лагерь, говорили, что все руководство лагеря будет получать по семьдесят рублей в месяц, минус двадцать восемь рублей которые будут вычитаться у нас за продукты и одежду. Таким образом, все мы получаем на руки по сорок два рубля. Нужно сказать, что зарплату нам все время выдавали регулярно, чего не скажешь о вас. Еще сказали, что все переселенцы при условии выполнении плана будут ежемесячно получать по тридцать рублей, минус восемнадцать рублей за продукты. Вот почему вам по двенадцать рублей на руки. Как мы ухитрились не только выполнить, но и перевыполнить план, ты знаешь. Но я уверен, даже наверняка знаю, что Локман не доложил высокому начальству о том, что в нашем лагере умерли сотни людей, что половина, из оставшихся в живых, больны и не работают. Тому несколько причин. Во-первых, доложи начальству всю правду о положении в лагере, то ему пришлось бы объяснять, каким образом удается выполнить план, если половина людей не работает. Во-вторых, я уверен, что он получил деньги и на мертвых, и на неработающих. Одним словом половину всех денег, полученных для лагеря, Локман просто присвоит себе, а вернее украдет у людей. Если я не имею права уезжать дальше Котласа, то Локман волен посещать Архангельск, Вологду и даже Москву, что дает ему возможность отсылать своим родственникам не только деньги, но и посылки. Вот кто заинтересован, чтобы платили деньгами, а не продуктами и одеждой.
— Откровенно говоря, Владимир Степанович, мне безразлично, сколько Локман украл денег. Меня беспокоит, что будет дальше со мной и другими людьми? — Мрачно ответил Хохол и начал закуривать. Помолчали.
— Напрасно ты, Иван Иванович, — начал прораб, — так безразлично относишься к моим словам. Локман, не только украл деньги, но все время обманывал свое начальство и прекрасно знает, что если узнают о его махинациях, то ему не сносить головы. Поэтому, чтобы выслужиться в глазах начальства, нужно давать как можно больше древесины. А кто будет заготавливать лес, если несколько сотен работяг умерло, половина оставшихся больна, а вторая половина еле ноги волочит? Вот теперь и прикинь теперь, как этот Локман будет выкручиваться из ситуации? Ясно, что за счет вашего здоровья и жизней!
— А что же делать?
— Не знаю, что и посоветовать. Если вас и дальше будут так же кормить, как кормили все это время, то большинство умрет, а к весне пригонят другой эшелон ссыльных и все начнется по-прежнему.
В это время к ним подошел Симон, поздоровался и, обратившись к прорабу, сказал:
— Я, Владимир Степанович, на днях ходил с бабами и ребятами в лес. Они собирают мерзлую бруснику, морошку, шишки. Там я заметил много следов, наверно вернулись олени. Нельзя ли сходить на охоту?
— Я уже и сам думал об этом. Собери с десяток мужиков и собирайся на охоту. Охранникам я скажу, а теперь иди — ответил прораб Симону.
Охотники вернулись вечером. Утопая в глубоком снегу, мужики, приладив лямки к оглоблям, с трудом тянули сани, но которых лежали три туши убитых оленей. Как только заслышались голоса в лесу, навстречу им бросилось несколько мужиков, баб и даже ребятишек. Вскоре, несмотря на темноту и мороз, все, кто мог ходить, вышли навстречу охотникам и разложили вокруг бараков костры. Через некоторое время сани с добычей уже стояли у костра. Охотники присели на сани, обрадовавшись месту, и казалось, что ничто не могло поставить их на ноги. Сносно чувствовал себя только Никита и попросил принести топоры. Пришли прораб и Хохол, осмотрели туши и распорядились выдать на каждого человека по фунту мяса.
Жизнь шла не шатко и не валко. В погожие дни, по распоряжению прораба, плотниками возводился четвертый барак, остальные, утопая в снегу, валили лес и выносили его на берег реки. Охотники хоть и изредка, но снабжали мясом людей. Так прошла зима, и потянуло оттепелью. Дни прибывали, изредка появлялось солнце. За всю зиму в лагерь всего два раза привезли продукты. Люди голодали, умирали, а живые продолжали работать. Дарья с ребятишками зиму прожили относительно сносно, по сравнению с другими, благодаря собранной картошке, да изредка приносимых из конторы кое-каких продуктов. С приходом весны Локман начал ежедневно торопить прораба с заготовкой древесины, но люди, изнуренные голодом и непосильной работой, еле волочили. Со сходом снега и вскрытием реки работать стало легче, но пришла другая забота. Нужно было хоронить умерших зимой людей, трупы которых показались из под снега. В это время прискакал из Котласа нарочный и сказал начальнику лагеря, что его требует к себе вышестоящее начальство. Локман уехал, а работа продолжалась своим чередом.
В конце мая, в один из солнечных дней, весь лагерь был взбудоражен до боли знакомой картиной. Те, кто в это время находился на берегу реки, увидели, как из глубокой лощины выплеснулась огромная толпа людей, молчаливая и угрюмая. Впереди этой процессии шагали двое: один из них был Локман, а другой — незнакомый человек низкого роста, в армейской шинели, стянутой широким ремнем, на котором висела кобура с наганом. За ними шагали лошади, тянувшие телегу, на которой разместились ребятишки.
Уставшие лошади остановились возле конторы, ребятишек высадили из телеги, и на нее взобрался Локман, призывая толпу к тишине. Говорил он тоже самое, что в свое время говорили первым поселенцам. Он сказал людям, что они не арестанты и могут со временем строить себе дома. Передвигаться по лагерю будут свободно, без всяких ограничений. Не забыл предупредить, чтобы далеко в лес не заходили, так как здесь много волков и встречаются медведи. Потом подозвал к себе прораба и спрыгнул с телеги. Прораб взобрался на его место и обратился к вновь прибывшим людям:
— Я прораб, зовут меня Владимиром Степановичем, я ваш непосредственный начальник и буду следить за вашей работой. Вам нужно выбрать толкового человека, которому вы бы доверили должность старосты, а пока со своими вопросами и заботами обращайтесь к Ивану Ивановичу, — и он указал на Хохла. — Сейчас вас поместят в бараки, и даю вам два дня на обустройство и отдых.
Пока Локман и прораб выступали, люди постепенно подходили к новому пополнению и заводили разговоры. От них они узнали, что этой зимой собрали остатки кулаков, погрузили в вагоны и привезли сюда. В основном это были жители центрально-черноземной области, среди которых встречались и знакомые лица.
Иван Иванович подал знак, и люди зашагали к жилью. Сторожилы смешались с новоприбывшими, стараясь узнать у них свежие новости из родных мест. Подойдя к бараку с больными, Иван Иванович попросил их освободить помещение и перебраться назад к родственникам. Когда это было сделано, люди хлынули в барак, стараясь занять удобные места. В это время к Ивану Ивановичу подошел Илюша Горлов из Медвежьего, с которым он был хорошо знаком и даже одно время дружил. Илюша поздоровался, пожал ему руку и сказал:
— Чем ты меня порадуешь, Иван? Чем удивишь?
— Радоваться тут нечему, Илья, а удивлять придется. Во-первых, знай, что за всю зиму нам всего два раза привезли продукты. Здесь купить негде, а поэтому придется вам ловить рыбу и хлебать уху. От голода, работы и болезней этой зимой умерло несколько сот людей. В лагере имеется доктор, но у него нет лекарств, ему нечем лечить. Да, еще хочу тебя предупредить, чтобы ты не лез в этот барак. Здесь лежали больные тифом, цингой, дизентерией и другими болезнями. Зараза и теперь живет там. Поэтому советую тебе найти мало-мальски сохранившийся шалаш, приложить к нему руки и поселиться в нем.
— А чем, Иван, я буду строить, если у меня нет инструментов?
— Зайди ко мне, и я тебе дам все что нужно, а теперь я пойду к прорабу и посоветуюсь, что дальше делать.
Подойдя к конторе, Иван Иванович, встретил Дарью. Она сказала, что все начальство собралось и готовиться к обеду, а ее отпустили.
— Наверное, не хотят, чтобы их видел посторонний человек, — ответил ей Иван Иванович. — Да оно и к лучшему. А нам, Дарья, нужно серьезно поговорить. Давай отойдем в сторону, хоть вон к тому бревну и посидим.
— Да я хотела детишек покормить, а то они голодные!
— Я тебя долго не задержу, но поговорить нужно срочно!
Они подошли к реке. Иван Иванович закурил и сказал:
— Пора нам, Дашка, сматывать удочки, а то мы здесь погибнем. Во-первых, нас и дальше не собираются кормить, а во-вторых, доконают болезни. Сегодня перевели больных назад в барак, и они принесли с собой всю заразу. Кроме того, приехавшие люди поселились в тифозном бараке, а значит они тоже начнут болеть, и станут распространять болезни. Вот я и думаю, что пора бежать!
— А если нас поймают и посадят за решетку?
— Что тебе сказали, когда выпроводили из конторы?
— Прораб мне сказал, чтобы я отдыхала и пока на работу не выходила. Да и ключи я отдала ему.
— Вот видишь, ты им пока не нужна, иначе они не забрали бы у тебя ключи.
— И все же я, Иван Иванович, боюсь. Дорога длинная, незнакомая. Дети не осилят ее, а в лесу звери, вдруг нападут?
— А кто тебе Дашка сказал, что мы пойдем пешком? Мы поплывем на лодке. Река быстрая, а если поможем веслами, то к утру будем в Котласе, а там сядем в поезд, на котором привезли новых раскулаченных. Прораб мне сказал, что все работы отменяются на два дня, да и охране нужно отдохнуть. Так что в нашем распоряжении будет два дня. И если мы не воспользуемся этим случаем, то погибнем. Я дал слово Серёге, что сделаю всё, чтобы сохранить вас, и я это сделаю. А теперь слушай меня внимательно и делай то, что я скажу. Сегодня же, как только стемнеет, ты с детишками тайно пойдешь к лодке, спрячешься в кустах и будешь меня ждать. Ничего кроме одежды с собой не берите. Постарайтесь никому не попасться на глаза, а если это случиться, то скажите, что идёте на речку рыбу ловить. Иди к детишкам и жди вечера!
Иван Иванович пришел в темноте. На небе сияла полная луна, отбрасывая вокруг себя редкие тени. Крупные редкие звезды украшали серебристые небосвод, навевая грусть и тревогу. С появлением Ивана Ивановича у беглецов спало напряжение, пропал страх и боязнь перед неизвестностью. А между тем он поставил между ног увесистый мешок, который принес с собой и сказал:
— Я давно бы пришел, но ждал, пока наше начальство перепьется, ведь не ехать же нам без еды в дальнюю дорогу. А теперь в путь-дорогу, друзья! — поторопил Иван свою бригаду.
Он подхватил мешок и направился к лодке. Остальные потянулись за ним следом. Бросив мешок в лодку, Иван Иванович подтянул её на песок и приказал всем садиться. Затем столкнул лодку на воду, прыгнул в нее сам, уселся на сидение, взял в руки весла и сильными гребками направил судно на стрежень реки. Сильное течение подхватило лодку, и она стала набирать ход, с каждым взмахом весел все дальше и дальше унося беглецов от лагеря. Дарья постелила на дно верхнюю одежду, уложила детей и сама легла с ними рядом. Только Иван Иванович ритмично греб веслами. Уже под утро лодка ударилась о пологий берег реки, проползла немного по песку и остановилась. Все сразу проснулись и стали рассматривать окрестности. Солнце еще не взошло, но небо покрылось густым загаром зари. По берегам реки толпились стройные сосны и ели, отражаясь в спокойном течении реки от которой тянуло прохладой. Невдалеке, за лесом, дымились заводские трубы. Дым был редким, почти незаметным. Струясь вертикально, дым обещал хорошую погоду. Когда вышли на берег, Иван Иванович подхватил мешок с продуктами, оттолкнул ногой лодку, дал ей отплыть от берега и сказал:
— Нам нужно как можно быстрее дойти до станции и забраться в вагон, пока люди еще не проснулись.
Выйдя к железной дороге, они увидели в тупике вагоны с открытыми дверями и решетками на люках.
— Вот эшелон, о котором говорил прораб. А теперь давай поспешим!
На коротком пути от реки до станции им никто не встретился, да и на путях было пусто. Ни людей, ни составов, ни паровозов. Выбрав вагон, они влезли в него и осмотрелись. Вагон был копией того, в котором их везли сюда в прошлом году. Справа и слева размещались двухъярусные нары, в центре вагона приютилась чугунная печка, на люках решетки. Недолго думая, они взобрались на верхние нары и затаились. Иван Иванович постелил под себя пиджак и перед тем, как улечься спать, сказал:
— Если кому нужно будет сходить на двор, то ходите по одному человеку и прежде чем выйти из вагона, оглядитесь вокруг, чтоб не попасться кому на глаза.
Потом Иван поднялся с нар, подошел к дверям и задвинул их изнутри. Проспал он почти до вечера. Встал, закурил и стал готовиться к обеду. Достал из мешка хлеб, кусок колбасы и сала. Нарезал все на маленькие кусочки, разложил на полотенце и пригласил всех к еде. Когда с приготовлениями было покончено, беглецы услышали стук молотка и говор двух мужчин, проходивших мимо вагона. Иван Иванович приложил палец к губам. Разговор затих, и он сказал, что это были железнодорожники, проверявшие вагоны, а это означает, что эшелон готовиться к отправке и теперь жди охрану. После этого распорядился, чтобы все залезли на верхние нары, залез сам и стал смотреть на улицу сквозь решетку. Прошло совсем немного времени, как он воскликнул:
— Стоит вспомнить черта, он и появиться! Вон Дымковы везут охранников к поезду. Уже подъезжают к станции!
Все бросились к окну, но Иван Иванович предупредил, чтобы они носу из вагона не высовывали. Прошло несколько минут, охранники, соскочив с повозок, разбежались вдоль эшелона и стали закрывать двери, сопровождая это громким стуком и лязгом. Услышав грохот закрывающихся дверей, Дарья задрожала, сменилась в лице и сдавленным голосом спросила:
— А что кум, нас не арестуют, если заглянет в наш вагон охрана?
— Чего им заглядывать к нам, когда двери закрыты. Лишь бы щеколду не стали набрасывать. А если и заглянут, как-нибудь выкрутимся.
Но охранники пришло мимо вагона и вскоре их голоса пропали вдалеке. Дарья постепенно оттаяла, а Иван Иванович, как ни в чем не бывало, спокойно раскуривал свою трубку, и вдруг спросил:
— У тебя деньги есть?
Та как-то подозрительно посмотрела на Ивана Ивановича, на минутку замешкалась и, наконец, выдавила из себя:
— Да!
— И много их у тебя?
— Рублей восемьдесят.
— О, это хорошо! И у меня немного найдется.
— А зачем нам, кум, деньги?
— Зачем? Деньги, Дарья, нам особенно нужны. Мы даже не знаем, куда отправляется этот поезд и, может быть, нас завезут в такую дыру, что никогда нам оттуда не выбраться. Поэтому нужно добраться до крупной станции, купить билеты на пассажирский поезд и ехать, зная, куда едем. А для этого нужны деньги. Кроме того, наш мешок не бездонный и тех продуктов, которые я стащил на складе, нам при большой экономии хватит недели на две. И еще, мы не знаем, с какой скоростью наш поезд пойдет. Он же не курьерский и, может быть, будет стоять сутки у каждого телеграфного столба.
Все молчали. Солнце село, заря прогорела, и в вышине стали сгущаться сумерки. Вскоре появились звезды, и ночь вступила в свои права. Утром они проснулись, когда взошло солнце. Поезд стоял на прежнем месте. Где-то вдалеке свистела ‘кукушка’, слышался звук рожка стрелочника, изредка доносились приглушенные голоса. Беглецы позавтракали и улеглись на нары, страдая от неизвестности. Время тянулось мучительно медленно и нудно. Наконец, после обеда появились люди, послышался перестук молоточков по колесам и хлопанье крышек букс. Потом вагон тряхнуло, очевидно, к составу прицепили паровоз. Составители готовили поезд к отправке. На душе у беглецов стало легче, но тревога еще не покидала сознание.
Наконец послышался продолжительный свисток паровоза, вагон дернулся и медленно поплыл мимо всевозможных строений. И чем быстрее набирал скорость поезд, тем сильней раскачивало вагон. За окном свистел ветер, а колеса на стыках весело выстукивали: едем, едем, едем. Повеселели и люди. Они были довольны уж тем, что вырвались из лагерного ада. Поезд точно был не курьерским, останавливался на каждом полустанке и подолгу стоял. Иван Иванович болезненно реагировал на задержки в пути. Он стремился в Москву, где можно было запастись едой и купить билеты на поезд. Но его мечтам не суждено было сбыться. Как и в пришлом году, поезд пустили в обход Москвы. Только спустя две недели им удалось добраться до Ярославля. Поезд прибыл на станцию в сумерки, тогда как Вологду они проехали днем, станция была пуста, да и людей почти не было. А в Ярославле все пути были заставлены вагонами, даже стоял пассажирский поезд.
Дождавшись темноты, Иван Иванович тихо открыл двери и спрыгнул на землю. Его долго не было и оставшиеся в вагоне стали волноваться, боясь, что придется ехать без него. Но вот дверь слегка лязгнула и в проеме показалась голова и широкие покатые плечи Ивана Ивановича. Он поставил на пол большой жестяной чайник и довольно внушительный узел, а потом влез и сам, прикрыв за собой двери. В отблеске станционных фонарей, тускло освещавших вагон, беглецы, расположились ужинать. До этого дня они питались всухомятку, а в последнее время ели один раз в сутки, экономя продукты. Иван Иванович расстелил на нарах пиджак, развязал узелок и достал из него три эмалированные миски, несколько кусочков хлеба, ложки и открыл крышку чайника. Из чайника потянуло таким ароматом, какого они уже давно не ощущали. Дети, да и взрослые с аппетитом хлебали горячий наваристый борщ с небольшими кусочками мяса, благодаря Бога за то, что Иван Иванович решил накормить всех до отвала. Пока ужинали, Иван Иванович рассказал о своем походе на вокзал. Он выяснил, что пассажирский поезд, стоявший на станции, шел из Мурманска до Москвы. Билеты не продавали, и все билетные кассы были закрыты, закрыты были и двери вагонов. Вокзал забит пассажирами, в основном крестьянами с детьми и стариками. Поговорил с некоторыми мужиками и узнал, что кое-кто из них прожил здесь две, а то и три недели. На ночь всех выгоняют из вокзала, и приходиться спать на улице. Пассажирские поезда ходят редко, но на них билеты не продают. В буфете можно купить щей или кашу, а вот хлеб дают только на талоны. Люди без детишек садятся на товарные поезда, прячась от охраны и кондукторов. Видимо выполняется негласный приказ властей оградить Москву от наплыва в нее народа. Так что их поезд через Москву не пойдет и это только на руку, так как впереди ждут некрупные города, где можно будет купить еду.
После Ярославля поезд пошел быстрее. Минули Иваново, Владимир, где Иван Иванович, соблюдая осторожность, еще раз снабдил своих спутников едой. На одном захолустном полустанке, они увидели стоявший эшелон с решетками на окнах, вокруг которого бродила охрана.
— Вон смотри, Дарья, еще везут несчастных на лесоповал. И никто не знает, сколько их останется гнить в чужой земле.
После Владимира поезд вновь стал надолго останавливаться на полустанках, его почему-то держали по целым дням, хотя редко проходили встречные и обгонявшие составы.
Утром, после завтрака, двери с лязгом открылись и в проёме выросли две человеческие фигуры в военной форме. В одном они узнали начальника охраны этого эшелона, а за ними стоял длинновязый охранник с винтовкой за плечами. Очевидно, кто-то из беглецов потерял бдительность, его заметили и пришли с проверкой. Начальник охраны довольно высоким голосом спросил:
— Кто такие? И куда направляетесь?
Иван Иванович спрыгнул с нар и подошел к дверям:
— Мы, товарищ начальник, завербованные и едем в Донбасс на шахты!
— А почему поехали одни, а не с группой завербованных?
— Дело в том, что когда нас собрали и подали вагон, наша матушка возьми и умри, вот и пришлось нам опять везти ее в деревню, чтобы похоронить дома. Вербовщик забрал у нас документы и сказал, чтобы мы догоняли их самостоятельно. А как догонишь, если на пассажирский поезд билет не достанешь, вот и забрались мы в этот вагон.
Начальник охраны слушал Ивана Ивановича вполуха, а сам внимательно шарил глазами по нарам, внимательно рассматривал беглецов.
— Ладно, поезжайте дальше, а вот ты, красавица, пойдешь с нами, — начальник указал пальцем на Марию.
— А вот этого не нужно делать! — Иван Иванович соскочил на землю и расставил руки, пытаясь защитить девочку.
— Посторонись, урод! — прохрипел второй охранник, наставив на него винтовку и оттесняя в сторону. Не в силах, что — либо сделать, Иван Иванович, глотая моментально пересохшим ртом воздух, отступил.
Начальник помог Марии спуститься с вагона и направился вместе с ней в голову состава. Охранник еще немного подержал Ивана под прицелом и, постоянно оборачиваясь, пошел следом. Иван Иванович обессилено опустился на землю, сжав кулаки, и смотрел вслед уходящим, грустно качая головой. Дарья была страшно напугана этим приходом, с ужасом осмысливала происходящее, и ее трясло, словно в лихорадке.
Поезд на этом разъезде простоял до сумерек. На закате пришла Мария. Она шла вдоль состава, странно покачиваясь, прижимая к груди какой-то сверток. Подойдя к вагону, она бросила в открытую дверь свою ношу, попыталась взобраться в вагон, и Иван Иванович втащил ее за руку наверх. Она была пьяна и плохо держалась на ногах, рот был перекошен, а из глаз по щекам текли слезы. С трудом, взобравшись на нары, она уткнулась лицом в лежавший на досках пиджак и зарыдала в голос, перешедший в истерику. Дарья даже не сделала попытки успокоить ее, не подошла к ней, словно это была не ее дочь. Иван Иванович влез на нары, уложил голову Марии себе на колени, и стал поглаживать своей рукой ее пышные волосы, уговаривая прекратить рыданья и рассказать обо всем, что с ней случилось. Но она продолжала биться в истерике, не обращая на него никакого внимания. Тогда он намочил тряпку, вытер ей лицо и положил на горячий лоб мокрый компресс. Немного успокоившись и придя в себя, она, постоянно срываясь в плач, рассказала, что с ней делали начальник охраны и его подчиненные. А отпуская, предупредили, чтобы завтра снова к ним пришла, иначе всех выбросят из вагона.
Иван Иванович спрыгнул с нар, стал нервно вышагивать в проходе, а потом подошел к Марии и сказал:
— Ты, Маша, постарайся успокоиться и поскорее все забыть. Слезами горю не поможешь. Завтра ты никуда не пойдешь, а с этими скотами я по-свойски поговорю. Даю тебе слово. Только скажи мне, они поили тебя или же пила сама?
— Они и сейчас все пьяные, а меня поили насильно: двое держали, а третий лил мне водку в рот.
Иван Иванович подошел к двери и спрыгнул на землю. Примерно через полчаса он внезапно вынырнул из темноты, словно никуда и не уходил, но по его дыханию можно было понять, что пришлось проделать немалый путь. Заглянув в вагон, он сказал, чтобы все оделись, собрали вещи и выбрались из вагона, так как дальше они не поедут. Дарья и детишки так привыкли ему подчиняться, что ни у кого не хватило духу спросить, почему они должны бросить эшелон. Он отвел их в посадку и распорядился, чтобы не разговаривали и тихо ждали его прихода. Потом взял порожний мешок и растворился в темноте. Подойдя к эшелону, он услышал разговор осмотрщиков, шедших по противоположной стороне состава. Поняв, что поезд скоро отправляется, стал быстро выбирать из букс промасленную подбивку и складывать в мешок. Набив почти целый мешок промасленной ветошью, Иван Иванович отправился в голову состава, где разместилась охрана. Часового не было, а из вагона слышались громкие крики и смех пьяных охранников. Забравшись с мешком под вагон, он стал аккуратно укладывать на раму под днищем промасленную подбивку. В вагоне затихло. Видимо все вдосталь напились, и охрана завалилась спать. Закончив работу, Иван Иванович забрался на тормозную площадку, расположенную впереди вагона, и разложил вдоль стенки оставшуюся промасленную ветошь. Радуясь, что ему никто не помешал, он спрыгнул с площадки и вдруг встретился лицом к лицу с начальником охраны. Тот, очевидно, справлял нужду и к этой встречи был явно не готов. Не ждал такой встречи и Иван, но он быстрее оценил сложившуюся обстановку и, не долго думая, со всей силой обрушил огромный кулак на голову своего противника. Охранник покачнулся и стал валиться на Ивана, который обхватил его левой рукой за голову и резко, с хрустом, повернул ее набок. Потом подхватил под руки обмякшее тело и заволок его на тормозную площадку, бросив рядом с ветошью. В это время послышался гудок паровоза и поезд, лязгая сцепами, тронулся с места. Иван Иванович на ходу закрыл двери вагона, набросил щеколду и вскочил на подножку вагона. Поджечь подбивку он решил, когда поезд минует будку стрелочника. На его счастье сразу за станцией начинался крутой подъем, не позволявший паровозу набрать большую скорость, и состав плелся еле-еле. Когда будка осталась позади, Иван Иванович поджег подбивку, дал ей немного разгореться и, захватив тлеющий комок ветоши, спрыгнул на землю. Положить комок на ранее разложенную под днищем вагона ветошь не составило большого труда. Обойдя будку стрелочника стороной, он нашел своих спутников в посадке, опустился на землю и попросил Дарью дать ему какую-нибудь тряпку вытереть руки. Потом достал трубку и закурил. Перекурив, сказал, чтобы все ложились спать, так как придется рано вставать. Чуть обозначился рассвет, а беглецы были уже на ногах. Едва они вышли из лесной полосы, как сразу же ступили на наезженный проселок, который тянулся вдоль железной дороги. Понемногу стало светать. Вскоре далеко позади, остался злополучный разъезд, так круто изменивший их судьбу. Дорога круто повернула влево и побежала среди высокой изумрудной ржи, стоявшей стеной с двух сторон.
Иван Иванович размашисто шагал впереди, явно торопя своих спутников. Потом он замедлил шаг и, не оборачиваясь, проговорил:
— Дорога накатана, значит, по ней часто ездят, а если посеяна рожь, то значит недалеко село, где можно будет достать еды, а то наша почти закончилась!
— А если, кум, в селе милиция и спросят документы?
— Какого черта ей в деревне делать? А потом, прежде чем лезть в омут, нужно изведать брод.
Наконец, вдалеке, в лучах восходящего солнца, заблестела луковка колокольни, а потом показались убогие хатки, крытые соломой и камышом. Больше всего их удивила необыкновенно красивая церковь, сложенная из красного кирпича с резной отделкой, с позолоченным крестом на куполе, выглядевшая царицей среди неприкрытой нищеты. Село, раскинувшееся в широкой долине, было довольно большое и разделялось неширокой речушкой, обрамленной ветвистыми вербами и ракитником. Через речушку был переброшен деревянный мостик без ограждения, который явно нуждался в капитальном ремонте, но, как это водиться на Руси, люди ждали какого-нибудь стихийного бедствия, чтобы взяться за его починку. Заведя всех в кусты, Иван Иванович приказал сидеть тихо и не показываться, а сам тут же повернулся и скрылся с глаз. Людей почему-то не было видно, и только пронзительно горланили петухи, квакали лягушки, да перебрехивались неугомонные собаки. Утомленные бессонницей и ходьбой, дети повалились на землю и вскоре уснули. Задремала и Дарья.
Разбудил их Иван Иванович и велел собираться. Пока они шли, он рассказал, что люди в своем большинстве выехали на сенокос, а кто остался дома, заняты хлопотами по хозяйству. Так что нас никто не заметит, тем более, что согласилась приютить хозяйка крайней избы. На небольшом крылечке их ласково встретила хозяйка дома, женщина уже в годах, ладная, скромная, подвижная. Она тут же отворила перед ними двери в сени и певучим окающим голосом попросила войти в дом. В отличие от домов многих деревень центральной России этот домик блистал чистотой. Все помещения были небольшими, но довольно чистыми и убранными. Во всем чувствовалась хозяйская рука, начиная от хорошо побеленной русской печки и кончая вымытым полом и незамысловатой посудой.
Хозяйка предложила им вымыть руки и умыться, поливая водой из деревянного ковшика. Потом пригласила всех за стол, нарезала большими ломтями хлеб, достала ухватом из печки чугунок, налила из него в большую глиняную миску горячих щей и поставила ее на стол. Затем на столе появился тушеный картофель, квашеная капуста и соленые огурцы. С едой управились быстро и искренне поблагодарили хозяйку за вкусный обед. Даже Дарья, любившая в гостях подчеркнуть, что она сыта и не нуждается в еде, на этот раз не стала показывать свой характер и уплетала нехитрую деревенскую еду за милую душу. Между тем хозяйка убрала со стола посуду, села на скамейку и спросила, кто они и куда идут. Иван Иванович ответил, что они вятские и идут на шахты в Донбасс, да вот поиздержались в дороге и решили немного покормиться по деревням. Она посмотрела на них внимательно, покачала головой и сказала, что они такие же вятские, как она цыганка. Потом заразительно рассмеялась:
— Вы нигде этой ерунды не говорите, ведь вятские люди при разговоре окают. Вы наверняка с юга, очевидно с Дона, а попали сюда не по своей воле и теперь пробираетесь домой. Хочу посоветовать, чтобы вы не ходили по деревням, а шли в города, где легче затеряться среди людей. Сейчас много народу снялось с мест, и приходится им ездить по стране в поисках лучшей доли. Да, небось, у вас нет и документов. Ну ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. Наверное, думаете, а почему бабка такая добренькая? Да не добрая я, а злая. Злая на тех, кто испоганил всю нашу жизнь. Взяли у нас и раскулачили двенадцать домов, в том числе двух моих братьев. Если бы сказать, что они отличались от других богатством, а то как и все остальные. Не было у них ни мельниц, ни магазинов, ни ссыпок, а только скотина, да руки в мозолях. Сослали их куда-то в верховья Лены пилить лес для шахт. Братья не выдержали каторжного труда и сбежали. Кое-как добрались до своего дома и стали гадать, что им делать. Целую неделю откармливала их и отпаривала в бане. Сколько вшей вывела, уму непостижимо. Через своего племянника, он работает в сельсовете, удалось выправить им документы, собрали деньжонок на первое время и они завербовались на Урал, на строительство какого-то завода. Недавно получили письмо. Пишут, что устроились хорошо, работают, на жизнь не жалуются.
— Чувствую, что рассказывать нам особенно нечего, так как судьба ваших братьев похожа на нашу, как две капли воды. Да и откуда мы родом вы определили безошибочно. Скажите лучше, а нельзя ли и нам через вашего племянника достать тоже какую-нибудь справочку? — спросил Иван Иванович хозяйку, когда та выговорилась и замолчала.
— Об этом поговорите с хозяином. Думаю, что можно сделать, так как секретарь и председатель совсем спились, и готовы за чекушку водки не только выдать справку, но и печать насовсем отдать. А теперь отдыхайте и на улицу не выходите. Правда, все люди на сенокосе, но береженого Бог бережет!
— Дети-то у вас есть? — спросил Иван Иванович.
— Как не быть, есть и внуки.
— Они тоже в колхозе?
— Нет, они в городе работают. Как стали колхозы создавать, отец сразу отправил их из села. Дочка замужем, живет в Москве, два сына служат на железной дороге.
Вечером пришел хозяин. Это был высокий жилистый мужчина в косоворотке, полушерстяных брюках, заправленных в добротные яловые сапоги. И потому, как он зашел в избу, как поздоровался за руку с Иваном Ивановичем, как по-хозяйски сел у стола, было видно, что этот человек знает себе цену. В отличие от словоохотливой хозяйки, его можно было посчитать молчуном. Каждое его слово было взвешенным и продуманным. Такие люди слывут в народе мудрецами.
— Тиша, ты ужинать будешь? — обратилась к мужу хозяйка.
— А почему бы и нет, ведь нас кормили аж в обед. Садитесь, гости, к столу и, как говориться, чем Бог послал, а я умоюсь!
Хозяйка быстро накрыла стол, и они все уселись за него. Все заметили, что приступая к еде, ни хозяин, ни хозяйка не перекрестили лба, хотя в красном углу висела икона. За все это время хозяин даже не поинтересовался, кто они такие и что они делают в его доме. Но хозяин хорошо знал нрав жены и ждал от нее пояснений. Она не замедлила вкратце рассказать ему, кто и почему пожаловал к ним в гости. Во время ее рассказа он молчал и тихо кивал головой, словно одобряя услышанное. После ужина хозяин свернул козью ножку, прикурил и подвинул кисет Ивану Ивановичу.
— Ты, Дуняша, сбегай к Архипу и скажи, чтобы он был на одной ноге у нас, а заодно зайди к Семену и возьми бутылку «казенки», скажи, что на днях отдам деньги. Хозяин, мол, приболел, и ему нужно растирка.
Когда хозяйка собралась уходить, Иван Иванович подошел к ней, сунул в ее карман деньги и сказал, чтобы она купила не одну, а две бутылки водки. Хозяйка вопросительно посмотрела на мужа, но тот молчал, словно не заметил замешательства жены. Вскоре хозяйка вернулась, пропустив в избу полного молодого человека в помятом костюме и в желтых узконосых ботинках. Его лицо при своей полноте было одутловатым, что выдавало в нем явного любителя выпить. Молодой человек пожал руку хозяину, потом Ивану Ивановичу, сел на скамейку, прислонясь спиной к стене.
— Архипушка, — обратился к молодому человеку хозяин дома, — этому мужику нужна справка. Какая, ты сам знаешь. Ну, напиши там, что он середняк, житель нашего села, и что он отпущен со своей семьей на заработки, допустим в Донбасс, да не тебя учить этому, чай не в первой тебе это делать!
— Так печать- то у меня в сельсовете!
— Вот и хорошо, сходи туда и напиши все чин по чину, а за ними дело не встанет.
— Может быть, Тихон Иванович, сначала обмоем это дело, а то руки трясутся?
— Нет уж, Архипушка, вот, принесешь бумагу и обмывай ее на здоровье.
Секретарь сельсовета попросил карандаш, достал из кармана смятый листок бумаги, записал не ней данные Ивана Ивановича и пулей вылетел из дома на улицу. Не успела хозяйка собрать на стол закуску, как Архип ввалился в избу и подал Ивану Ивановичу лист бумаги. Тот встал, подошел к лампе, внимательно прочел текст, сложил справку и спрятал во внутренний карман пиджака.
— А ты, Архипушка, садись за стол, хозяином будешь! — усмехнувшись, проговорил хозяин и неторопливо вылил в три стакана содержимое бутылки.
Того долго не пришлось упрашивать, он схватил стакан, стукнул им стоявшие на столе другие и начал пить. Тянул он водку томительно долго, словно наслаждался ее вкусом. Выпив стакан до дна, он крякнул, но закусывать не стал, утер ладонью рот, взял огурец, понюхал его и положил на стол, жадно глядя на другие стаканы. Не прошло и минуты, как он заметно опьянел, опустил голову, тупо глядя перед собой. Потом резко выпрямился и заплетающимся языком попросил:
— Дядя Тиша, налей еще, да я пойду!
Хозяин кивнул жене, и та поставила на стол вторую бутылку. Тихон Иванович распечатал водку, налил полстакана и пододвинул Архипу. Тот выпил, не закусывая, поднялся со скамьи и направился к двери.
— Постой, Архипушка, — вылез из-за стола хозяин, — я провожу тебя! Он взял начатую бутылку, заткнул ее пробкой и опустил гостю в карман его брюк.
Вскоре хозяин вернулся и, широко улыбаясь, присел к столу, взял в руки стакан, поднял его и сказал:
— Ну, что ж, Иван Иванович, выпьем за успехи в твоих делах!
Они выпили и стали закусывать.
— Тихон Иванович, а дойдет Архип до дома? — не зная что еще сказать, спросил хозяина Иван Иванович.
— Дойдет, как миленький, тем более что бутылка в кармане. Теперь, пока не выпьет до капли, не успокоится, а завтра проспит до обеда, и ничего помнить не будет. Давай теперь еще покурим и на боковую. Завтра вы уйдете из села затемно. Архипка ничего не вспомнит, а вот люди бывают разные, так что от греха подальше. Пойдете дальше той же дорогой, какой пришли сюда. Здесь до железной дороги верст восемь — десять. Перейдете полотно и попадете на торную дорогу, которая идет вдоль железной, она и доведет вас до самой Узловой. Только никуда не сворачивайте. На станции отыщи моего старшего сына Николая, он там принимает и отправляет багаж. Фамилия наша Токаревы, запомни. Скажи ему, что отец просил помочь купить билеты на поезд. Он сделает. Теперь с билетами худо, люди неделями сидят на станции. Деньги-то у вас есть?
Иван Иванович утвердительно кивнул головой. Через несколько минут все спали. Спали и беглецы, согретые заботой добрых людей.
Наутро встали рано. В маленькие оконца заглядывала темнота, было тихо и только предвестники рассвета, петухи, оглашали окрестность своим криком. Сборы были недолгими и вскоре все беглецы сидели на лавках, готовые отправиться в путь. Хозяйка предложила перекусить, но Иван Иванович отказался, сославшись на сытый ужин. Тогда она вышла на несколько минут и вернулась, неся в руках два увесистых куска соленого сала. Один кусок она протянула Дарье и сказала, что это им в дорогу. Другой кусок, завернув в чистое холщевое полотенце, попросила передать сыну и сказать, что это гостинец от матери. Гости встали, Иван Иванович, с поклоном, поблагодарил хозяев за радушный прием, за помощь и дорогой подарок и спросил, не смогли бы они дать еще немного хлеба, за который он готов заплатить. Хозяин промолчал, а хозяйка замахала руками, сняла с полки большой каравай и протянула его Ивану. Все еще раз низко поклонились и вышли на улицу.
К вечеру показалась станция Узловая. Взрослые и ребятишки устали до смерти, но были очень довольны концом долгого пути. На вокзале столпотворение. Масса людей ходила, лежала, сидела и просто мыкалась из конца в конец длинного перрона. По путям сновали маленькие паровозики, развозя вагоны. Стояло несколько готовых к отправке товарных составов и всех очень интересовало, куда они пойдут. Некоторые бесшабашные головы, а может быть просто отчаявшиеся люди, нахально лезли на тормозные площадки и даже забирались на крыши, но кондукторы и железнодорожная охрана безжалостно сбрасывали их с вагонов, уводя самых бойких в кутузку. Иван Иванович с Дарьей выбрали место около стены вокзала, попросили подвинуться соседей, усадили детей и присели сами. Через некоторое время, немного отдохнув, Иван встал и, приказав никому никуда не уходить, пошел на разведку. С ним увязался и маленький Ванюшка. Рядом с вокзалом стоял кирпичный домик с широкими дверями, а над ним большими буквами было написано ’’Багажное отделение’’. На дверях висел огромный замок — и ни души кругом. Только одна дородная баба, обшарпанной метлой, лениво сметала в кучу мусор. Иван Иванович подошел к ней, поздоровался и спросил, не знает ли она где можно найти Николая Тихоновича Токарева. Та подняла голову, посмотрела на него, словно не поняв вопроса, и вновь принялась мести землю.
— Николая Тихоновича где найти? — повторил вопрос Иван.
Она бросила мести, опять посмотрела и ответила:
— Ты меня спрашиваешь?
— А кого же мне еще спрашивать, если кроме тебя здесь никого нет?
— Тебе кого? Кольку?
— Да, Кольку!
— Так его нет!
— А где его можно найти?
— Где же, если не дома!
— А он что, не работает?
— А что тут работать, если багажу нет и поездов нету. Приходи завтра утром, может поезд придет, аль багаж появится!
И она вновь принялась лениво сметать мусор. Пришлось вернуться и усесться рядом со своими. Слева о них сидел мужчина средних лет, худой и в каких — то лохмотьях. На коленях у него лежала грязная тощая котомка, на которой покоились такие же грязные, давно не мытые руки. Голова была опущена на грудь, лицо, заросшее щетиной, ничего не выражало, а глаза тупо глядели вдаль. Справа расположилась большая семья. Все сидели смирно, и казалось, что они замерли в своих позах давно и надолго. Только двое мужчин, похожих друг на друга, видимо братья, о чем-то тихо беседовали. Иван достал из кармана трубку, набил её оставшейся махоркой и закурил.
— Мужики, не желаете закурить? — обратился он к соседям, протягивая кисет.
— Оно, конечно, можно, да вот бумажки нет, — ответил один из них.
— У меня нет тоже, а вот табачком, угостить могу. А давно вы здесь сидите?
— Да, почитай, вторую неделю, — проговорил тот, который выглядел постарше.
— А что так? Поездов нет?
— Поезда есть, как им не быть, да вот билетов не достать. Дадут билетов десять и амба, а что на такую толпу десять билетов? Нам только одним нужно двенадцать, так что не знаем, что и делать.
Дарья, тем временем, достала узелок с продуктами и принялась резать хлеб и сало на маленькие кусочки, попросив Ивана сходить за водой. Поужинав, они примостились спать, прижавшись друг к другу. В здание вокзала Иван Иванович входить запретил, боясь что можно подхватить заразу среди набитого в зале люда. Благо стояли тёплые ночи, и можно было хорошо выспаться на свежем воздухе. Проснувшись утром, Иван осторожно, чтобы не разбудить спящих детей, сел на корточки и закурил. Мужиков справа уже не было и только две женщины сидели неподвижно над распростёртыми на земле ребятишками. Покурив, он толкнул Дарью и пошел к багажному отделению. Двери в домике оказались открытыми, а в них стоял мужчина, прислонившись плечом к косяку. Если бы ему приклеить к верхней губе усы, то можно было подумать, что это Тихон Иванович, так сын был похож на отца.
— Николай Тихонович? — спросил Иван Иванович, протягивая руку для пожатия.
— Да, я Николай Тихонович, а вы кто? — спросил он с некоторым замешательством в голосе и подал руку, переступив с ноги на ногу.
— Ваши родители велели передать глубокий поклон и пожелать здоровья и благополучия вам и вашей семье. Тихон Иванович с Евдокией Михайловной живы и здоровы! Ждут вас в гости. А вот и подарок от матушки велено передать вам лично!
Иван протянул ему сверток.
— Она сказала, что вы сало очень любите.
Мужчина принял подарок и его лицо расплылось в улыбке.
— Ну, мать знает, чем угодить сыну, даже полотенца не пожалела. А вас как величать?
— Меня зовут Иван Иванович, мы с ребятишками ночевали у ваших родителей, а теперь пробираемся в Донбасс.
— Я бы тоже пригласил вас в гости, но к обеду подойдет пассажирский и я должен быть на месте. Если подождете до вечера, тогда и устроим встречу.
— Большое спасибо, но нам нужно ехать и Тихон Иванович просил вас помочь нам с покупкой билетов, если можно!
— С билетами помогу, как- никак жена кассиром работает! А вам, куда конкретно нужно, Донбасс велик. Сегодняшний поезд, например, идет в Луганск- это тоже Донбасс.
Иван не верил свалившемуся на него везению и был готов плясать от счастья.
— Луганск нас вполне устраивает и будем вечно вам благодарны, если удастся приобрести билеты.
— Ну, тогда пошли к кассе!
Он запер двери на замок и зашагал к вокзалу. Иван Иванович поспешил следом за ним. Через некоторое время он с сияющим лицом стоял около проснувшихся земляков с заветными билетами в руках. Подошел Николай Тихонович, поздоровался и сказал, что при посадке в поезд будет занят, но постарается помочь. Иван еще раз поблагодарил его и сказал, что теперь в поезд он сядет в любом случае. После того, как Николай Тихонович ушел, Дарья раздала по кусочку хлеба с салом и все стали ждать прихода поезда.
Время тянулось мучительно долго, но вот, наконец, послышался протяжный гудок паровоза и поезд, хрустя всеми своими суставами, подкатил к перрону и остановился. Толпа народа кинулась к нему и облепила, как муравьи муравейник. Измученные недельными ожиданиями, люди пытались всеми правдами и неправдами попасть в заветный вагон. Возле каждой двери столпотворение, давка, крики и плач детей. Самые отчаянные пытаются влезть в окна, другие стягивают их за ноги, дубасят кулаками и ногами. Кто-то упал на землю, и по их телам, не обращая внимания на истошные крики раздавленных людей, лезла толпа озверевших пассажиров. Иван Иванович знал, что продано всего тридцать билетов, но поезд штурмовало не менее тысячи взбесившихся людей. Около вагона, к которому подвел Иван Иванович Дарью с ребятишками, теснилось тоже около сотни человек. Иван сказал, чтобы они стояли рядом и, расталкивая толпу, стал пробираться к подножкам. Вслед ему неслись проклятья и угрозы, но он, не обращая на эти крики никакого внимания, словно ледокол сквозь ледовые торосы, шёл своим курсом. В дверях вагона отбивался от напиравших людей проводник в форменной фуражке и кителе. Какой-то рыжий мужик ухватил проводника за ногу и пытался вытащить его из тамбура, освобождая себе путь. Иван схватил мужика за пиджак, оторвал от проводника и, подняв в воздух, бросил на головы, напиравших сзади. Толпа взвыла, некоторые попадали вместе с рыжим на перрон и крики утихли. Иван встал на ступеньку, заслонив собой ошалевшего проводника, и громко сказал:
— Может быть, еще, кто хочет влезть? Прошу сюда! Желающие есть? Нет!
Иван оглядел притихшую толпу и продолжил:
— Сейчас в вагон зайдут те, у кого есть билеты, а остальные будут потом тихо договариваться. Если кто будет бузить и влезет без спроса, выброшу из вагона на ходу. Всем ясно? Вижу, что ясно. Вот вы, гражданочка с детьми, — указал он на Дарью, — с билетами?
Дарья растерялась и молчала, только слезы текли по ее испуганному лицу.
— Подойдите ко мне! — сказал Иван.
Толпа расступилась и Дарья, пропуская вперед детишек, подошла и подала билеты. Иван Иванович взял и велел заходить в вагон, шепнув, чтобы занимали все свободные места. Вагон, на удивление, оказался полупустым. Почему не продавали билеты, было непонятно. Дарья с детьми заняли целый отсек, а вскоре подошел и Иван Иванович. Оказалось, что с билетами оказалось всего пять человек и свободные места стали заполняться безбилетными. Через несколько минут все полки, включая и верхние, были заняты. Поезд стоял долго и тронулся так мягко, что сразу никто не заметил, как отправились в путь. Мимо окна поплыли какие-то постройки, заборы, стрелки и будки.
Внимание маленького Вани привлекли два сгоревших вагона, стоящих в тупике с голыми, покорёженными огнём металлическими каркасами. Иван Иванович мельком взглянул на них и рассказал ужасную историю о несчастном случае, услышанную от Николая Тихоновича. По его словам, на перегоне внезапно загорелся вагон, в котором ехали милиционеры, охранявшие состав. Пламя перебросилось на соседний вагон и оба сгорели дотла. Милиционеры, видимо, крепко спали, наверно выпили и сгорели вместе с вагоном, так и не проснувшись. Труп одного из них даже вывалился через прогоревший пол, и пришлось собирать останки несчастного вдоль железнодорожной колеи по кускам. Не приведи, Господи, никому такого конца!
Спустя некоторое время, пришёл проводник, принёс целый чайник кипятку и поставил его на столик. Потом сел напротив Ивана Ивановича и с нескрываемым интересом стал его разглядывать.
— Вот всё, чем могу отблагодарить тебя, добрый человек, за помощь, — сказал он душевно и, достав из кармана маленький свёрток, положил рядом с чайником. — Это вам настоящая заварка.
— Ну, что ж, спасибо и тебе, чай мы давно не пили, только кружка на всех одна, — ответил Иван.
— Да, конечно, я сейчас принесу еще, — заторопился проводник. Обернулся он быстро и, поставив на столик два стакана, сказал:
— Много я видел на своем веку людей, а вот такого силача встречаю впервые, дай Бог тебе здоровья!
Проводник пожелал счастливого пути и ушел к себе, а путешественники, разделив остатки хлеба и сала, принялись пить, благоухающий давно забытым ароматом, чай.
Дорога до Луганска должна была занять дней десять, но Ивана это не тревожило. Он забрал у Дарьи все деньги и на больших станциях покупал в буфетах еду. По дороге выходили и подсаживались пассажиры, сменяя друг друга. В основном это были крестьяне, покинувшие родные места в поисках лучшей доли, реже попадались рабочие, вербовщики и жулье всех мастей. Люди быстро знакомились, изливали друг другу свои горести и тревоги, раскрывали перед случайными попутчиками свои души. Во всех этих рассказах чувствовалась тоска по дому, по оставленным женам и детишкам, тоска по прошлой жизни, хотя и не всегда радостной, но относительно спокойной и прогнозируемой. На третий день пути в конце вагона раздался истошный крик и рыдания зазевавшейся бабы, у которой стащили узелок с хлебом и вытащили последние гроши. Жулика поймали, долго били смертным боем и выбросили из поезда на полном ходу. На большой и шумной станции Дебальцево к Ивану подсел щупленький, шустрый паренек с копной черных вьющихся волос, большим носом и бегающими глазами. Он тут же завёл разговор и стал выяснять, кто они такие, куда едут и какие планы на будущее. Иван Иванович не терпел болтунов, сам в разговорах был всегда сдержанным, но новый попутчик так умело расположил его к себе, что через некоторое время был осведомлён о чаяниях и заботах своих попутчиков, едущих на работу в Донбасс. Себя он представил, как заместителя директора строящегося кирпичного завода, которому позарез нужны рабочие руки. Иван Иванович невольно стал выяснять условия жизни на заводе и новый знакомый рассказал, что всем рабочим дают жильё, хорошо платят, да и сама работа не очень тяжелая. Особенно его заинтересовало то, что для оформления необязательны документы, так как рабочих нанимают только на летний сезон. Новый знакомый наверняка знал, с кем имеет дело и специально заострил внимание на упрощённой схеме приёма на работу. Ночью, когда все спали, Иван принял решение поставить последнюю точку в приключениях и устраиваться работать на завод.
На следующий день поезд минул Алчевск с его дымящимися трубами металлургического завода и, скатившись под уклон, остановился на небольшой станции под необычным названием Славяносербск. Славяносербск был небольшой трехпутной станцией, ограниченной с двух сторон семафорами и будками стрелочников. Станцию украшало аккуратное каменное здание вокзала, окружённое высокими старинными акациями. Справа от вокзала тянулась вверх деревянная вышка с огромным керосиновым фонарем на самой макушке, а чуть дальше виднелась водонапорная башня для снабжения паровозов водой. Попутчик сказал, что приехали и, пока Иван Иванович прощался с проводником, помог выйти из вагона Дарье с детьми. Рассадив детей на широкой скамейке возле небольшого деревянного столика, служившего прилавком местным торговцам, Иван вместе с попутчиком пошли к поселку, раскинувшемуся по косогору. Их очень долго не было, и Дарья стала уже беспокоиться, но он пришел уже один и повёл всех через пути на противоположную сторону от вокзала.
В метрах пятидесяти от железнодорожных путей стоял длинный, добротно сделанный деревянный сарай, крытый толью, а впритык к нему была приделана небольшая времянка, сбитая из горбыля. Вот к ней и подвел своих спутников Иван Иванович. Дверь во времянку была не заперта, и они свободно, друг за другом, вошли в долгожданное пристанище. Внутри времянки оказался узкий коридор на всю её длину, из которого было сделано два входа, в разделённые тесом неравные помещения. В том, что побольше, стояло шесть голых деревянных топчанов. Больше ничего — ни стола, ни скамеек. В меньшем, картина была та же, но только топчанов было три. Указав на меньшее, Иван Иванович сказал, что пока жить придется здесь, а дальше будет видно. Все расселись по топчанам, не зная, что делать. Закурив, он рассказал, что был в конторе завода и разговаривал с директором завода. Директор, Лазарь Моисеевич Красников, показался ему умным, добрым и рассудительным человеком. Встретил хорошо и сказал, что рабочие нужны, и можно хоть завтра выходить на работу. При этом даже не заикнулся о документах и не спросил кто мы и откуда. В конце разговора спросил, не смог ли я съездить на родину и привезти еще несколько мужиков, на что я с охотой согласился.
— Ты, кум, уедешь, а как же мы? — испуганно спросила Дарья. Губы ее задрожали, и казалось, что она сейчас заплачет.
— А ты, Дарья, будешь работать, и ждать мужа. Я обещаю скоро вернуться и думаю, что вместе с Сергеем Егоровичем. Вся задача в том, чтобы он быстро нашелся. Надеюсь, что далеко не уехал. И пойми, я сделал для вас все что мог, а теперь работай и корми детей. Ты женщина молодая, здоровая, работы не боишься, так что не пропадешь, а там муж приедет и пусть сам думает о вас. Я же своих не видел больше года. Не знаю где они, что с ними, как они? Мне необходимо их найти и решать, как быть дальше.
— Конечно, кум, тебе обязательно надо их найти. А то они, не дай Бог, думают, что тебя и в живых нет. И когда же ты думаешь ехать?
— Завтра и уеду. Директор мне сказал, что тут каждый день проходит пассажирский поезд Мариуполь — Миллерово, вот я с ними подамся. Переночую, и уеду, чего ждать? Да, вот еще, наш попутчик никакой не начальник, а вроде агента по снабжению. Начальников всего трое: директор, секретарь партячейки и счетовод. Думаю, что жить здесь можно. Поселок небольшой, жилых домов пятьдесят будет, завод и станция. Народу мало, а рабочие нужны. Поэтому надо устраиваться пока здесь, до лучших времен.
Дарья стала собирать на стол, если столом можно было назвать обычную доску, перекинутую с одного топчана на другой. В это время пошел мелкий теплый дождик, который в народе называют «слепым». Это когда во время дождя светит солнышко. Солнышко светило, а дождик шел и шел. За стеной послышались голоса, и во времянку ввалились несколько мужчин разного возраста. Рубашки на них были мокрые, ботинки грязные, в глине, но лица выглядели весёлыми. То ли дождик поднял им настроение, то ли забавная история, рассказанная по дороге. Увидев новых соседей, они поздоровались и прошли в другую половину. Света во времянке не было и с наступлением темноты все улеглись спать. Ванюшка улегся с Иваном Ивановичем, Анюта с матерью, а Татьяна с Марией пристроились вместе, обняв друг на друга.
Утром, когда ребятишки проснулись, Иван Иванович сидел на краю топчана и курил неизменную трубку, погрузившись в свои потаённые думы. Мать стояла у маленького оконца и что — то зашивала, тоже думая о своём. Покурив, он повернулся к Дарье и попросил ее присесть рядом с ним. Когда она подошла, он протянул ей немного денег и сказал, что остальные понадобятся ему в дороге. Дарья взяла деньги и ничего не ответила. В это время дверь во времянке внезапно открылась, и в проходе появился аккуратно одетый человек, при галстуке, с открытой головой и в начищенных ботинках. Был он высок, худощав, с размеренными движениями. Тёмные волосы тщательно причёсаны, лицо гладко выбрито, а серые глаза смотрели умно и оценивающе. Он поздоровался и, обратившись к Дарье, сказал:
— Я, собственно говоря, пришел за вами. Как вас величают?
Дарья от испуга опешила и потеряла дар речи. В голове у нее молнией мелькнула мысль, что этот незнакомый человек всё про нее знает, и пришел выгнать её из этого сарая, а еще хуже, отправить назад в ссылку или в тюрьму.
— Зовут ее Дарья, — пришел на выручку Иван Иванович.
— А по батюшке как?
— Сергеевна, Дарья Сергеевна, — опять за нее ответил Иван.
— А я директор завода, Лазарь Моисеевич! Будем знакомы! У меня к вам предложение. Завод только становится на ноги, рабочих мало, да и те, в основном, сезонники. Живут бобылями, без жен и семей. Столовой пока нет, а кормить мужиков необходимо. Тут недалеко от станции, километра три будет, находится шахта имени Лотикова. Мы договорились с начальством, что у них в столовой будут готовить пищу и для нас. Понятно, что в такую даль обедать не пойдешь, а поэтому мы возим еду оттуда на подводе. Но не к лицу здоровому мужику, извините за выражение, заниматься бабьим делом, когда у нас каждая пара рук на учёте. Вот я и попрошу вас, Дарья Сергеевна, заняться этим. Сейчас человек собирается за едой, и я хотел, чтобы вы тоже поехали с ним, познакомились со всеми деталями, а потом будете ездить одна. Вы умеете запрягать лошадь?
Только сейчас до Дарьи дошло, что директор пришел не забирать ее в тюрьму, а предлагает работу. Что она нужна этому вежливому человеку. Она моментально оживилась, бледность спала с ее лица и, дав согласие, тут же стала собираться, не спросив об условиях работы.
Директор, тем временем, продолжал:
— Получать, Дарья Сергеевна, будете тридцать пять рублей в месяц. Пока живите здесь, а осенью получите жилье, если будете хорошо работать.
Директор попрощался и направился к выходу. Дарья вышла следом, забыв, на радостях, попрощаться с Иваном, и не сказав ни слова детям. Иван Иванович дал ребятишкам по куску хлеба, приобнял каждого за плечи и собрался идти на вокзал к поезду. И тут заговорила Мария, молчавшая все долгое время после случая с охранниками. Она вдруг объявила, что поедет с ним. Но даже он, всегда выдержанный и спокойный, возмутился, сказав:
— Ты что? Сошла с ума? Разве можно без разрешения матери уезжать неизвестно куда, да и где ты собираешься жить, кто тебя будет кормить и одевать?
На что Мария ответила:
— Я сама хочу разыскать отца, а первое время поживу у тети Веры в Воронеже. Работы сейчас полно и я всегда устроюсь. Если же ты, дядя Ваня, не возьмешь меня с собой, то я сама уеду с этим же поездом. Я молодая, красивая и мне не откажет ни один проводник. Матери я не нужна и пусть она дальше трясется за свою драгоценную жизнь.
Очевидно, не одну бессонную ночь провела она в думах о своей судьбе, если решилась на такой отчаянный шаг. Иван Иванович, молча, слушал ее, молчали и другие дети, ошарашенные таким откровением своей старшей сестры. Она же, с горящими глазами, продолжала говорить твердым голосом:
— Я все равно бы ушла в город, даже из своего дома. С детства я в няньках у этих галчат, — показала Мария в сторону сестер и брата, — ни на улицу сходить, ни поиграть с подругами. Мать совсем превратила меня в батрачку. На мне были и дети, и варка, и стирка, и скотина, и огород, а в ответ одни упрёки и затрещины. Может быть я неправа, но сама жизнь заставляет меня думать именно так!
Иван Иванович встал с топчана и, не оглядываясь, пошел на вокзал. За ним потянулись и все остальные. На перроне, кроме них, никого из пассажиров и провожающих не было. Мария, со слезами на глазах, обняла сестер и расцеловала каждую. С Ванюшкой попрощалась в последнюю очередь, а тот расплакался так, что не видел, как Мария села в вагон и как ушел поезд.
Солнце стояло уже в зените, когда Дарья вернулась назад. Она принесла в алюминиевой кастрюле борщ и нарезанный прямоугольниками пирог с картошкой. Все было так вкусно и сытно, что немного еды оставили еще на ужин. Татьяна рассказала матери о Марии, умолчав про истинную причину неожиданного отъезда, но Дарья не расстроилась, а может быть, оказалась даже рада такому обороту событий. После обеда Анюта осталась помогать матери наводить порядок в вынужденном жилище, а Татьяна с братом отправились оглядывать окрестности нового места пребывания. От вчерашнего дождика не осталось и следа. Ласковое солнышко основательно подсушило землю. Дул теплый, тихий ветерок, принося запахи близлежащего леса и разнотравья. Вдалеке, справа и слева, белело несколько домиков, огороженных низкими заборчиками. Людей нигде не было видно, словно все вымерло. От порога времянки, как на ладони, был виден завод, который расположился на ровной площадке. Одной стороной площадка примыкала к железной дороге, а другой к пшеничному полю. Завод не имел ограды, не было проходных и охраны. Сразу за длинным добротным помещением, с отдушинами по бокам, возвышались три печи для обжига кирпича и черепицы. За ними стояли три каркаса вновь возводимых помещений, по размерам равнявшихся первому. Здесь работало несколько человек, которые крыли эти сооружения толью. Дальше находилась хорошо выровненная площадка, посыпанная песком, а за ней, на равном расстоянии друг от друга, в земле было вырыто несколько кругов, обшитых по бокам тесом. В двух из них по одному человеку перекапывали глину с песком, периодически поливая эту смесь водой из шланга. Вплотную к кругам были проложены рельсы узкоколейки, по которой лошадь тащила тяжелую железную вагонетку, груженную доверху сырой глиной. Возница шел сзади вагонетки, держа в руках конец короткой слеги, которая другим концом была просунута между рамой и колесом вагонетки. Это приспособление служило тормозом на случай остановки лошади. Рельсы тянулись от края глубокого котлована, на дне которого копошилось около десятка рабочих. Они обрушивали ломами довольно высокую стену глины и в несколько приемов, с помощью многоярусного помоста, выбрасывали ее наружу. Увиденное было настолько необычным и интересным, что Татьяна и Ваня договорились наутро обязательно захватить Анюту и рассмотреть все повнимательнее.
Утром, на следующий день, Дарья собралась в Лотиково и решила взять с собой Ванюшку. Она ненадолго отлучилась, и вскоре подъехала на телеге, в которую был впряжен старый и понурый мерин. Чтобы попасть в Лотиково, пришлось пересечь железную дорогу и оказаться на другой стороне. За переездом дорога была ровная и не такая уж пустынная. Навстречу им двигалась целая вереница подвод с чистым песком. Поравнявшись, возчики, молча, приподнимали рукой фуражки и слегка кланялись. Дарья в ответ приветливо кивала головой и говорила: «Здравствуйте!». Дорога тянулась вдоль глубокого карьера с многометровыми песчаными стенами. Сразу за карьером местность понижалась и переходила в низину, в которой там и сям были разбросаны маленькие домики. В середине посёлка возвышался огромный террикон, по крутым склонам которого вверх и вниз сновали вагонетки, вывозя из шахты породу. Порода горела, распространяя по всей окрестности удушливый запах. Если пристанционный поселок утопал в садах, то здесь деревья ютились только на небольших пятачках. Столовая расположилась на самом краю посёлка и представляла собой обычный деревенский дом с большим деревянным крыльцом. С собой у Дарьи было две фляги и большая алюминиевая кастрюля ведра на три. В одну флягу им налили борща, в другую — фруктового киселя, а в кастрюлю наложили картофельного пюре и котлет. Обслужили быстро, без всяких задержек. Грузить на подводу помог сам повар, он же принес и холщевый мешок с хлебом. Приехали назад задолго до обеда. Поскольку столовой не было, питались рабочие под открытым небом. Неподалеку от нового деревянного строения, служащего конюшней, был сделан навес, под которым разместился большой стол из теса и врытые в землю скамейки. Поодаль от навеса сложили печку для подогрева пищи. Вот на этом нехитром пункте раздачи пищи и довелось Дарье стать полноправной хозяйкой. Незаменимыми помощниками стали девчата и даже маленький Ваня. В его обязанность входило ухаживать за мерином и разжигать печку, а девчата разносили еду рабочим и мыли посуду. Если рабочим обед обходился в тридцать пять копеек, то вся семья кормилась бесплатно и не один, а два раза в день. Казалось, что счастье повернулось к ним лицом. Они были сыты, имели незавидное, но постоянное жилье, никто их не подгонял, не посягал на свободу и достоинство. Так незаметно пролетели три недели и каждый вечер они вспоминали Ивана Ивановича и ждали отца. У Дарьи даже вошло в привычку говорить, ругая кого-либо из детей за провинность, что вот приедет отец и научит уму-разуму.
Приехал отец неожиданно. Вместе с ним приехали Иван Иванович с братом Николаем и сыном Федором. Приехали они в обед, когда семья крутилась на импровизированной кухне. Увидев отца, Ваня растерялся, а потом кинулся к нему на шею. Отец подхватил его сильными руками и прижал к груди. Потом поцеловал мать, обнял и расцеловал заплакавших дочек. За время разлуки Сергей Егорович сильно изменился, основательно похудел, а в движениях и взгляде серо-синих глаз чувствовалась какая-то настороженность и беспокойство. Мужики поели и, оставив разговоры на потом, поспешили в контору. Пришли они поздно, радостные и возбуждённые. Ваня ни на шаг не отходил от отца и ловил каждое его слово. Сергей рассказал жене, что директор встретил их очень любезно, расспросил о том, что они умеют делать и кем хотели бы работать. После разговора со слов записал фамилии, не спросив документов, вызвал счетовода, приказал выдать аванс и продуктовые карточки.
— А ты знаешь? — сказал он к жене. — Кто работает счетоводом?
— Кто? — забеспокоилась Дарья.
— Рудаков!
— Какой Рудаков?
— Да купец из Воронежа, который у нас пшеницу оптом скупал!
— Еще нам этого не хватало, — вздохнул, молчавший до этого Иван Иванович, — глядишь, тут и Митьку Жука встретим.
— Он меня не узнал, а может быть, вида не подал, а если и узнал, то ему нас придётся больше бояться, чем нам его. Он ведь про нас ничего не знает, а мы про него всё.
— Его, Серёга, тоже раскулачили? — поинтересовался Иван Иванович.
— Какой там, раскулачили! Он быстро уловил текущий момент и еще в двадцать пятом продал всё имущество, а теперь просто мелкий советский служащий и не придерёшься. Вот у кого надо было учиться жить!
Иван Иванович с братом и сыном сходили на склад и принесли себе топчаны.
Надо было жить дальше…
Конец
Приложение
ДЕКРЕТ О ЗЕМЛЕ СЪЕЗДА СОВЕТОВ РАБОЧИХ И СОЛДАТСКИХ ДЕПУТАТОВ
(принят на заседании 26 октября в 2 час. ночи)
1) Помещичья собственность на землю отменяется немедленно без всякого выкупа.
2) Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями переходят в распоряжение волостных земельных комитетов и уездных Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного собрания.
3) Какая бы то ни было порча конфискуемого имущества, принадлежащего отныне всему народу, объявляется тяжким преступлением, караемым революционным судом. Уездные Советы крестьянских депутатов принимают все необходимые меры для соблюдения строжайшего порядка при конфискации помещичьих имений, для определения того, до какого размера участки и какие именно подлежат конфискации, для составления точной описи всего конфискуемого имущества и для строжайшей революционной охраны всего переходящего к народу хозяйства на земле со всеми постройками, орудиями, скотом, запасами продуктов и проч.
4) Для руководства по осуществлению великих земельных преобразований, впредь до окончательного их решения Учредительным собранием, должен повсюду служить следующий крестьянский наказ, составленный на основании местных крестьянских наказов редакцией «Известий Всероссийского Совета Крестьянских Депутатов» и опубликованный в номере 88 этих «Известий» (Петроград, номер 88, 19 августа 1917 г.).
О земле
Вопрос о земле, во всем его объеме, может быть разрешен только всенародным Учредительным собранием.
Самое справедливое разрешение земельного вопроса должно быть таково:
1) Право частной собственности на землю отменяется навсегда; земля не может быть ни продаваема, ни покупаема, ни сдаваема в аренду, либо в залог, ни каким-либо другим способом отчуждаема.
Вся земля: государственная, удельная, кабинетская, монастырская, церковная, посессионная, майоратная, частновладельческая, общественная и крестьянская и т. д., отчуждается безвозмездно, обращается в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней.
За пострадавшими от имущественного переворота признается лишь право на общественную поддержку на время, необходимое для приспособления к новым условиям существования.
2) Все недра земли: руда, нефть, уголь, соль и т. д., а также леса и воды, имеющие общегосударственное значение, переходят в исключительное пользование государства. Все мелкие реки, озера, леса и проч. переходят в пользование общин, при условии заведывания ими местными органами самоуправления.
3) Земельные участки с высоко-культурными хозяйствами: сады, плантации, рассадники, питомники, оранжереи и т. под. не подлежат разделу, а превращаются в показательные и передаются в исключительное пользование государства или общин, в зависимости от размера и значения их.
Усадебная, городская и сельская земля, с домашними садами и огородами, остается в пользовании настоящих владельцев, причем размер самих участков и высота налога за пользование ими определяется законодательным порядком.
4) Конские заводы, казенные и частные племенные скотоводства и птицеводства и проч. конфискуются, обращаются во всенародное достояние и переходят либо в исключительное пользование государства, либо общины, в зависимости от величины и значения их.
Вопрос о выкупе подлежит рассмотрению Учредительного собрания.
5) Весь хозяйственный инвентарь конфискованных земель, живой и мертвый, переходит в исключительное пользование государства или общины, в зависимости от величины и значения их, без выкупа.
Конфискация инвентаря не касается малоземельных крестьян.
6) Право пользования землей получают все граждане (без различия пола) Российского государства, желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. Наемный труд не допускается.
При случайном бессилии какого-либо члена сельского общества в продолжение 2 лет, сельское общество обязуется, до восстановления его трудоспособности, на этот срок прийти к нему на помощь путем общественной обработки земли.
Земледельцы, вследствие старости или инвалидности утратившие навсегда возможность лично обрабатывать землю, теряют право на пользование ею, но взамен того получают от государства пенсионное обеспечение.
7) Землепользование должно быть уравнительным, т. е. земля распределяется между трудящимися, смотря по местным условиям, по трудовой или потребительной норме.
Формы пользования землей должны быть совершенно свободны, подворная, хуторская, общинная, артельная, как решено будет в отдельных селениях и поселках.
8) Вся земля, по ее отчуждении, поступает в общенародный земельный фонд. Распределением ее между трудящимися заведуют местные и центральные самоуправления, начиная от демократически организованных бессословных сельских и городских общин и кончая центральными областными учреждениями.
Земельный фонд подвергается периодическим переделам в зависимости от прироста населения и поднятия производительности и культуры сельского хозяйства.
При изменении границ наделов первоначальное ядро надела должно остаться неприкосновенным.
Земля выбывающих членов поступает обратно в земельный фонд, причем преимущественное право на получение участков выбывших членов получают ближайшие родственники их и лица по указанию выбывших.
Вложенная в землю стоимость удобрения и мелиорации (коренные улучшения), поскольку они не использованы при сдаче надела обратно в земельный фонд, должны быть оплачены.
Если в отдельных местностях наличный земельный фонд окажется недостаточным для удовлетворения всего местного населения, то избыток населения подлежит переселению.
Организацию переселения, равно как и расходы по переселению и снабжению инвентарем и проч., должно взять на себя государство.
Переселение производится в следующем порядке: желающие безземельные крестьяне, затем порочные члены общины, дезертиры и проч. и, наконец, по жребию, либо по соглашению.
Все содержащееся в этом наказе, как выражение безусловной воли огромного большинства сознательных крестьян всей России, объявляется временным законом, который впредь до Учредительного собрания проводится в жизнь по возможности немедленно, а в известных своих частях с той необходимой постепенностью, которая должна определяться уездными Советами крестьянских депутатов.
Земли рядовых крестьян и рядовых казаков не конфискуются.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Владимир Ульянов-Ленин.
Выверено по изданию: Декреты Советской власти. Т.I. М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957.
* * *
Постановление политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации»
Совершенно секретно
30 января 1930 г.
I
Исходя из политики ликвидации кулачества как класса и в связи с этим из необходимости провести наиболее организованным путём начавшийся в районах сплошной коллективизации процесс ликвидации кулацких хозяйств и решительно подавить попытки контрреволюционного противодействия кулачества колхозному движению крестьянских масс и признавая срочность этих мероприятий в связи с приближающейся с.-х. кампанией, ЦК постановляет:
В районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в остальных районах по мере действительно массового развёртывания коллективизации, следующие мероприятия:
1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и применении наёмного труда в сельском хозяйстве (разд. 7 и 8 Общих начал землепользования и землеустройства). Исключения из этого правила в отношении середняцких хозяйств должны регулироваться райисполкомами под руководством и контролем окрисполкома.
2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот, хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и семенные запасы.
3. Одновременно в целях решительного подрыва влияния кулачества на отдельные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного подавления всяких попыток контрреволюционного противодействия со стороны кулаков проводимым советской властью и колхозами мероприятиям принять в отношении кулаков следующие меры: а) первая категория — контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать путём заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую категорию должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдалённые местности Союза ССР и в пределах данного края в отдалённые районы края; в) в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных хозяйств участках.
4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких хозяйств должно строго дифференцироваться по районам в зависимости от фактического числа кулацких хозяйств в районе, с тем, чтобы общее число ликвидируемых хозяйств по всем основным районам составляло в среднем, примерно, 3–5%. Настоящее указание (3–5%) имеет целью сосредоточить удар по действительно кулацким хозяйствам и безусловно предупредить распространение этих мероприятий на какую-либо часть середняцких хозяйств.
Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев и командного состава РККА. В ношении же кулаков, члены семей которых длительное время работают на фабриках и заводах, должен быть проявлен особо осторожный подход с выяснением положения соответствующих лиц не только в деревне, но и у соответствующих заводских организаций.
II. О ВЫСЫЛКЕ И РАССЕЛЕНИИ КУЛАКОВ
В качестве мероприятий для ближайшего периода провести следующее:
1. Предложить ОГПУ репрессивные меры в отношении первой и второй категории кулаков провести в течение ближайших четырёх месяцев (февраль-май), исходя из приблизительного расчёта — направить в концлагеря 60 000 и подвергнуть выселению в отдалённые районы — 150 000 кулаков; озаботиться принятием всех мер к тому, чтобы к 15 апреля эти мероприятия были осуществлены в отношении, во всяком случае, не менее, чем половины указанного количества. Проведение этих мероприятий должно быть поставлено в зависимость от темпа коллективизации отдельных областей СССР и согласовано с краевыми комитетами ВКП(б).
2. Члены семей высылаемых и заключённых в концлагеря кулаков могут, при их желании и с согласия местных райисполкомов, остаться временно или постоянно в прежнем районе (округе).
3. Ориентировочно, в соответствии с данными мест, установить по областям следующее распределение заключаемых в лагеря и подлежащих высылке (в тыс.):
Средняя Волга. Концлагерь — 3–4. Высылка — 8-10.
Сев. Кавказ и Дагестан. Концлагерь — 6–8. Высылка — 20.
Украина. Концлагерь — 15. Высылка — 30–35.
ЦЧО. Концлагерь — 3–5. Высылка — 10–15.
Нижняя Волга. Концлагерь — 4–6. Высылка — 10–12.
Белоруссия. Концлагерь — 4–5. Высылка — 6–7.
Урал. Концлагерь — 4–5. Высылка — 10–15.
Сибирь. Концлагерь — 5–6. Высылка — 25.
Казахстан. Концлагерь — 5–6. Высылка — 10–15.
В отношении остальных областей и республик аналогичную намётку поручить произвести ОГПУ по согласованию с соответствующими крайкомами и ЦК ВКП(б)
4. Высылку произвести в округа Северного края — 70 тыс. семейств, Сибири — 50 тыс. семейств, Урала — 20–25 тыс. семейств, Казахстана — 20–25 тыс. Районами высылки должны быть необжитые и мало обжитые местности с использованием высылаемых на сельскохозяйственных работах или промыслах (лес, рыба и пр.).
Высылаемые кулаки подлежат расселению в этих районах небольшими посёлками, которые управляются назначаемыми комендантами.
5. Высылаемым и расселяемым кулакам при конфискации у них имущества должны быть оставлены лишь самые необходимые предметы домашнего обихода, некоторые элементарные средства производства в соответствии с характером их работы на новом месте и необходимый на первое время минимум продовольственных запасов. Денежные средства высылаемых кулаков также конфискуются с оставлением, однако, в руках кулака некоторой минимальной суммы (до 500 рублей на семью), необходимой для проезда и устройства на месте.
6. В отношении кулацких хозяйств, оставляемых на месте с отводом им новых участков вне колхозных полей, руководствоваться следующим: а) окрисполкомами должны быть указаны места расселения с тем, чтобы поселение в отведённых районах допускалось лишь небольшими посёлками, управление которыми осуществляется специальными комитетами (тройка) или уполномоченными, назначаемыми райисполкомами и утверждаемыми окрисполкомами.; б) расселяемым кулакам этой категории средства производства оставляются в размерах, минимально необходимых для ведения хозяйства на вновь отводимых им участках; в) на расселяемых возлагаются определённые производственные задания по сельскому хозяйству и обязательства по сдаче товарной продукции государственным и кооперативным органам; г) окрисполкомам срочно проработать вопрос о способах использования расселяемых кулаков как рабочей силы в особых трудовых дружинах и колониях на лесоразработочных, дорожных, мелиоративных и других работах; д) в отношении кулацких семей, веселенных за пределы районов, необходимо в частности иметь в виду возможность их расселения с противопоставлением — где это возможно — отдельных элементов молодёжи остальной части кулаков. При этом следует использовать такие методы, как собирание ими подписки на газеты и литературу, создание библиотек, организация общих столовых и другие культурно-бытовые мероприятия. Считать возможным в некоторых случаях привлечение отдельных групп молодёжи к выполнению в порядке добровольчества тех или иных работ для местных советов, для обслуживания бедноты и т. п., а также создание особого вида производственных артелей и с.-х. объединений, например, в связи со строительными и мелиоративными работами, а также облесением, корчёвкой леса и т. д. Все эти мероприятия должны проводиться под строжайшим контролем местных органов власти.
7. Описки кулацких хозяйств (вторая категория), выселяемых в отдалённые районы, устанавливаются райисполкомами на основании решений собраний колхозников, батрацко-бедняцких собраний и утверждаются окрисполкомами. Порядок расселения остальных кулацких хозяйств (третья категория) устанавливается окрисполкомами.
III. О КОНФИСКАЦИИ И РАСПОРЯЖЕНИИ КОНФИСКОВАННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
1. Конфискация имущества кулаков производится особоуполномоченными райисполкомов с обязательным участием с/совета, председателей колхозов, батрацко-бедняцких групп и батрачкомов.
2. При конфискации производится точная опись и оценка конфискуемого имущества, с возложением на с/советы ответственности за полную сохранность конфискованного.
3. Конфискуемые у кулаков средства производства и имущество передаются РИКами в колхозы в качестве взноса бедняков и батраков с зачислением конфискованного в неделимый фонд колхозов с полным погашением из конфискуемого имущества причитающихся с ликвидируемого кулацкого хозяйства обязательств (долгов) государственным и кооперативным органам.
4. Колхозы, получающие землю и конфискуемое имущество, должны обеспечить полный засев передаваемой земли и сдачу государству всей товарной продукции.
5. Конфискуемые жилые кулацкие постройки используются на общественные нужды с/советов и колхозов или для общежития вступающих в колхоз и не имеющих собственного жилья батраков.
6. Сберкнижки и облигации госзаймов у кулаков всех трёх категорий отбираются и заносятся в опись с выдачей расписки о направлении их на хранение в соответствующие органы Наркомфина. Всякая выдача выселяемым кулацким хозяйствам из взносов в сберегательные кассы, а также выдача ссуд под залог облигаций в районах сплошной коллективизации безусловно прекращается.
7. Паи и вклады кулаков всех трёх категорий в кооперативных объединениях передаются в фонд коллективизации бедноты и батрачества, а владельцы их исключаются из всех видов кооперации.
Принимая настоящие решения относительно ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации, ЦК категорически указывает, что проведение этих мероприятий должно находиться в органической связи с действительно массовым колхозным движением бедноты и середняков и являться неразрывной составной частью процесса сплошной коллективизации. ЦК решительно предостерегает против имеющихся в некоторых районах фактов подмены работы по массовой коллективизации голым раскулачиванием. Лишь в сочетании с самой широкой организацией бедноты и батрачества и при сплочении бедняцко-середняцких масс на основе коллективизации, необходимые административные меры по раскулачиванию могут привести к успешному разрешению поставленных партией задач в отношении социалистического переустройства деревни и ликвидации кулачества.
ЦК подчёркивает, что все указанные мероприятия должны быть проведены на основе максимального развёртывания инициативы и активности широких колхозных, в первую очередь батрацко-бедняцких, масс и при их поддержке. Решениям о конфискации кулацкого имущества и выселении кулаков должны предшествовать постановления общего собрания челнов колхоза и собрания батрачества и бедноты. Предупреждая против недооценки трудностей, связанных с осуществлением этих мероприятий и требуя от местных организаций принятия всех мер для максимально организованного их проведения, ЦК обязывает крайком и нац. ЦК установить не на словах, а на деле постоянное руководство за проведением настоящих решений в жизнь.
IV. ОСОБЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1. В помощь местным парторганизациям по проведению указанных выше мероприятий, ЦК постановляет мобилизовать на 4 месяца из промышленных областей (Московской, Ленинградской, Иваново-Вознесенской, Нижегородской, Харьков — Донбасс и т. д.) 2500 партийцев не ниже окружного масштаба. Мобилизованные должны выехать на места не позднее 20 февраля.
2. Предоставить ОГПУ право на время проведения этой кампании передоверять свои полномочия по внесудебному рассмотрению дел ПП ОГПУ в областях. В этих случаях рассмотрение дел производится совместно с представителями крайкомов ВКП(б) и прокуратуры.
3. На текущий бюджетный 1929/30 г. увеличить штаты ОГПУ на 800 чел. уполномоченных с отпуском потребных для этого средств для обслуживания тех административных районов, где таких уполномоченных нет. Этих 800 товарищей разрешить ОГПУ мобилизовать, прежде всего, за счёт старых чекистов из запаса. Кроме того, увеличить состав войск ОГПУ на 1100 штыков и сабель (на текущий бюджетный год). РВСР передать ОГПУ соответствующее количество личного состава.
4. Предложить Совнаркому СССР в трёхдневный срок рассмотреть смету необходимых расходов, связанных с проведением указанных мероприятий, сметы на расходы по выселению кулаков в отдалённые районы и сметы на организацию новых дополнительных лагерей в районах Сибири и Северного края. ОГПУ — представить эти сметы.
5. Поручить НКПС’у и ОГПУ в 5-дневный срок разработать план необходимых железнодорожных перевозок.
6. Поручить НКТруду и ВЦСПС и вместе с тем ВСНХ и НКПС принять немедленные меры по очистке промышленных предприятий в городах от отдельных кулацких элементов (не допуская какой-либо общей кампании чистки на предприятиях), а также принять жёсткие меры к дальнейшему недопущению таких элементов на производство.
7. Обязать партийные комитеты (особенно Москвы, Ленинграда, Харькова и Киева), ОГПУ и НКПросы союзных республик принять более решительные меры по борьбе в ВУЗах и ВТУЗах с контрреволюционными группировками молодёжи, связанной с кулацкими элементами в деревне.
8. Срочно пересмотреть законодательство о религиозных объединениях в духе полного исключения какой бы то ни было возможности превращения руководящих органов этих объединений (церковные советы, сектантские общины и пр. в опорные пункты кулачества, лишенчества и вообще антисоветских элементов.
Поручить Оргбюро ЦК дать директиву по вопросу о закрытии церквей, молитвенных домов сектантов и проч. И о борьбе с религиозным и сектантским движением, в целях устранения тормозов в соваппарате, мешающих проведению в жизнь принятых подавляющей массой крестьянства решений о закрытии церквей, молитвенных домов сектантов и т. п. В этой директиве указать также на необходимость особо осторожного проведения этих мероприятий в отсталых национальных районах.
9. Вытекающие из настоящего постановления законодательные изменения поручить СНК СССР издать в 5-дневный срок с тем, чтобы они были введены в действие крайисполкомами и правительствами национальных республик в районах сплошной коллективизации немедленно, а в остальных — в зависимость от темпа развития сплошной коллективизации в этих районах.
10. Срочно (в 3-дневный срок) издать не подлежащий опубликованию декрет о повсеместном (а не только в районах сплошной коллективизации): а) запрещении свободного переселения кулаков из мест своего жительства без разрешения райисполкомов под угрозой немедленной конфискации всего имущества; б) запрещении распродажи кулаками своего имущества и инвентаря под угрозой конфискации и других репрессий.
Исторический архив. 1994. № 4. С. 147–152.
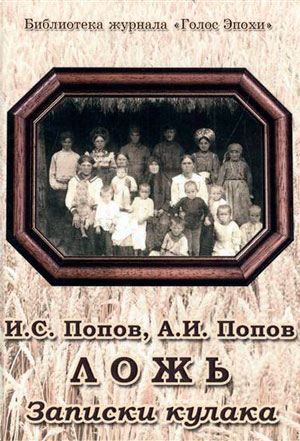
Комментировать