Две беды
— Папа, а ты вернешься? Скажи, вернешься?
Встревоженные дети вились около отца, заглядывали в его лицо, пугливо ластились. Их мама сидела в стороне на стуле с высокой прямой спинкой, утирала концом платка слезы и если бы не это горестное, быстрое движение, то казалась бы каменной.
Дела были заброшены. Беда выметала дом и двор и всюду чувствовалась пустота.
— Конечно, вернусь! Иначе-то как? — Отец трепал твердой работящей рукой легкие от кудрей детские головки, но косился в сторону матери, и была в его взгляде такая тоска, что обе девочки плакали, а восьмилетний сын притих, вдруг почувствовав боль от того, что становится взрослым.
Началось все в воскресенье, когда в два часа дня вместо живых цыганских песен из радиоприемника послышался холодный, чужой голос, звуки его тяжело падали в комнату, разрушая привычную, нагретую доброй жизнью обстановку: «От Советского Информбюро…»
Прощание затянулось. Молчали. Тишина становилась тягучей и крепкой, как жгут, связывала по рукам и ногам отца, безысходно привязывала к стулу мать, опутывала детей.
…Под окном громко и требовательно просигналила машина — она имела право разрубить связывающую их нить молчания и понимания. Признавая это право, все вскочили со своих мест, выбежали на улицу, торопливо, наверстывая, попрощались.
Отец, одетый в военную форму, уже был не их. Он запрыгнул в кузов и его скрыл могильный холм из мокро-серого брезента.
Папы своего дети больше не увидели. Хранили фотографии, единственное письмо с фронта, похоронку, а медаль за проявленную им храбрость всегда начищали до блеска. Помнили. Любили. Гордились.
— Папа, объясни, зачем ты уходишь?!
Огромными, пытливыми глазами сын всматривался в его лицо, держал за рукав. Сегодня отец ходил по дому в пальто и ботинках, оставляя грубые, безразличные следы на коврах, и скидывал свои вещи и подвернувшиеся под руку фотографии с веселыми, счастливыми детьми в большой новенький чемодан.
Девочки, напуганные бедой, прятались за диваном и беззвучно плакали. Старшая из них, четырехлетняя Вера, одной рукой затыкала свой рот, другой — искривившийся в рыданиях ротик сестры. Мама сидела на кухне, из-за закрытой двери не доносилось ни звука.
— Папа, ответь мне, почему ты уходишь? Что случилось?!
— Мы взрослые люди, правда? — не зло, стряхивая сына с рукава и застегивая чемодан, сказал отец. — Мы решили, что нам будет лучше жить отдельно…
— Кто решил?! Мы ничего не решали! — закричал мальчик, сорвался, заплакал. — Я не понимаю, зачем ты уходишь… бросаешь нас… за что?!
Под окном просигналила машина. Отец напрягся, быстро проговорил:
— Я вас не бросаю, будете приходить в гости, я познакомлю вас с моей новой женой, и все у нас будет хорошо. — Говорил он взволнованно и искренне, поцеловал сына в лоб, поискал глазами девочек и, не найдя, взял чемодан и, не оглядываясь, спешно вышел из квартиры.
Громко и хрипло захлопнулась за ним дверь, без войны покалечив детей и разрушив Дом. У сына навсегда в груди осталась боль от того, что ему пришлось слишком рано повзрослеть, а дочерям в жизни часто доводилось плакать, мучиться, прощать, чтобы их дети не остались без отцов…
***
Труд на фабрике, рытье окопов, тяжелейшая работа с утра до утра, голод… Можно забыть себя, но не страх за детей. Трое сыновей ушли на фронт. На части разрывалось материнское сердце. «Господи, миленький, спаси, помилуй!» — в такт станку вторила она.
Детки, всех выносила, вынянчила, от зла берегла. Где-то они теперь? Вьюга заметает? Враги убивают? Кровь родная льется? Изболелась, измаялась, в сорок пять старухой стала.
Когда почта через войну пробилась, три похоронки получила мать-вдова. В один день от горя заледенела, ясные глаза пеленой подернулись, волосы инеем поросли. Едва жизнь в ней теплилась, казалось, подует ветер и унесет на небо.
Но осталась жить. Ради доченьки, последней своей, ради памяти и любви. Жить в городе-герое, за который сыновья свои жизни отдали.
Жизнь не складывалась. Уже тридцать — ни семьи, ни мужа, временная работа, мимолетные, глупые встречи. Ни друзья, а компания.
Угнетали длинные, пустые коридоры, скорбно ползущее время. «Скорей бы!» Никого. Даже поругаться не с кем. Забыли о ней, что ли? Думать ни о чем не хотелось, было жаль себя, и это чувство заполняло все существо, медленно растекаясь по венам. Что за жизнь-идиотка?! Ну да не впервой… ученая уже. Скоро опять все будет. Будет все…
Далеко, в другой перспективе, появилась черная на фоне окна фигура санитарки с ведром и шваброй. Старушка неспешно, сосредоточенно мыла пол. Она приближалась и становилась светлее и ярче. Поравнявшись с пациенткой, санитарка с усилием выпрямилась, поставила к стене швабру и скорбно посмотрела на молодую женщину.
— Что надо? — не особенно церемонясь, спросила та.
— Зачем мир хороший топчешь? — не зло поинтересовалась старушка. — Получила жизнь авансом, а знаешь, сколько деток еще в утробе материнской умирают, потом от болезней всяких? А ты живешь… Хвостом крутить научилась, а женщиной стать не захотела…
— А ваше-то какое дело?
— Жалко мне тебя. Это же какое у тебя сердце, — пришла ребеночка своего убивать, а в глазах пустота.
— Да что вы знаете обо мне, чтобы судить! Сейчас жизнь такая!
— В войну рожали, в блокаду деточкам места в жизни хватало, а теперь не те времена настали… Вот моя мама… Троих сыновей у нее война украла, все сердце ей прострелила. Каждый выходной меня с собой прихватит и на Пулковские высоты, где землица кровью родной полита… Такое горе… Вечное. А теперь без войны и без жалости детишки гибнут. Страшно-то как, Господи…
А ведь всем нам аванс возвращать придется не так, так этак.
Мама
Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе…
(Канон Великой Субботы)
Кричит Мать, и бьет себя в грудь, и волосы рвет:
— Увы мне, Чадо мое, дорогое, любимое, Свете мой! Не уберегла Тебя, безвинного оплевали, изранили всего, смерти предали… Надежду и жизнь мою погубили, Сына моего…
Седая сутулая очередь извивается у подножия «Крестов». Невский туман скупо влажнит высохшие глаза, каменные лица.
— Вот, посылочку передайте, пожалуйста… и письмо… письмо тоже возьмите…
— Сказано, без права переписки… не тычь тут своим письмом. Без права, ясно?!
— …расстреляли… точно… без права… все… убили… убили… — шепчет пронзительная тишина.
А мать все стоит у «Крестов», растерянная, одинокая… А стена-то красная, как кровью пропитана… Снова в конец, опять шестисотая… А здесь как будто ближе… И не плачет она, умерла, и только мнет в руках листок: «Держись, сыночек, радость моя, это недоразумение. Все скоро выяснится, родной мой, зернышко мое…»
Куда же Ты уходишь, Сыне мой, зачем оставляешь меня одну. Сердце разбито, душа кровоточит, как мне без Тебя… Горе мне, горе…
Скотинку обрядила, вот и хорошо, еще денек вышел. Скоро уж почту принесут… Ох, как прохватило-то. Распахнула окно… белая занавеска взметнулась и затрепетала. Вон, кажись, и Анисья. Вдруг сердце подскочило и забилось, забарабанило…
— Петровна, тебе… похоронка пришла… сын твой, Сережка, геройски погиб, исполняя…
— Да ты с ума сошла, что ль?! Всю жисть рядом прожили, ужель не знашь! Врешь все, врешь! Не мне похоронка! Туды неси, они все пропили и Ваньку свово давно пропили! Весь в соплях ходил, голодный. А Сереженька мой, кровиночка моя… Нет, туды неси! Туд-ы-ы-ы-ы-ы-ы-ы…
Зачем Тебя пережила, Жизнь моя, зачем бездыханного вижу. Болезни и скорби захватили меня, состарили. Никогда уже радость не коснется сердца моего. Хочу умереть с Тобою, Чадо мое любимое! Выше всех матерей возвеличил Ты меня, но, увы мне, вижу Сына своего благоуханьями помазана, яко мертвеца…
Девять месяцев она носила сыночка под сердцем, девять месяцев искала его в Чечне…
Удар, еще удар… Кровь… все разбито, глаза затекли, зубы выбиты… А волосы поседели… Кажется ушли… помирать бросили… Но она встала, потому что мать, потому что к сыну идет.
Крик роженицы – крик боли и радости… Как же кричала она, когда могилу сына раскапывала! Навзрыд, отчаянно, все сердце на землю выплеснув… Замучили сыночка, обезглавили… А крестик бабушкин так и висит на простой веревочке… маленький серебряный крестик, а тяжелый-то какой… Сначала он нес, теперь ей до конца своих дней нести… Это хорошо, правильно, что выдержал, не предал… Но как жить-то теперь…
Вижу Тебя, Чадо мое любимое, на Кресте висящего, вижу страдания Твои и боль Твою и убиваюсь с Тобою вместе.
Что же вы не даете утробу мою взять на руки, младенцем покачать, раны поцеловать?!
Ни от гроба Твоего не отойду, ни плакать не перестану, любезное Чадо мое. За Тобою и в ад спущусь… Как же мне оставить Сыночка моего?
Пресвятая Богородица припала к Кресту пригвожденная и плакала горько, и молила, и ласкала Сына своего распятого:
— Воскресни, Жизнь моя, утоли печаль мою и болезнь, все Ты можешь, если захочешь, смилостивись же надо мною, вернись ко мне или с собой забери, но не оставляй одну…
Про щенка
1941 год
— Ты кто? Котенок что ли? Почему лакаешь молоко языком из плошки?
— Я твой щенок! Ты что забыла?!
— А как тебя зовут? — нежно улыбнулась ему женщина, посадила на колени, прижала к теплой, большой груди, приласкала.
— Тимофей, конечно! — тявкнул щенок.
— Раз уж ты собачка, тогда я буду называть тебя Тимошей, ты не против?
Щенок был доволен. Короткая жизнь его казалась сплошным счастьем. Он родился в доме, где жила Любовь, правда, сколько он ни заглядывал в углы, на полочки, за печку — нигде ее найти не мог, но это, наверное, потому, что был он еще очень маленьким и несмышленым. Но присутствие Любви чуял и разговоры о ней слышал, да такие теплые, тихие, будто была она хозяевам близкой родственницей.
У хозяйки родилось много детей, столько, что и не сосчитать всех. Они любили друг друга, Тимошу называли младшим братиком и так заботились о нем, что ему никогда не становилось грустно. Выл он очень редко, понарошку, только для того, чтобы не разучиться. Выбегал во двор, садился перед старой громадной конурой, поднимал к бесконечному небу мордашку и затягивал свое: «У-у-у-у-у-у…»
Щенку очень хотелось жить в этой настоящей, собачьей будке, чтобы его, как большого и настоящего, посадили на цепь, выносили в корявой миске кашу или кости… Но пока он ютился вместе со всеми в доме, попадался все время кому-то под ноги, часто и громко визжал, кусался, бегал, сбивая все на своем пути, а ночью сладко спал на теплой лежанке. И снились ему веселые собачьи сны.
Вся семья поднималась рано — работа не давала залеживаться. После первого петушиного «Ку-ка-ре-ку!» и коровы, и гуси, и куры не хотели больше спать, начинали суетиться, горячо обсуждая между собой, когда же придут хозяева.
Тимошка первым соскочил с печки, громко тявкнул от радости и вылетел через некрашеную раму дверного проема в мокрое, душистое, цветное утро.
Первым делом щенок вспугнул сонную пеструю кошку, которая, чтобы не пропустить время дойки, всегда загодя приходила в коровник.
— Доброе утро, Матрешка! — крикнул ей вслед Тимоша.
Но та не ответила, обиженно глянула на него и, обретя свою прежнюю походку, пошла к сараю. Щенок хотел было погнаться за ней, но передумал и выбежал со двора.
Перед ним сияло тысячами капелек-звезд бескрайнее поле. Набравшись за ночь сил, каждая травинка, каждый цветок дарили свой аромат — такой густой, что его хотелось облизать. В этот час, когда солнце только поднялось над лесом и было еще совсем заспанное — теплое, мягкое и румяное, Тимоша чувствовал на душе особенный восторг. В голове появлялось столько мыслей, а в сердце — столько радости, что они не помещались в его маленьком организме и звонко вырывались наружу. Щенок лаял, повизгивал, бегал и прыгал до тех пор, пока лишнее счастье не обсыпалось с него. Кто-то грустит, когда теряет счастье, но Тимоше было его не жалко, он верил, что оно пойдет полю на пользу.
Во двор щенок прибежал весь мокрый от росы и умеренно счастливый. Пулей влетел в коровник, забрался на сеновал и оттуда начал наблюдать за хозяйкой, которая, напевая вполголоса, доила Милку. Корова неторопливо жевала что-то и была задумчива. Она совсем не пополняла свой рот едой, и Тимоша испугался, что Милка втайне пережевывает песню. Негодование и расстройство буквально свалили щенка с ног, он кубарем скатился с сеновала, подбежал к злоумышленнице и со всем вниманием стал следить за ее ртом.
Сердце, тебе не хочется покоя!
Сердце, как хорошо на свете жить…
— Милка песню ест! — взвизгнул Тимошка, когда его страшные подозрения оправдались — слова пропадали в жаркой, как печка, коровьей пасти.
— Смешной ты, малыш, — хозяйка улыбнулась ему радостно-радостно, — не бойся, песенка не пропадет. Она через твои ушки пробежит в сердце и там сохранится. А ты потом вспомнишь и сам споешь ее, а кто-то еще услышит…
— Как картошка! — обрадовался щенок. — Одну посадишь, а потом ее много становится!
— Точно, как картошка, — еще раз улыбнулась женщина.
Последняя струйка молока с треском воткнулась в подойник. Хозяйка вытерла руки о передник, взяла тяжелое ведро с курчавой шапкой духмяной пены и поставила в сторонку, потом погладила Милку, приговаривая: «Спасибо, дорогая, спасибо, кормилица наша». Корова что-то промычала в ответ, но что именно, разобрать не получилось, у Милки была привычка жевать слова.
Как только подойник оказался на безопасном расстоянии от коровы, появилась кошка Матрешка. Она всегда появлялась в этот момент и начинала мяукать, как котенок, чтобы ей дали молока.
Щенок знал, что это нехорошо, но при виде кошек что-то начинало зудеть в его груди, не давая покоя. Он громко тявкнул и помчался на Матрешку.
Кошка не хотела уходить без завтрака, поэтому нырнула за ведро, Тимошка помчался за ней. Оба глаза его были широко открыты, но видели только беглянку. Еще чуть-чуть и молоко оказалось бы на полу…
Хозяйка вовремя поймала щенка за ухо.
— Ты зачем кошку обижаешь? — строго спросила она. — Матрешка уже старая, но не перестает работать — ловит мышей и крыс, и поэтому у нас в доме и в амбаре, и в коровнике порядок. Пора тебя каким-то делом занять, а то бегаешь целыми днями и от скуки балуешься только!
Щенку стало стыдно, он хотел было извиниться, но вдруг заметил, с каким злорадством на него посмотрела кошка, и поклялся себе, что непременно когда-нибудь оторвет ей хвост.
Тимошка хотел выскочить во двор и бежать куда-нибудь, но хозяйка не пустила, обняла, приласкала.
— Хочешь молока? — просто и ласково предложила она.
В ее голосе было столько родного и теплого, что обида на кошку и стремление к гордому одиночеству мгновенно растаяли, согрелось сердце и вновь стало уютно и радостно.
В это утро вся большая семья собралась, как обычно, за столом. Пенное, еще теплое молоко разлили по чашкам, из печи достали нестерпимо душистый хлеб и нарезали большими ломтями. Загорелая корочка скрипела и похрустывала под ножом, и на стол летели яркие, вкусные брызги.
Солнце стояло рядом с домом так близко, что лучи, влетевшие в окошко, были густыми и почти непрозрачными, поэтому казалось, что сияет и стол, и чашки, и хлеб, и лица, и молчание.
Когда завтрак окончился, люди нехотя встали из-за стола, каждого ждала работа. Но, уходя, все чувствовали, что это счастье уже никогда не повторится.
Щенок допивал свое молоко последним, спешил. Оказалось, лакать довольно сложно, от напряжения у него даже устал язык. Хлопала дверь, провожая уходящих. Когда Тимошка выскочил в сени, то застал только хозяина.
— Ну, что, постреленок, все-таки вышел проводить? — улыбнулся он. Потрескавшейся и тяжелой от работы рукой потрепал его по голове. — Будь молодцом, договорились? Береги дом.
Щенок, не в силах стоять на месте, прыгал и приплясывал, потом с громким, пронзительным лаем побежал провожать хозяина до калитки.
Как все взрослые, солнце тоже уходило от дома и направлялось на работу. Оно, как хозяйка и хозяин и их старшие дети, работало в колхозе «Красный луч», только с неба. Все говорят, что если бы не солнце, то ничего бы в поле не уродилось.
При доме оставались только двенадцатилетний Егор, девятилетняя Катя и Тимошка. Но и они были заняты, каждый своим делом. Егор уходил в поле ворошить скошенную траву, чтобы она превратилась в сено, Катя, как совсем взрослая, хлопотала по хозяйству, а Тимошка был оставлен на свое полное усмотрение.
Первым делом он проверил дом, потом сбегал в амбар, в коровник, попытался пересчитать кур, но их было слишком много для этого, и хотел уже бежать в поле к Егору, как вдруг заметил хозяйку. Она вбежала во двор, платок съехал с головы, волосы свободно падали на лицо, но женщина не убирала их.
Хозяйка села на стул и тяжело, задыхаясь, проговорила:
— Кать, война… батьку нашего забрали… нужно собирать…
Она поднялась и спешно, отчаянно стала вытаскивать из шкафа вещи хозяина, громко всхлипывая, совала их в мешок. С каждой уложенной рубахой прощалась, как с уходящим все дальше мужем.
Щенок дергал хозяйку за платье и плакал от сочувствия, но женщина не обращала на него внимания.
— Ждите меня дома, — сказала она. — Егорку позовите и ждите… дома.
Хозяйка взяла мешок и выбежала на улицу. Простоволосая…
Катя сидела тихо и плакала, размазывая слезы по веснушкам.
— Ты чего? — спросил у нее щенок.
— Мне страшно… — прошептала девочка, съежилась и умолкла.
Тимошка выбежал из дома. Калитка стояла распахнутой. И что-то пропало со двора. Щенок еще раз оббежал двор, заглянул в коровник и амбар — все стояло на местах, но что-то все-таки исчезло. Невидимое что-то.
С этого дня постоянно стало звучать слово «война». Щенок представлял ее как вора с огромным мешком — война забрала хозяина, потом старшего брата, потом сестру, а вскоре после сестры неизвестные люди увели Милку, она упиралась, мычала. Тимошка, которому велено было стеречь всех и оберегать, ничего не смог поделать. Он лаял, кусался, плакал…
Хозяйка обняла его, прижала к груди и, пряча свои слезы в его курчавой макушке, стала уговаривать:
— Так надо, успокойся, сыночек, так батьке нашему надо и другим солдатам…
Вскоре исчезло сено, которое Егор для Милки сушил, и куры. Коровник совсем опустел, и амбар, и дом. Теперь вместе с хозяйкой на работу в колхоз уходили Егор и Катя, а Тимошка оставался один. Была еще кошка, но она совсем одичала без молока и целыми днями пропадала в поле.
Щенок подолгу сидел на крыльце, греясь на солнце, и думал о том, что еще может пропасть, что нужно спрятать. Натыкаясь мыслями на пустое ведро, он вспоминал теплое, сладкое молоко с пышной пеной и хорошенько припрятывал это воспоминание, чтобы не забыть. Оглядываясь по сторонам, он замечал пустые бельевые веревки, по которым прыгали птицы, необутый в большие кирзовые сапоги забор, и от одиночества становилось больно. Перед глазами проплывали родные лица. «Береги дом», — снова говорил хозяин и снова уходил. Тимошка замирал, зажмуривал глаза, чтобы не отпускать его, и тихонько скулил.
Дни сменялись незаметно. Так они были похожи друг на друга грустью и сожалением. Однажды пришел осенний день, когда никто никуда не стал уходить. Егор, Катя и мама остались дома. Солнце либо погасло, либо спряталось. Наши войска отступали, оголив деревню.
«Что делать? Что нам делать?» — шептала мама.
Ее руки и взгляд упирались в накрытый пустой серостью стол. Колхоз закрыт и эвакуирован. Гонка за жизнь окончена. Соседние деревни взяты немцами.
Щенок сидел на полу в уголке, он не понимал в полной мере, что происходит, какая страшная война захватила, подожгла, замучила всю страну, сколько мужества и горя проливалось в эту минуту на землю. Он смотрел на опустевший дом и чувствовал свою вину. Не сберег…
Деревня замерла, потеряла голос — с начала войны она говорила все меньше и тише и вот совсем замолкла. Не голосили петухи, не мычали коровы, не блеяли козы и овцы — животных больше не было. Не смеялись, не кричали дети, не судачили звонко бабы на завалинках. Когда вывезли колхоз, семьи, где остались не совсем старые и не совсем малые мужчины, собрав узлы, ушли в горящий осенью лес, остальные сидели по домам и с минуты на минуту ждали в гости беду.
Она вошла победно. Едва робко запели утренние птицы, как по улицам прокатился неведомый до сих пор грохот и лязг. Не только щенок, но и старики на своем веку не видывали столько техники — мотоциклы, бронетехника, орудия, дорогие легковые автомобили. Народ собрался у дороги. Никто не произносил ни звука, или его было не слышно.
Немцы выходили из машин, лаяли на толпу на своем страшном языке, вламывались в дома, рылись в вещах, выносили еду и посуду — брали только хорошее, остальное сваливали на пол, пинали грязными сапогами. Уезжали. Подъезжали не другие — следующие. И все повторялось. Где-то слышались выстрелы. Воздуха не стало. Пронзительно пахло смертью.
Мама держала Тимошу на руках, прижав его головку к своему плечу, чтобы его было не слышно. Хозяйка вместе с детьми сидела на земле между коровником и амбаром, замерев от ужаса.
К вечеру деревня опустела. Навалилась теперь навсегда страшная тишина.
Оставив детей, женщина одна вошла в дом. Постояла в дверях, поплакала молча в передник и крадучись, торопливо стала собирать в одеяло одежду и чудом сохранившуюся в печи еду. Боялась, что вот-вот нагрянут новые хозяева.
Щенок дремал на руках у Кати. Все устали. Наскоро поужинав, пошли ночевать в коровник. Домой идти было страшно, он уже не принадлежал им. На остатки Милкиного сена мама постелила одеяла. Спали все вместе, прячась друг у друга от бездолья.
Утро в их жизнь ворвалось грубо, с воплями, стрельбой, клокотаньем мотоциклов. Людей выгоняли из домов на улицу, били прикладами тех, кто медленно бежал.
В коровник вломились солдаты, они что-то говорили, ругались, стволами автоматов толкали к выходу маму, Катю и Егора.
— Только не детей! — кричала женщина. — Детей не трогайте!
Она со слезами кидалась на железное оружие, закрывая своих любимых, кроме них, ей было уже нечего терять.
Вскоре все оказались на улице. Бледное солнце неподвижно висело над деревней. Горели чьи-то дома, черный дым стелился по земле, от шума люди глохли. Все казалось нереальным, глаза не верили тому, что видели. До ужаса, до спазмов в горле хотелось проснуться. Тощий старик, ободренный безумием, кричал громче всех: «Конец света! Это конец света! Ура, братцы!»
Тимошка, незамеченный, забился в сырую конуру. Все его маленькое тело тряслось от страха. Он свернулся в комочек и затих. Перестал существовать на время, не сознавая себя и того, что его окружало.
День дополз до конца, укрылся ночью, но щенок этого не понимал. Не чуял холода и голода, не замечал душевной боли. Не плакал.
Окошки домов светились огнями, слышались песни и смех — немецкие солдаты праздновали новоселье. Чужое страдание было выброшено далеко и не мешало радоваться жизни.
Когда все стихло, в конуру, едва касаясь земли, вошла кошка Матрешка. Понюхала щенка. Шершавым языком полизала его щеку: «Очнись, нужно дальше жить…»
Тимоша не шевелился. Тогда Матрешка легла совсем рядом с ним и стала мурлыкать на ухо уютную, домашнюю песенку, согревая его застывшее сердце.
Щенок прижался к старой кошке и заплакал. Кроме нее, у малыша больше никого не осталось.
Следующий день родился хмурым, старым и серым, как вечер. Матрешка с рассветом ушла в поле, и Тимоша остался один. В деревне кипела чужая жизнь. Мимо конуры то и дело проходили чьи-то сапоги, скрипело крыльцо, знакомо хлопала входная дверь. Сердце щенка каждый раз подпрыгивало от этого звука. Он даже один раз высунул голову, так сильно ему показалось, что в дом заходят хозяева.
Вылезать из конуры щенку было страшно, так страшно, что он терпел нужду, сколько мог. Когда сил терпеть не стало, он выбрал время и выскользнул из будки, а когда возвращался, его заметил немецкий солдат с бледными, холодными глазами. Он безразлично, но во весь зубастый рот засмеялся, увидев Тимошку. Стал звать товарищей, указывать на него пальцем.
Малыш забился в свою каморку. Но солдаты обступили его, кто-то уже лез рукой в будку. Их голоса были нестерпимо близко. Ужас колотил щенка, вытряхивая из него душу.
Когда его схватили и стали тянуть к выходу, он извернулся и сильно укусил обидчика. Тот закричал, рука его размахнулась для удара, но не ударила, крепко схватила за ногу и выволокла Тимошку на улицу.
Свой трофей немец посадил на привязь. Он смеялся, когда туго застегивал на шее малыша ржавую цепь. Он смеялся, когда ставил перед ним миску с остатками супа, когда вместе с тряпьем бросил в будку шерстяную юбку хозяйки, от которой еще пахло домом. Он смеялся…
А Тимошка обнял мамину юбку и завыл. Его худое тельце не могло уместить столько боли, сколько выпало на его долю.
Щенком наигрались быстро. Иногда, когда вспоминали, кидали ему кусок хлеба. Ночи становились все холоднее, все чаще шли ледяные дожди. И тогда Матрешка приходила к малышу и согревала его.
Однажды немцы куда-то уехали, за деревней слышались выстрелы. Но это было далеко. Двор опустел. Тимошу сморил больной, безразличный сон. Щенок уже давно ничего не ждал и ни на что не надеялся, не следил за временем, поэтому оно шло, как ему вздумается.
— Тимошка! Тимошка, где ты? — Кто-то громким шепотом звал его на улице.
Не открывая глаз, щенок заплакал. Он сразу узнал голос брата Егора, но не поверил, что это правда.
— Тимошка! Ты здесь? — Брат машинально заглянул в будку и хотел уже идти дальше, как вдруг остановился пораженный: — Тимошка, это ты?
Егор вытащил его, освободил от цепи.
— Щенок! Ты живой?
Тимоша открыл глаза и прошептал:
— Не хочу больше быть щенком…
Егор взял братика на руки, укутал в свой ватник и выбежал со двора. Он хотел унести его как можно дальше от конуры, которая лишила его детства.
— Ты не плачь! — говорил Егор и громко шмыгал носом. — Мы теперь вместе будем… Нас на работу угнали… укрепление чтоб строить… И меня, и мамку, и Катю. А мы вырвались и в лес… И тебя искали… Все вместе будем…
Тимофей, закутанный в ватник, лежал на коленях у мамы в своем новом доме — небольшом шалаше из еловых лап и соломы посреди густого темного леса. Он тянул ручки к маминому лицу, улыбался, когда она его целовала, и шептал:
— Мамочка, я не хочу больше быть щенком, никогда-никогда…
Женщина ласкала сына и плакала, вечер скрывал ее слезы.
— Нашли! Мы нашли ее! — Радости Егора и Кати не было границ. — Вот, держи, Тимошка.
Дети посадили рядом с братиком теплую, пахнущую осенними полевыми травами Матрешку.
Тимоша был счастлив. Его маленькое тело за последнее время сделалось еще меньше и не могло удержать счастье.
Мальчику казалось, что он летит…
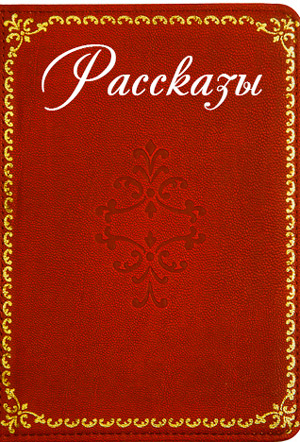
Комментировать