Часть третья. Монголы надвигаются на Русь
Перед той перед бедой, за великой рекой
Боры древние загоралися.
Загорались боры древние, дремучие.
Черный дым стоял, застил солнце на небе…
А над теми над борами, из-за полымя,
Из-за дыма птицам лететь нельзя…
Тогда по земле вести пошли,
Вести страшные, вести ратные…
Ив. Рукавишников. «Ярило»
Глава первая. Старшой лесовик
Нелюдимый и угрюмый Савелий Севрюк, по прозвищу Дикорос,[112] жил на берегу уединенного озера, затерянного в глубине вековых рязанских лесов. На небольшой поляне стояли избы выселка и бревенчатая часовенка. Кругом густо росли пышные кусты ежевики, малины и смородины. И поляна, и выселок назывались Перунов Бор.
Говорили старики, что здесь раньше жили колдуны, поклонялись деревянным истуканам. Один такой истукан, трухлявый и вросший в землю, лежал в малиновых кустах среди ельника.
Во все стороны тянулись топкие болота и бездонные трясины, по которым едва заметными тропами пробегали только зайцы. Эти тропы засосали немало неосторожных охотников, прельстившихся заманчивыми изумрудными лужайками.
В выселке кроме Дикороса жило еще несколько крестьян-лесовиков. Ближайшего соседа справа звали Ваула. Был он мордвин и бежал со своей родины в поисках лучшей доли. Ростом невысокий, черноволосый и рябой, он и жену имел такую же низкорослую и рябую. Между собой они говорили по-мордовски, отчего и пошло крестьянину прозвище «Ваула» (шепелявый). Детей у них была полна изба – все маленькие, юркие и черноглазые, как мышата.
Другим соседом Дикороса был Звяга, пришедший из Рязани, высокий, худой и костлявый. Жил Звяга в небольшом срубе, крытом дерном и пластами бересты; в избе его главное место занимала глиняная печь. Детей было много, все беловолосые, вымазанные копотью, так как изба топилась по-черному, трубы не имела, а дым из печи уплывал через волоковое оконце над дверью. Жена Звяги, тоже худая и высокая, едва успевала и по хозяйству, и по работе в лесу: она помогала мужу летом рубить вековые сосны и ели, а зимой вывозить их по льду в ближний монастырь.
Был на выселке еще крестьянин Лихарь Кудряш. Пришел он из Суздальской земли позже других, вместе с молодой женой. Вдвоем они нарубили ровных сосен, свезли их по первопутку на поляну, поставили себе сруб и пристройку для скота. В новой избе родилась дочка, назвали ее Вешнянка. Заболела жена горячкой и вскоре умерла. Выдолбил Кудряш из липового кряжа гроб, похоронил тело молодой жены под березкой и остался с маленькой дочкой жизнь вековать вдовцом. Кудряш вскормил ее с рожка, через коровью соску, потом часто уходил то на постройки в Рязань, то в Дикое поле,[113] где кочуют половцы, торговать у сторожевых застав, то неделями пропадал в лесу, где ловил силками и западнями белок, горностаев, куниц и других зверьков. А Вешнянка тем временем жила как родная в избе соседа Дикороса.
В поселке считали Савелия Дикороса за старшого – он раньше всех поселился в Перуновом Бору и всем показывал пример: когда начинать пахать, когда сеять, не боясь утренних холодов, или отвозить по замерзшим трясинам лещей, моченые ягоды и соленые грибы для монастыря. Дикорос был ширококостый, крепкий мужик, с угрюмым взглядом из-под нависших на лоб волос. Своими руками, своим горбом отец и дед Дикороса расчистили лесную чащу, выкорчевали и выжгли старые огромные пни. Первыми засеяли они вспаханную и засыпанную золой целину – сперва овсом, а в следующие годы рожью и коноплей.
С радостью ушел бы Дикорос еще дальше в глубь лесов, чтобы работать на приволье, без чужого хозяйского глаза, но все равно не скроешься от длинной руки монастырского сборщика в подряснике или княжеского тиуна.[114] с острыми хищными глазами, – все равно сыщут и доберутся до распаханных мест и начнут высчитывать и надбавлять дань[115] Крякнет Дикорос, бросит в сердцах о землю собачий колпак, тряхнет космами и прогудит:
– Сделайте милость, повремените с данью! И коню дают передышку, пускают на луга пастись. Так зачем же добивать человека? Ведь работаю один не покладая рук. Когда еще подрастет мне подмога! Сынишка еще мал.
И опять Дикорос налегал на рогали[116] или брал тяжелый топор и принимался за привычную работу: валить столетние стволы, прорубать просеку или, по пояс в грязи, выводить из болота канаву.
Всю надежду Дикорос возлагал на единственного сына. Пока тот был мал, звал он его Глуздырем,[117] а как паренек стал подрастать и в работе оказался сметливым и расторопным, дали ему соседи кличку Торопка. Было у мальчика и другое имя, каким при крещении наградил его старый поп на погосте, да то имя нелегко вымолвить: Анемподист. Высокий, вихрастый, в веснушках, с крепкими руками, он походил в работе на отца: и дерево срубит, и целину вспашет, и стрелой из лука собьет прыгающую по веткам веселую белку.
Была в Перуновом Бору еще вдова, звали ее Опалёниха. Считалась за крестьянина – и землю сама пахала, и дрова рубила, и на озере сетью ловила карпов и лещей.
Овдовела она с тех пор, как в низовьях Оки поволжские разбойники забрали у нее двух детей, мальчика и девочку, и продали булгарским купцам. А мужа, пытавшегося отбить детей, разбойники бросили в костер, отчего он и помер. С тех пор пошло ей прозвище – Опалёниха. Переселилась Опалёниха в Перунов Бор. Работой хотела тоску приглушить. Завела несколько овец. Они у нее жили и плодились, тогда как у других овцы погибали.
Опалёниха все детей своих вспоминала. Крепко привязалась она к Вешнянке, больше других соседей нянчила ее, а в голодный год[118] подобрала на погосте двух сирот, стала их кормить и пестовать, как родных детей.
Глава вторая. Пришельцы из «мира»
Редко кто заходил в Перунов Бор. Лежал он в стороне от большой дороги, и чаще, чем люди, туда заглядывали звери: то огромный лось-сохатый с лосихой и теленком, то неуклюжий медведь, то вылетит на поляну стройный пятнистый олень, спасаясь от рыси, а зимой подходили к избам волчьи стаи и кругом по пашням петляли и жировали зайцы.
Зимою, когда топкие болота затягивались прочным льдом, к глухому озеру приезжали из «мира»[119] два странных всадника и с ними слуга. Сидели они на отборных конях, и оружие их было в серебре. Один, молодой и с виду силы изрядной, часто шутил и быстро сдружился с обитателями Перунова Бора. Другой был мрачный старый монах с длинными полуседыми волосами, в черном подряснике под полушубком, в остроконечной скуфейке.
Они расспрашивали Кудряша и Дикороса о диких зверях, где замечены медвежьи берлоги, где проходили сохатые. Затем переодевались, как сподручнее для охоты. Монах сбрасывал долгополую одежду, надевал заячий треух, полушубок и брал рогатину. Оба становились на лыжи и вместе с Дикоросом, Кудряшом и Торопкой уходили загонять лося или подымать медведя из берлоги; целые дни бродили по лесу, пока не находили и не валили зверя.
Вернувшись к ночи в избу Дикороса, охотники ели щи из сохатины и рассказывали, какие с кем бывали случаи на охоте. Как-то Дикорос спросил старого монаха:
– Отчего ты, отче Эпимах, надел на себя черную рясу? Тебе бы меч или копье было куда сподручнее. Ты дивно ловкой на медведя. Твое дело ходить на бой, а не отбивать земные поклоны.
Монах ответил:
– Не думаешь ли ты, что мне, витязю Ратибору, привыкшему полевать[120] в диких степях половецких, было радостью скинуть бранную кольчугу? Да по своей ли я воле в монастыре сделался заточником? Встал я кой-кому поперек дороги, и вот пришлось смириться и уйти в глухую обитель… Князей и князьков развелось теперь много, все щелкают зубами, кормиться хотят и приглядываются, какой бы стол прибыльнее захватить. Ну и пусть себе князья грызутся! А я сижу в своей келье, пишу летопись о том, что слышу, добавляю то, что помню из моей долгой и бранной жизни… А когда за мной заезжает молодой витязь Евпатий, я бросаю гусиные перья и беру медвежью рогатину… Любо мне плечи поразмять да попробовать силушку один на один с медведем…
– А если вороги придут в наши земли? – спросил Дикорос. – Что ж, и тогда ты останешься в своей келье?
– Не удержат меня тогда в монастыре ни каменные стены, ни запреты игумена. Вступлю в дружину к смелому витязю Евпатию хотя бы простым воином и лягу костьми за нашу землю святорусскую.
Однажды зимой в Перунов Бор заехал бродячий торговец в санях с плетенным из ивы коробом, запряженных парой мохнатых лошадок. В коробе торговца хранилось много заманчивого товара: иголки, цветные ленты, нитки, платки, шитые цветами, стеклянные бусы, медовые пряники. Денег торговец не брал: искал он только в обмен мехов – куньих, лисьих, бобровых и других. Торопка выменял у него на связку беличьих шкурок зеленые стеклянные бусы и подарил их Вешнянке.
Торговец был не русский. И шапка у него иная, горшком, обмотанная белым полотенцем, и голенища сшиты из цветных кусков сафьяна, и кафтан особого покроя. Бабы сразу приметили, что кафтан его застегивался не на правую сторону, как у всех православных крестьян, а налево – как у басурман или у лешего.
От торговца обитатели Перунова Бора впервые услышали о приходе с востока, из степей, страшного народа, который никого и ничего не щадит, всех избивает, и старого и малого, жжет села и города.
– Ну, поведай-ка нам про этих извергов!
– Примчались эти люди к нам, к булгарам, в наш город Биляр, что на реке Каме, – рассказывал торговец. – Упали они на наши головы, как град среди бела дня, и была то передовая рать хана Шейбани, внука Чагониза,[121] и зовутся они татары и мунгалы. Разорили они наши города, наловили людей, отобрали тех, кто знает ремесла, связали и увели в неведомую страну. Спаслись только те, кто спрятался в лесах… Татары поставили отряды в пяти городах, чтобы заклепать над булгарами неволю, а главная их рать ушла дальше, в половецкие степи… Скоро и вы их увидите. А бороться с ними нет мочи… Множество их, что комарья над болотом… Нападают они скопом, с диким воем, тысячи за тысячами, страшные, в закоптелых овчинах… И нет от них спасения!
– Это для вас, булгар, татары – страшные вороги, – сказал Дикорос. – Вы, булгары, привыкли торговать да сапоги тачать, а доброго воина из булгарина никогда не бывало.
– Поглядим! – ответил торговец. – Как татары навалятся, что от вас останется?
– Типун тебе на язык! – закричала Опалёниха. – Пусть только эти нехристи сунутся сюда; мы их Чагониза примем в топоры!.. И бабы пойдут биться рядом с мужиками.
– Пусть татары кричат и на нас валом валят, – сказал Дикорос. – И медведь ревет, когда прет на рогатину. И половцы по-звериному вопят, когда в бою налетают, – запугать хотят… Наши рязанские дружины к этому привычны и знают, как их назад в степь отогнать. Чем татары их страшнее?
Глава третья. Первая тревога
Торговец уехал, мужики поговорили о татарах и мунгалах Чагониза и забыли о них, – «до нас далеко! К нам они не сунутся!» А полгода спустя, поздней осенью, из ближайшего погоста Ярустова (что стоял за двадцать верст на опушке бора) прибежал запыхавшийся гонец. Он пробрался прямиком, через болота, подмерзшими тропами. Гонец кричал в окошко каждой избы, что от князя рязанского привез он приказ и пусть все соберутся выслушать княжью волю.
Гонец подождал на кладке бревен, пока подошли мужики. Прибежали и бабы с ребятами. Гонец сказал:
– Князь рязанский Юрий Ингваревич, отец наш…
– Какой там отец! – прервал его Кудряш. – Никогда мы этого отца не видывали!..
Гонец вытер рукавом нос и невозмутимо продолжал:
– Князь кличет народ сбираться в поход. Большая вражеская сила идет на рязанские земли. Пока нехристи подойдут из Дикого поля к нашим заставам, надо выйти к ним навстречу и не пустить на наши пашни…
– Откудова ты это услышал? – прервал гонца Звяга. – Кто тебя послал по нас: волостель, поп али еще кто? Чего нас пужаешь?
– Приехал к нам в Ярустово княжеский тиун и с ним охраны двадцать отроков,[122] все нарядные, на хороших конях. Староста расставил всех по избам, и мы их кормим вторые сутки. Ну и едят, что борова, точно в Рязани их не кормили! Тиун собрал сход и толковал, что идет на нас неведомый народ, по прозвищу «татары». Тиун приказал, чтобы все мужики и парни от шестнадцати годов с топорами и рогатинами, что у кого есть, шли в Рязань. Там князь сбирает «большой полк»[123] и раздает всем мечи, копья и секиры. Тиуны и дружинники княжеские поскакали во все концы: и в Зарайск, и в Муром, и к великому князю суздальскому во Владимир – всюду скликать народ.
Дикорос, мрачно выслушав гонца, закряхтел и спросил:
– Тебя как звать-то?
– Яшка Брех!
– Ты из чьих? Пахома ли рыбака?
– Как раз его. Пахом Терентьич отец мне.
– Он братан мой. Не к добру ты прибежал! Что же это князь так поздно хватился? Татары уже на рязанские пашни входят, а вы только раскачивать народ начинаете. Чего же раньше глядели? Почему на сторожевые заставы в Диком поле не пришли суздальские полки? Большой полк суздальский куда сильнее нашего – рязанского. Теперь будут татары напирать на рязанцев, а суздальцы, сидя за стенами, на нас посматривать да приговаривать: «Бейте их по сусалам!» А сами будут почесываться и в усы посмеиваться. Почему всем не пойти одной стеной?
– Ишь чего захотел! – сказал Звяга. – Князья готовы друг дружке горло перегрызть. Станут они помогать один другому!
Дикорос сказал гонцу из Ярустова:
– Скажи волостелю и тиуну, что от нашего выселка пойдут завтра к Рязани все мужики. В Ярустове я зайду к твоему батьке и обсудим, как и что.
Гонец сейчас же отправился обратно, прыгая через кочки, только лапти его замелькали, и вскоре скрылся в просеке между засыпанными снегом елями.
Глава четвертая. Пошли в дикое поле
Савелий Дикорос стал готовиться к походу. Ободрал последних пойманных белок, вывернутые шкурки повесил под потолком в кладовке.
– В случае чего такого, – сказал он жене, – обменяешь белок на жито.
Оправил и заново обтянул жилами-подтужинами железный нож на рогатине, с которой ходил на медведя. Насадил тяжелый топор на более длинное топорище. Привез из лесу валежника и сухостоя, чтобы бабе легче было щепу колоть и печь топить. Приготовил из обломка косы вторую рогатину, для Торопки. А легкий плотницкий топор оставил жене для хозяйства.
Жена его Марьица вместе с Вешнянкой завели тесто из ржаной муки на житном квасе, испекли три каравая и несколько коврижек. Караваи разрезали на тонкие ломти и высушили в печи. Сухарями набили заплечные мешки, положили туда же луковиц, пареных репок и горсть соли в тряпице.
– Соль-то у нас на исходе, – сказала Марьица. – Там, в миру, легче соли найдете.
Утром, чуть между дремлющими елями засветилась багровая заря, мужики собрались около избы Дикороса. У каждого за плечами был удобно привязан мешок с «запасом», за поясом топор и подвешена пара новых лыковых лаптей.
Бабы, накинув на плечи зипуны, проводили ратников до незамерзающего ручья, через который были перекинуты три лесины. Здесь они бросились на шею уходившим и стали с воплями причитать:
– Бедные наши головушки! На кого-то вы нас оставляете! На кого вы нас покидаете?!
Дикорос поднял с земли Марьицу и сказал:
– Чего убиваешься? На медведя идти легче? Все одна маета! Гнедка побереги… Да и от зверя и от лихого человека хоронитесь. Может, вернусь домой на добром коне татарском и тебе привезу новый зипун, крытый аксамитом,[124] теплую фофудью[125] с оторочкой и чеботы новые…
– Не надо мне ничего, ты бы только, свет мой Савушка, домой цел вернулся! Срубят тебе нехристи буйную головушку, некому будет и поплакать над твоей могилкой! Горюшко наше бабье! Сынка побереги! Зачем я родила, зачем поила, растила его? Зачем сынка с собою берешь? Укрыли бы мы его в лесной чащобушке! Увижу ли я тебя, чадо мое кровное! – И Марьица обхватила Торопку, захлебываясь от плача.
Дикорос положил руку на плечо Марьицы и стал тихо говорить, с необычайной для него нежностью:
– Да постой ты, моя лебедушка! Слушай! Дело тебе говорю.
Марьица затихла:
– Коли здесь, на Глухом озере, станет туго али зверь начнет одолевать, ты избу заколоти и переберись на погост Ярустово, хотя бы к Пахому Терентьичу, рыбаку. А туда я к тебе наведаюсь…
Мужики оторвались от цеплявшихся за них баб и гуськом зашагали через ручей по лесинам. Затем, не оглядываясь, пошли дальше, скрываясь в утреннем тумане, среди вековых стволов угрюмого леса, и долго еще слышали они вопли баб, оставшихся за ручьем.
Вешнянка была вместе с бабами. Она не плакала, а только смотрела вдаль расширенными глазами. Бабы, всхлипывая, поплелись обратно. Вешнянка пробралась в сарай Дикороса, где стоял его старый Гнедко. Она обняла коня за шею и зашептала ему в мохнатое ухо:
– Остались мы с тобой, Гнедушка, сиротами. Увидим ли еще наших хозяев? Или пропадут они в поле чистом, как былинки подкошенные, и даже ворон пролетный весточки о них не принесет?!
Гнедко качал головой и мягкими губами хватал Вешнянку за плечо.
Глава пятая. Народный сполох
Еще до полудня ратники с Перунова Бора пришли к погосту Ярустову, на большой дороге из Мурома в Рязань. Потемневшая бревенчатая церковь-»однодневка», когда-то в один день выстроенная всем «миром», была окружена густо теснившимися крестами кладбища. Между крестами толпились мужики с вилами, копьями и бердышами. Выкрики и гул народный слышны были издалека. Над тысячной толпой тревожно гудел набатным звоном медный колокол.
Вокруг церковного холма извивался ручей, чернея среди засыпанных снегом берегов. Здесь у воды расположился пестрый табор. Около сотни людей, одетых необычно: мужчины в обшитых красными лентами войлочных шапках, женщины в ярких цветных шабурах,[126] желтых и зеленых платках, дети, полуголые, в отрепьях, – жались и шумели около костров.
Прохожие останавливались около табора; к ним подбегали дети, протягивая голые, грязные от золы руки; подползали женщины. Все твердили:
– Хлебца!.. Кушай надо!.. Наши булгар… татар резаль…
Прохожие давали беднякам куски хлеба и ускоряли шаги.
– Опять булгары! Сколько их прибежало. Что за беда стряслась над ними?
На ступеньках церковки показался старый священник в лиловой ризе из грубой крашеной холстины с нашитыми желтыми крестами. Двумя руками он высоко подымал небольшой крест и благословлял толпу. Дребезжащим голосом кричал:
– Доспевайте,[127] православные! Идут на Русь ратные вои, мунгалы-табунщики, воеводство держашу безбожному хану Батыге! Рать вражья идет от Дикого поля, стан их соглядали на реке Воронеже…
Мужики внимательно прислушивались, а священник продолжал выкрикивать:
– Услыша отец наш князь Юрий Ингваревич, что на рубеже земли рязанской стал Батыга, немилосердный и льстивый хан табуноцкий. Наш князь послал гонцов по братья свои и в Муром, и в Коломну, и в Красный, и по сына своего Феодора Юрьевича, в Зарайск, и по другого сына, Всеволода Юрьевича, в Пронск. Все князья ответили, что идут со многими вои на подмогу, не оставят наши земли, станут в ратном бою рядом с рязанцами.
Священник остановился, а из булгарского табора доносились крики:
– Хлебца! Дай хлебца!
Дикорос стоял в толпе, опершись на рогатину. Рядом с ним Торопка искоса посматривал на лицо отца. Хмурой думой заволоклись строгие глаза Дикороса.
– Батя, – спросил тихо Торопка, потянув отца за рукав, – взаправду ли на нас табунщики идут или старик брешет?
– Посмотрим да послушаем, – сказал Дикорос. – Кудряш, ты как смекаешь?
Грустно покачав головой, Кудряш ответил:
– Поглядел я на этих булгар, что мыкаются внизу у ручья. А раньше булгары все в кожаных сапогах гостями в ладьях приезжали. Нам ли так же босыми мыкаться, убежав от полей наших? Да и куда бежать?
– Доспевайте, православные! Не попустите окаянному царю Батыге владети русскою землею! – продолжал надрываться священник. – Все вступайте в большой полк князя Юрия Ингваревича!
– А куда идти-то? Где сбор? – прогудел Дикорос.
В толпе послышались возгласы:
– Где собираться? Кто поведет?
Священник ответил:
– Сейчас вам слово скажет дружинник князя рязанского, славный витязь Евпатий Коловрат! – Священник спрятал медный крест за пазуху и засунул замерзшие ладони в широкие рукава.
На паперть вбежал высокий воин в коротком полушубке и железном шлеме. На туго затянутом ременном поясе была привешена длинная кривая сабля в зеленых ножнах. Он взмахнул боевым топориком с золотой насечкой и, выпрямившись, окинул толпу веселым взглядом. Затем низко поклонился на три стороны:
– Бью вам челом, крепкие ратники, медвежьи охотники, лихие удальцы, узорочье и воспитание рязанское! Дайте мне слово сказать!
– Говори, говори, Евпатий! Слушаем!
– Знаю я, кто такие эти табунщики-татары! Своими глазами их видел, своими руками их прощупал и хребты им сам ломал. Да и мне они оставили немало рубцов на груди. Вот эта железная шапка и кривая сабля сняты с побитого князя татарского.
– Ишь какой наш Евпатий Коловрат!
– Двенадцать лет назад – многие из вас это помнят – ходил я вместе с ростовскими дружинниками против этих татарских лиходеев. Далеко мы зашли, к самому Синему морю, на Калке встретились с татарской ратью. Тогда нам впервой было видеть, как они налетают, как увертываются от боя, как бегут от нас, будто со страху, а сами заманивают нас на свою засадную рать. Здорово бьются, только не стойкие, чуть им что сразу не далось, удирают без оглядки и снова скопляются вдали…
Кудряш подтолкнул в бок Дикороса:
– Слышь, что татаровья делают? Нам бы не сплошать…
– С таким бы нам воеводой пойти, как наш медвежатник Евпатий! Вместе мы на медведей ходили, с ним будет нам сподручней и татар бить.
Евпатий сказал еще несколько горячих слов, призывая всех идти в Рязань, на княжий двор, и там присоединяться к большому полку. Он быстро сбежал с паперти и, проходя сквозь расступившуюся толпу, увидел Дикороса.
– Здорово, Савелий, – сказал он. – Небось воевать собрался?
– Вот и сына с собой веду. И соседи идут. В твоей дружине биться хотим.
– Возьму. Поспевайте в Рязань. Найдете меня на княжьем дворе.
Два дружинника подвели большого горячего нравом коня. Евпатий вскочил на него и поскакал в сторону Рязани.
Глава шестая. Рязанское вече
…Ответствуй, город величавый,
Где времена цветущей славы,
Когда твой голос, бич князей,
Звуча здесь медью в бурном вече,
К суду или к кровавой сече
Сзывал послушных сыновей?
Дм. Веневитинов
Вечевой колокол с самого утра созывал народ на вече. В тихом морозном воздухе неслись густые тягучие звуки и сеяли кругом тревогу. Далеко слышали их окрестные села. Люди выходили на крыльцо, прислушивались и, торопливо накидывая на себя армяки и полушубки, хватали шапки. По обоим берегам реки, на засыпанных снегом пашнях, зачернели вереницы мужиков, тянувшихся в город.
– Слышь, как «вечник» выбивает сполох! – рассуждали, шагая, мужики. – Что-то деется?
Старая Рязань на высоком обрывистом берегу Оки, вся засыпанная снегом, казалась серебряной. Высокие земляные валы вокруг города и детинец[128] внутри, окруженный тыном и сторожевыми башнями, сложенный из столетних дубовых кряжей, делали город грозной, стойкой крепостью.
Что может угрожать Рязани? Почему так настойчиво гудит медный «вечник»? Опять свара князей? Опять пошлют мужиков бить друг друга, как двадцать лет назад на речке Липице? И для чего? Чтобы спихнуть со своей шеи одного князя и посадить другого? Пусть князья меж собой дерутся, зачем же гнать на бойню мужиков?
Площадь на Сокольей горе, возле Фотьянова столпа, как обычно в базарные дни, была заставлена крестьянскими возами с зерном, мукой, морожеными свиными и телячьими тушами, глиняной посудой, деревянными кадками и прочей крестьянской снедью и утварью. Но в этот день площадь так густо заполнилась толпой, что в ней затерялись крестьянские возы. Мужики и горожане вливались со всех концов на площадь, стараясь приблизиться к паперти соборной церкви Успенья Богородицы, где выступали на вече князья с княжичами.
Дикорос и его спутники из Перунова Бора пробрались к самой паперти, где два дюжих молодца, скинув шапки и полушубки, усердно раскачивали железный язык большого медного колокола, подвешенного возле церкви к бревенчатым стропилам звонницы.
После бойкого перезвона мелких колоколов из церкви выбежал служка с заплетенной косичкой, в подряснике и махнул красным платком молодцам, колотившим в «вечник». Те перестали звонить и отерли рукавами вспотевшие лбы. Толпа еще более потеснилась к паперти. Мужики влезали на возы, садились на упряжных лошадей, – все хотели узнать, чего ради народный сполох?
Из церкви с протяжным пением вышел хор певчих. За ними двигались четверо дюжих дьяков-ревунов в церковных облачениях, размахивая дымящимися кадилами. Затем торжественно выплыли десять священников в золотых ризах, с серебряными и медными крестами в руках; наконец показался епископ, поддерживаемый под руки двумя мальчиками в одеянии послушников.
Вслед за духовенством из церкви вышел князь рязанский Юрий Ингваревич в красном плаще – «корзно», расшитом жемчугами и драгоценными камнями. Двадцать лихих дружинников с обнаженными прямыми мечами на правом плече охраняли князя и отталкивали теснившийся к паперти народ. А тем временем из собора выходили все новые и новые люди: великая княгиня Агриппина Ростиславна, окруженная снохами, молодыми женами семи сыновей и племянников княжеских, старшие бояре и знатнейшие приближенные князя. Юрий Ингваревич поднялся на каменное возвышение близ вечевого колокола, а свита и духовенство выстроились вдоль паперти.
На другой стороне ее собрались старосты разных концов города и ближних слобод. Они стояли степенные и скромные, в овчинных полушубках и купеческих кафтанах смурого и домотканого сукна. Один из них, благообразный старик с седой бородой, староста нижней слободы, поклонился отдельно князю и громко сказал, прижимая к груди соболью шапку:
– Исполать тебе, отец наш князь Юрий Ингваревич! Жить тебе вместе с княгинюшкой Агриппиной Ростиславной в добре и здравии, горя не знать и нас, маленьких людишек, не забывать! А позволь-кося мне слово молвить. Почто ты народ собрал? Почто в «вечник» приказал бить? Что тебе от народа рязанского понадобилось?..
Князь, сумрачно посматривавший на толпу, тряхнул полуседыми длинными кудрями и степенно поклонился на три стороны затихшей толпе.
– Слушайте, православные, – заговорил он усталым, потухшим голосом. – По важному делу созвал я вас. Не без тревожной причины с утра гудел вечевой колокол. Надо нам вместе, одной волей, одним сердцем решить неотложное дело…
– Говори, говори, князь, а мы рассудим! – послышались голоса.
– Уже давно, с весны, из Дикого поля приходили вести недобрые, что среди половецких ханов идет замятня, бьются половецкие полки с народом неведомым, пришедшим издалека, из-за Волги. Народ этот злобен и силен, побил половецких ханов, погнал их из кочевий по всему Дикому полю и ограбил их дочиста, в прах.
– Слышь-те, православные, что за народ объявился!
– Самых знатнейших ханов потеснили пришельцы, выбили и сделали своими конюхами.
– Какие же это такие люди? Как звать их? Они тоже табунщики?
Князь продолжал:
– Зовется этот пришлый народ – безбожные мунгалы и татары. Разгромили они половецкие вежи,[129] порезали их быков и баранов, а теперь пошли в нашу сторону и стали близ наших застав на реке Воронеже. Видно, хотят идти войной на нас. Прислали татары нам послов бездельных, – про все они расспрашивают, про все выпытывают, все хотят знать – два мужа татарских и одна бабища…
– Давай их сюда! Мы на них посмотрим и скажем, какой дорогой им отъезжать обратно…
– А нуте-ка, приведите сюда татарских посланцев! – сказал князь дружинникам. – Да охраняйте их, как свой глаз, чтобы наши ребята не стали с ними баловаться, долго ли их обидеть! Все же они посланцы могучего царя татарского Батыги.
Глава седьмая. Послы татарские
Несколько дружинников поспешили в княжеский дом. Они вернулись оттуда с татарскими послами и провели их на высокий помост близ вечевого колокола. Послов было трое: первый – старик в меховой шапке, повязанной белой тканью, в длинной, до пят, желтой лисьей шубе; другой – коренастый молодой воин в войлочной шапке с отворотами, в синем кафтане и с кривой саблей на поясе. Что-то необычное чувствовалось в этом воине – короткая шея и богатырские плечи, угрюмое безбородое лицо и властный взгляд. Он посматривал на толпу со спокойствием и равнодушием человека, привыкшего повелевать, казнить и миловать. Третий посол своим видом изумил всех. Это была старая женщина с опухшим лицом и бегающими безумными глазами, на плечах – медвежья шкура, на голове – высокий колпак, на поясе висели на ремешках медвежьи когти и зубы, ракушки, узкие длинные ножи и большой круглый бубен, разрисованный звездами. Ни на мгновение она не оставалась спокойной, все время оглядывалась кругом, точно чего-то искала, и бормотала вполголоса какие-то странные слова.
– Да это ведьма-чародейка! – сказали в толпе.
– Скажи нам, княже, чего хотят посланцы? Чего им от нас надобно?
Князь сказал ближнему думному боярину:
– Распорядись, пускай они народу скажут, зачем пожаловали в наш город…
Возле послов появился переводчик.
Лихарь Кудряш толкнул локтем Дикороса:
– Глянь-ка, узнаешь ли толмача? Ведь он к нам в Перунов Бор приезжал, помнишь торговца-булгарина, что на платки, иголки и бусы меха выменивал? Знать, это был ихний соглядатай, пути и дороги выведывал! Разорви его лихоманка!
Переводчик говорил с послами и вполголоса передавал их ответы думному боярину. Тот, обращаясь к толпе, стал громко объяснять:
– Слушай, князь со княгиней и народ православный, что послы мунгальские от нас требуют. Говорят-де, что ихний царь Батыга Джучиевич над всеми князьями князь, над всеми царями царь. Все народы покорились его деду, хану Чагонизу, и он забрал их под свою руку. Говорят эти бездельные посланцы, что теперь народ русский должен царю Батыге Джучиевичу покориться, а буде не захочет ему бить челом, так Батыга всех растопчет конями, как раздавил всех ханов половецких и сделал их своими пастухами и конюхами…
– Зря похваляется! Не бывать тому! – закричал Евпатий, стоявший близ князя.
– Вестимо, брешет, похваляется, – сказал князь Юрий Ингваревич. – Объясни им, чтобы нам не грозили, а толком сказали, чего они хотят от рязанской земли?
Боярин опять обратился к переводчику, а тот к послам. Молодой монгол говорил резко, топал ногой, хватался за костяную рукоять кривой сабли. Старый посол стоял неподвижно, соединив ладони, а бабища-ведьма дергалась, приплясывала и бормотала непонятные слова.
Боярин снова заговорил:
– Не гневайся, княже, за слова бесстыжие, что я услышал от этих мунгальских посланцев. Требуют они дани неотступной, десятины во всем: и в князьях, и в людях, и в конях, десятое в белых конях, десятое в бурых, десятое в рыжих, десятое в пегих…
В толпе воцарилась тишина, как перед бурей. Четко прозвучали слова князя:
– Когда нас не будет, пусть тогда берут все!
В толпе прокатился гул, послышались возгласы и смех:
– Го-го-го! Вишь, чего захотел! Возьми-ка, выкуси! Гони их, князь, назад в Дикое поле и выпусти на них вдогонку собак!
Поводя злыми глазами, послы наблюдали, как разливается грозный шум на площади.
Князь повернулся к Евпатию и сказал:
– Ты умеешь говорить с нашими крикунами. Успокой-ка их, а то они того и гляди разорвут послов.
Евпатий легко поднялся на вечевой помост и, сделав знак рукой толпе, закричал так громко и четко, что слова его донеслись до крайних мужиков, сидевших на возах с сеном:
– Слушай меня, народ рязанский! Раньше Рязань слободой слыла, деревенщиной, а нынче Рязань зовется стольным городом… А для города нужно обхождение не как у мужиков кривопятых, а вежливое, с улыбочкой. Негоже посланников иноземных встречать словами обидными и провожать собаками. Вы же все молодцы, узорочье и воспитанье рязанское, не ударьте лицом в грязь и выступайте соколами…
– Го-го-го! – зашумели в толпе. – Вот как наш Евпатий разливается!
– Послы мунгальские запросили с нас много, а кто из половецких табунщиков, когда коней продавал, не запрашивал втридорога? Мы им скажем: спасибо, гости дорогие, на добром слове, но не мы хозяева! Не мы решаем! Есть хозяин повыше нас, великий князь Георгий Всеволодович во стольном городе Владимире-Суздальском. Вот к великому князю мы и пошлем послов царя мунгальского Батыги. Отвезем их с почестью, на санях-розвальнях, крытых коврами и полостью медвежьей, на тройке с бубенцами и с колокольчиком. И пусть великий князь суздальский Георгий Всеволодович им свое слово скажет: отдавать ли нам десятого мужика и десятого коня татарам или же еще повременить?
– Верно, Евпат! Верно!
– Проводить гостей в город Владимир!
– А сейчас князь Юрий Ингваревич просит дорогих гостей в свою горницу отведать хлеба-соли, пирогов и калачей… – обратился Евпатий к послам.
Послы удалились с погоста, а народ долго еще не расходился и волновался на площади. Все говорили, что надо грудью стать за родную землю, отогнать охального ворога, пока он не ворвался на рязанские земли.
Князь угостил татарских послов на славу. Слуги приносили всяких сытных блюд без счета. Вместе с послами ужинали и бояре-думцы, и старые дружинники. Послы ели очень мало, остерегались, каждый кусок сперва обнюхивали и ни вина, ни меда вовсе не пробовали.
После ужина к крыльцу подали тройку с плетеным коробом на розвальнях, обтянутым пушистыми мехами, но послы отказались ехать в санях. Они потребовали своих коней и отправились верхом. Князь приказал тройке с санями следовать неотступно за ними, на случай если послам в дороге спать захочется. А охрану послов поручил полусотне верховых дружинников.
Проводив послов до ворот, князь призвал Евпатия и сказал ему:
– Чует мое сердце, грозная туча идет на нас из Дикого поля. Надо сзывать на подмогу всех, кто может держать меч. Вместе с мунгальскими послами я послал во Владимир брата просить великого князя Георгия Всеволодовича подымать весь народ суздальский, ростовский и белозерский, призвать на помощь Великий Новгород и спешить сюда навстречу татарам, пока мы будем вести с ними переговоры. А в Дикое поле к царю татарскому я пошлю сына своего Феодора с дарами и с ловкими думными боярами, чтобы Батыгу улещивать. Ты же, Евпатий, выезжай в Чернигов, кланяйся там земно князю Михаилу и приведи его рать нам на подмогу. Боюсь туда послать кого другого: и войска не приведет, и сам не вернется… Тебя же, Евпатий, я знаю. Своих кровных братьев, рязанцев, ты не подведешь и вовремя придешь с подмогой. Бери из моих конюшен сменных коней, сколько тебе надобно, и скорей возвращайся!
И помчался Евпатий той же ночью в Чернигов.
Глава восьмая. В диком поле
Уже три дня ратники шли на юг, все более углубляясь в Дикое поле. Рязань, передовой оплот русской земли, со всеми ее тревогами и сумятицей, осталась далеко позади. Первым шел конный отряд под начальством князя Всеволода Пронского. Длинной вереницей двигались всадники по веками протоптанному через степь шляху. А еще дальше, под самым небосклоном, рыскали конные разведчики, посланные следить, не покажутся ли где вражеские отряды. Они подымались на отлогие холмы и одинокие курганы, подавали знаки, подбрасывая шапки и кружась на месте, и снова уносились в простор степи.
Кругом тянулась пустынная безбрежная равнина, занесенная снегом. Кое-где по отлогим холмам мелькали кусты осины с еще не облетевшими красными листьями или чернели полосы дубняка вдоль врывшейся в землю извилистой речки.
Шлях уходил на юго-восток сетью тропинок, протоптанных караванами из далекого Сурожа,[130] стадами и табунами степняков и отрядами бродящих по степи хищников. Все они ездили к Залесью, как тогда называлась северная Русь, одни для мены и торговли, другие для набегов и грабежа.
Торопка шагал по тропинке, жадно следя за всадниками. Наслаждаясь развернувшимся перед ним степным привольем, он мало думал об опасности, гордясь, что участвует впервые, как взрослый мужчина, в походе. И жутко и весело было думать, что ему придется биться с неведомыми людьми, страшными татарами. Может быть, он славы себе добудет, отличившись на глазах других ратников. Отец накануне говорил: «С тобой мы ходили на медведя, и ты небось уразумел, что зверь страшнее, пока его не видишь, а как увидел, только и думаешь, как бы он не ушел. Татарин такой же, как мы, человечина, ничуть не сильнее, и кричит он нападая, потому что боится, и прет он, выпучив глаза со страху. А ты гляди в оба, назад не пяться, а не то врагу смелости прибавишь, и принимай его топором или на рогатину».
«Отец знает воинское дело, – думал Торопка. – Он и с суздальцами бился, и в Дикое поле ходил, и не раз возвращался домой перевязанный побуревшими от крови тряпицами».
В дружине, по расчету Торопки, было около двух тысяч ратников. Люди шли вразброд, где кому лучше, разбитые на сотни. В сотне люди теснились друг к другу, не смешиваясь с другими сотнями. Вел сотню «сотский» из княжеских дружинников. Ехал он на дородном коне, украшенном медными бляхами и цепями. Во главе некоторых сотен шли старосты, умевшие «воеводствовать» и раньше ходившие в Дикое поле.
За каждой сотней тянулись «товары».[131] Они состояли из телег и саней-розвальней с плетеными коробами, в которых везли караваи житного хлеба, мешки с мукой, пшеном, салом. В эти же сани складывались кольчуги, брони, оружие и тулупы, чтобы ратникам было легче идти. На спусках и поворотах сани на деревянных полозьях раскатывались, и ратники сбегались их поддерживать, чтобы они не опрокинулись.
Ратники из Перунова Бора шли дружно, в одной сотне с ярустовскими мужиками. Впереди семенил в лыковых лапотках низкорослый и широкий Ваула Мордвин. Он пел свои мордовские песни и круто обрывал их, когда замечал в пути что-либо новое, им невиданное. Он впервые попал в степь, прожив всю свою жизнь в лесах. Когда стадо сайгаков (диких коз) выбралось из лога и, заметив толпу людей, пустилось прочь длинными прыжками, пригнув к спине изогнутые рожки, Ваула присел от восторга, хлопая себя по бедрам.
Звяга, тощий и долговязый, молча шел за Ваулой, погруженный в свои невеселые думы.
– А ну-ка, Звяга, у тебя ноги длинные, поймай-ка козла за хвост!
– А след ли мне за этими козлами гоняться? Это вы, мордвины, все прыткие, ловите за уши зайца поскакучего. Ты и скачи за ним!
Лихарь Кудряш шел в стороне. Он часто взбегал на курганы, всматривался в даль и указывал:
– Там с востока Сосновая Ряса течет, а с запада – Ягодная Ряса. Обе речушки впадают в реку Воронеж. А вот там, под яром, прошлый год стояли белые вежи половецких ханов. Они пригоняли баранов и быков на продажу… Я у них дней двенадцать жил; для ихнего хана набивал на телеги железные скобы и на колеса ободья. Ничего люди! По-ихнему говорить научился, зовут они себя «команами». У меня остались среди них побратаны, кардаши… Весной в степи хорошо. Трава выше человека. Быка с рогами не видно. Весной у табунщиков много молока, они делают из овечьего молока сыр, а из кобыльего – хмельной кумыс. Весной все половцы ходят веселые, у костров песни поют и пляшут…
Дикорос шел молчаливый и угрюмый. Раза два он в раздумье сказал Торопке:
– Не знаю, вернемся ли мы целы домой…
Когда стало темнеть, сотня сделала привал в овраге близ отлогого берега речки. Другой берег был высокий и обрывистый. Там затаились дозорные на ночь. Сани поставили кругом. Внутри круга развели костры. Жгли репей и бурьян; засветло насобирали его много, чтобы всю ночь не погас огонь. Стреноженные кони паслись невдалеке, подъедая прошлогоднюю траву и камыши.
Мужики, разобрав с телег тулупы, лежали вповалку у костров, слушали рассказы бывалых людей о Диком поле, о жизни русских «кандальников» в плену половецком и о смелом их бегстве.
Среди ночи отец разбудил Торопку, приказал идти в дозор и до рассвета сторожить на высоком бугре:
– Затаись там и виду не показывай, не шелохнись – татаровья могут подкрасться и прирезать! А коли что приметишь – гомони и скликай подмогу!
Торопка взобрался на бугор и затаился между кустами сухого репейника. Кругом было темно. В овраге близ речки догорали костры. Около них мирно спали мужики. Невдалеке тревожно, точно чуя близость зверя, фыркали кони.
Торопка сидел насторожившись, крепко сжимая в руках рогатину. Сон убегал, усталость была забыта. Ему казалось, что в темноте к нему подползает татарин, держа в зубах длинный нож. Сквозь туманные обрывки низких туч кое-где проглядывало темное небо с мелкими звездами. Тихо шуршали высокие стебли бурьяна. Задумавшись, Торопка вспомнил последние слова и объятия матери, пронзительные крики баб, цеплявшихся за уходивших мужиков, и в стороне Вешнянку, с неподвижными расширенными глазами. Но другой образ заслонил Вешнянку и еще ярче загорелся перед ним: легкий, стройный половецкий конь, скачущий по степи. Передовым дозором проносится он на коне разыскивать притаившегося татарина – вот куда стремились все мысли, все чаяния Торопки.
Заунывный тягучий крик донесся из степи. Так иногда ночью кричала в лесу неясыть.[132] Другой тонкий вой послышался где-то ближе. Что это? Волки? Или татарские лазутчики подают друг другу весть и подбираются в темноте?
Среди темной ночи небо светится, и на нем четко видны стебли сухого репейника. В одном месте стебли сильно закачались. Ого! Это неспроста! Кто-то пробирается через заросли… Показалась голова человека… Человек приподнялся, повернулся, осматриваясь, и снова бесшумно опустился в траву… Свой или враг?.. Закричать, звать на подмогу? Враг убежит. А если это свой, засмеют, что зря сполошил!
Торопка вслушивается в каждый шорох и ждет… не покажется ли снова голова?.. Вот опять поднялся неведомый человек, но теперь справа и ближе. Торопка ждет и слышит сиплый шум слева, точно дыхание зверя… Он чувствует острый запах овчины и шепот… не русский! Непонятная речь… Кто-то затаился совсем близко от него… Заметит, поразит мечом или стрелой… Нельзя медлить! Надо его опередить…
«Может, славу получу перед стариками за отвагу?» – вспоминались недавние думы. Рогатина в руках наготове, ее конец отточен, как жало.
Все силы напряг Торопка и бросился вперед. Рогатина воткнулась во что-то упругое… Стон, хриплый, сдержанный, чтобы себя не выдать, и жалобный… В то же мгновение тяжелая туша навалилась на Торопку. Другая туша свалилась под ноги. Жесткие ладони обхватили лицо, сдавили нос, пальцы крепко сжимают рот, не дают вздохнуть…
Торопка забился, стараясь вывернуться, но прибавилась еще тяжесть. Кто-то душит горло… Нельзя ни крикнуть, ни застонать. Его волокут по земле. Как дать знать отцу? В беде отец сына не оставит… Но Торопке трудно дышать, не только крикнуть… Его тащат через заросли, колючки засохшего репейника царапают и рвут одежду. Руки, жесткие и сильные, пахнут чужим запахом. Ему заталкивают тряпку в рот, завязывают лицо… Ноги и руки крепко спутаны веревками…
Глава девятая. Татары пошли!
В лето от сотворения мира 6745 (1237) прииде безбожный царь Батый на Русскую землю, и ста на реце, на Воронеже, близ Резанскиа земли…
«Повесть о разорении Рязани Батыем».
Летопись XIII в.
Татары шли на север тем путем, что позднее, протоптанный крымскими татарами, стал называться Калмиусским шляхом, по водоразделу между Доном и Донцом. Здесь дорога была легкая, не приходилось переправляться через многоводные реки; поздний снег слегка запорошил степь, кое-где в оврагах ветром намело сугробы. Бурьяна, репейника было много для костров. Степных пожаров осенью не было, и увядшая трава – готовый корм неприхотливым татарским коням – лежала повсюду, прибитая осенними дождями.
Вели татар половецкие проводники.
Татары шли отдельными отрядами, родами и коленами, тысячными скопищами коней, держась широкими развернутыми крыльями. Была особая ревность и соперничество между отдельными отрядами и племенами, да и грозные приказы Субудай-багатура требовали, чтобы не смешиваться, не попадать на чужую стоянку.
Татарский всадник, почему-либо отставший, затесавшийся в чужой лагерь, встречал насмешливые возгласы:
– Ойе, бродяга, шатун! Какого племени?
Отставший должен был ответить своим боевым ураном: «Уйбас», или: «Э-э, баганам кайда куяим», или другим, – и сейчас же получал ответ:
– Токсабаец! Сразу видно: токсабайцы коня с пришитым хвостом купили!.. Джузнаец никогда не может найти свою плеть, засунутую за спину!.. Кара-биркли заснул на краденом коне, а тот привез вора к хозяину!
Каждый отряд через гонцов поддерживал связь со своим ханом, а тот – с главной ставкой, в которой находились распоряжавшиеся всеми войсками джихангир Бату-хан и с ним его военный советник, одноглазый Субудай-багатур.
Одиннадцать царевичей-чингисидов шли каждый со своим отдельным туменом в десять тысяч коней. Особые военные советники, приставленные к царевичам, держали в своих руках всю власть над воинами. Царевичи проводили время беззаботно, охотились с борзыми и соколами и пьянствовали, вполне полагаясь на своих советников, прошедших суровую школу войны в походах грозного Чингисхана.
Бату-хан вел все отряды на север широким фронтом, особыми тропами в определенные места, указанные строгими повелениями Субудай-багатура. Кипчакские проводники, охраняемые монгольскими дозорными, под страхом казни отыскивали места для стоянок.
В этом походе трехсоттысячного войска на север коренных монголов было мало, всего около четырех тысяч, но в разноязычной армии они играли главную роль, являясь руководителями, военными советниками, телохранителями чингисидов. Они же наблюдали за порядком и выполнением приказов главной ставки – «орьги».
Всадники шли налегке, без юрт. Спали они на земле, близ пасущихся коней: ведь потерять коня в походе – это верная гибель в бескрайней степи! Многие воины имели двух или нескольких коней и в пути пересаживались с одного коня на другого.
Шатры и разборные юрты полагались только самым знатным ханам: им не приличествует часто показываться перед простыми воинами и сидеть рядом с ними у костра. Проворные слуги из пленных кандальников вели десятки высоких быстроногих верблюдов, навьюченных разобранными частями шатров, юрт, грудами расписных войлоков, медными котлами и съестными запасами – мешками муки, риса, сушеного винограда, копченой и вяленой конины и соленого сала.
Звенящие цепями слуги успевали на стоянках поставить несколько юрт для хана, его жен, военного советника, лекаря, звездочета, писаря, шамана, муллы и главных ханских прихлебателей и приготовить для них обед.
Простые воины сами заботились о еде и питались тем, что сумели достать в пути. Голод был главной силой, не позволявшей отрядам долго стоять на одном месте, – они должны были двигаться вперед и вперед, пожирая все запасы, встречаемые на пути.
Хан Баяндер со своим пятитысячным отрядом кипчаков шел впереди монголо-татарского войска. Ему поручено было следить за степью, производить разведки, узнавая, где находятся передовые сторожевые посты русских, и пытаться ловить их, чтобы спешно доставлять пойманного «языка» в шатер Субудай-багатура.
Баяндер выделил из отряда четыре сотни отчаянных нукеров; они гарцевали далеко впереди, были глазами, щупальцами отряда и каждый день доносили своему хану обо всем, что замечали в пустынной равнине между бывшими половецкими владениями и русскими лесами.
Эта пустынная полоса, «ничья», представляла собой отлогие холмы, с редкими дубовыми рощицами по течению реки, оврагами и буераками. Здесь легко было укрыться и наблюдать за степью. В оврагах могли скрываться целые полки, поджидая противника. Поэтому отряд хана Баяндера продвигался вперед осторожно, останавливаясь на ночь у обрывистых берегов речек, опасаясь засад, и высылал вперед лазутчиков из наиболее ловких нукеров.
Каждый день от Субудай-багатура скакали гонцы с приказом: «Давайте пленных! Шлите «языка!» Если не будет пленных, переведу хана Баяндера в тыл войска плестись в хвосте, питаться объедками будущих побед!»
Хан Баяндер сердился, вызывал к себе и бранил тысяцких – «бин-баши», тысяцкие вызывали и бранили сотников – «юз-баши», а сотники свирепствовали над десятскими – «он-баши».
В одной из передовых сотен находились четыре сына Назара-Кяризека. Начальник сотни, Тюляб-Бирген, бывший раньше простым нукером-сокольничим у Баяндера, призвал к себе однажды четырех братьев:
– Вы лихие джигиты, степные волки! Вы, как ящерицы, спрячетесь в песке! Отправляйтесь сегодня ночью вперед, к той далекой дубовой роще… Сегодня там были замечены урусутские всадники. Надо их подстеречь. Проберитесь незаметно логами до самой рощи. Там спрячетесь и захватите в плен хотя бы одного урусута. Свяжите его и притащите в целости…
Начальник сотни, поглаживая блестящую черную бороду, посматривал исподлобья на четырех братьев. Они стояли хмурые: полученный приказ их не радовал.
– Что же не отвечаете?
Старший, Демир, сказал:
– Если мы приведем урусута, что нам дашь в награду?
– Расскажу про вас хану Баяндеру. В его милости будет вас наградить.
– Э-э, нет! Дай каждому по овчинному тулупу! Видишь, в каких рваных чапанах приходится нам ночевать в открытом поле. А ты везешь с собой два тюка шуб, отнятых в кипчакском кочевье. Мы мерзнем…
– Приведите мне завтра урусута, будет вам по тулупу на каждого.
– Верно должно быть твое слово!
Второй брат, Бури-бай, сказал:
– Ты нам приказываешь отправиться ползком до рощи, – ничего из этого не выйдет! Мы не столько боимся урусутов, как боимся идти пешком. Мы привыкли ездить на коне и отобьем себе подошвы раньше, чем доберемся до рощи. Туда надо ехать ночью, в темноте; коней запрятать в овраге. А потом мы пошарим в роще, – может быть, засветится костер, где греются их дозорные. Тут мы на них навалимся… А если урусутов будет много? Как мы унесем целыми наши головы? Только кони могут нас спасти!
– Берите коней! За смелым тенью бежит удача. Но только с пустыми руками не возвращайтесь и притащите пленного не полудохлым, а невредимым, чтобы его можно было показать хану Баяндеру! И поджечь ему пятки, чтобы он все нам выболтал. Аллах вам подмога!
Глава десятая. В татарской передовой сотне
Передовая сотня Тюляб-Биргена стояла в «Долине бродячих покойников». Здесь протекал ручей, заморозки покрыли его ледяной корой. Сохранились землянки, окруженные валом и бревенчатым тыном. Раньше это была стоянка рязанского сторожевого поста. Узнав о наступлении татар, рязанцы отошли к северу. К этому же посту раньше приезжали русские купцы и торговали с кочевниками, пригонявшими гурты скота. Повсюду земля была засыпана конским навозом и бараньими катышками.
Приехавшая в эту долину сотня Тюляб-Биргена застала в ней только одну тощую старуху с черными горящими глазами и совиным носом. Она равнодушно сидела на пороге полуразвалившейся землянки. Обшарив землянку, татары отобрали у старухи все, что нашли, так что у нее остались только широкие шаровары, изодранный чапан и глиняный треснувший кувшин, которым она черпала из ручья воду. Вечером, когда татары укладывались спать, старуха подходила к костру, подбирала объедки и тихо возвращалась к своему порогу.
– Ты кто? – строго спросил ее проводник из кипчаков Сентяк, приставленный к сотне.
– Ясырка….[133] Родом я из Пятигорья[134] Пока я была сильна, меня держали на цепи и заставляли работать. А стала я слаба и стара, мне сказали: «Иди на все четыре стороны!» А куда я пойду? Да еще через степь?
А степь расстилалась кругом пустынная, запорошенная снегом, на котором скрещивались следы сайгаков, лисиц и волков.
Всадники заглянули в землянки, сырые и развалившиеся, где ползали мокрицы и сороконожки, плюнули и поставили себе близ костра косые навесы из жердей и камыша. Они проводили время, лежа у огня, или уходили на бугры и прятались там в зарослях бурьяна, следя за степью.
Часть стреноженных коней паслась в лощине, где сохранились камыши, остальные кони, оседланные, были всегда наготове.
В лучшей землянке с непроломанной крышей поместился сотник Тюляб-Бирген. В этой землянке сохранилась в целости пузатая глиняная печь, сложенная урусутами, и около нее нары из жердей. Сотник подолгу сидел на нарах, подобрав ноги, накинув шубу на плечи, и молча смотрел на огонь, пылавший в печи.
Джигиты проклинали это место с мрачным названием «Долина бродячих покойников».
– Куда нас загнал хан Баяндер? Разве в степи нет лучшего места, чем эти землянки, похожие на разрытые могилы с тощей старухой, которая сторожит, пока мы все здесь подохнем? То мокрый снег, то мороз – нет времени просушить одежду! Когда же мы пойдем вперед, обогреемся у горящих городов, переоденемся в урусутские шубы из куниц и соболей?!
Суеверные джигиты всю ночь не тушили костров, а дозорные, подымаясь на бугры, тряслись от страха и осматривались, не бродят ли в степи души непохороненных воинов, потерявших здесь свои головы. Тревогу усиливал и разжигал мулла Абду-Расуллы, приставший к сотне еще в Сыгнаке. Тощий, с густой рыжей бородой мулла своими поучениями не оставлял всадников в покое, требуя, чтобы они пять раз в сутки совершали моления. При каждом удобном случае он распевал молитвы, а ночью пугал слушателей рассказами о проделках лукавого Иблиса, губителя правоверных, о бродящих по степи мертвецах и о летающих ночью джиннах, которые пьют кровь у спящих людей. Для спасения от нечистой силы мулла писал узкие бумажки с заговорами, учил заклинаниям, отгоняющим злых духов, и доказывал, что без его помощи воины давно бы погибли от болезней и дурного глаза.
Мулла Абду-Расуллы много спал на нарах в землянке сотника, но обладал особым чутьем: когда начинали что-либо варить или жарить съестное, мулла немедленно просыпался и подсаживался к огню, чтобы принять участие в еде. Еды оставалось мало – бараны, захваченные в половецких кочевьях, были давно съедены, – и воины не особенно радостно посматривали на муллу. Они садились тесным кольцом вокруг котла с просяной кашей или с «кавардаком» из обрезков вяленого мяса, но мулла настойчиво читал молитву и без стеснения протискивался в середину сидевших, поближе к котлу.
Начальник сотни Тюляб-Бирген призвал двух десятских – Кадыра и Джабара.
– Уже двое суток нет четырех братьев. Не бросил ли их Аллах на солончак бедствия? Они должны были пробраться к тому дубняку, что виден вдали. Надо пойти по их следам и узнать, что стало с ними. Ты, Кадыр, поедешь по следам четырех лошадей, пока не найдешь братьев. А ты, Джабар, поедешь сторонкой, сделаешь круг и тоже направишься к дубняку. Если там укрылись урусуты, они выедут из дубняка и погонятся за одним из вас. Вы отходите назад и завлекайте урусутов сюда. А я выеду со всей сотней, наброшусь на них, и тут уже мы наверное захватим хоть одного «языка». Это поручение важное, оно исходит из ставки Бату-хана; его надо выполнить во что бы то ни стало! Отправляйтесь!
Сотник Тюляб-Бирген стоял, прислонившись к столбу землянки, не спуская со степи нахмуренных глаз. Он был коренаст, угрюм и молчалив. Имел крепкую руку, мог шутя сдержать пойманного арканом коня. Черную бороду подстригал лопаткой, выбривая щеки. Один из джигитов, объявивший себя его нукером, следил за стрижкой бороды сотника и за блеском шерсти его гнедого жеребца. Он сидел на корточках в двух шагах, готовый броситься куда угодно по первому знаку сотника. А Тюляб-Бирген всматривался в срез бугра и дальше в степь, все еще надеясь, что покажутся четыре брата и с ними пойманный пленный урусут.
Невдалеке вокруг огня сидели джигиты и слушали, что им говорил мулла Абду-Расуллы:
– Вся степь кругом – безмолвная могила. Здесь бились народы с народами, и павшие воины остались без погребения. Потому по ночам слышны здесь стоны и бродят отряды покойников. На призрачных конях они выплывают легким туманом из оврагов, несутся бесшумной вереницей по полям, сшибаются с другими отрядами… Тогда ясно слышен звон мечей, ударяющих по кольчуге.
Из степи донесся отдаленный отчаянный крик, оборвался и вскоре повторился снова.
– Засыпать костер! – приказал вполголоса сотник.
Джигиты забросали костер землей. Вспышки огня замерли в трепетных угасавших отблесках. Все погрузилось в темноту. Джигиты бесшумно пробрались на бугры.
Издалека слышался топот. Кони приближались в стремительной скачке. В мутном свете луны, пробившейся сквозь дымчатые тучи, были заметны приближавшиеся тени.
– Это они! Покойники! – прошептал в темноте чей-то голос.
– Молчи и гляди в оба! – послышался ответ.
Табун коней в несколько десятков голов примчался к обрыву оврага, задержался на мгновение и бешено скатился к ручью. Слышался глухой топот ног, всплески воды и похрапывание коней, пивших воду.
Что-то их встревожило. С испуганной стремительностью, толкая и давя друг друга, они снова бросились вперед, в темноту, поднялись по скату оврага и умчались в степь… Невдалеке слышалась возня, взвизгивание, глухие удары копыт.
– Зажигайте костер! Сюда, ко мне! Тащите арканы! – кричал сотник.
Джигиты засуетились. Костер снова разгорелся и осветил пегого коня. Аркан захлестнул ему шею и натянулся, как струна. Сотник закручивал конец аркана за ствол рябины. Дерево вздрагивало от прыжков коня.
– Кончайте коня! – кричал сотник, натягивая аркан.
Джигиты подбежали к дрожавшему от ярости коню. Три длинных красноперых стрелы пронзили ему бок. Конь упал на передние колени, хотел подняться, но один из джигитов навалился и перерезал ему горло.
– Праведный Хызр прислал нам ужин! – сказал мулла. – Не забывайте молитв, соблюдайте рузу,[135] вспоминайте днем и ночью имя Всевышнего, и он вознаградит вас!
Джигиты, засучив рукава, быстрыми привычными приемами сдирали пегую шкуру с коня и рассекали его на части. Красная туша уже лежала на содранной шкуре, и джигиты, довольные, посмеивались:
– Лихой джигит наш сотник Тюляб-Бирген! Когда все тряслись от страха, думая, что видят скачущих покойников, наш начальник набросил аркан на коня и удержал его одной рукой. Если бы мы не были ротозеями, мы могли бы захватить живьем еще несколько диких коней…
– Разве это были дикие кони? – сказал проводник Сентяк. – С приходом татар много кипчакских табунов разбежалось по степи, и кони совсем одичали. Таков и этот пегий конь, двухлетка, с тавром хана Котяна… А дикие кони не такие – они песочной масти, с темным ремнем вдоль хребта. Но мы съедим этого пегого коня так же дочиста, как если бы он был диким.
Глава одиннадцатая. Первый русский пленный
Среди ночи проводник Сентяк рассказывал о набегах кипчаков на урусутское Залесье. Джигиты лежали вокруг костра и в полусне слушали его рассказ. Мороз усиливался. Легкая снежная пыль неслась низко над землей и засыпала лежавших. Сотник, накинув на плечи баранью шубу, сидел среди джигитов и молча, немигающими глазами смотрел на прыгавшие по веткам огоньки костра. Издалека донесся вой волка, опять на равнине показались тени! Зверь или человек? Враг или друг?
– Первый десяток! – сказал, не шевельнувшись, сотник.
Десять джигитов вскочили и направились к своим коням. Они поднялись по скату, и тени их скрылись во мраке. Сотник отошел к своей землянке. Остальные джигиты, оправляя оружие и настороженно прислушиваясь, продолжали сидеть у огня.
– Наши, – сказал чей-то голос.
На бугре показались четыре всадника. Возле переднего шел пленный без шапки, со связанными за спиной руками. Светлые, как кудель, волосы сбились. Лицо было измучено. Ноги с трудом передвигались. Второй всадник сидел, пригнувшись к гриве коня, и непрерывно повторял:
– Вай-уляй! Жжет!.. Огонь во мне!.. Воды, дайте холодной воды затушить огонь в моем животе!
Медленно спустились всадники по косогору и остановились у костра. Сотник, узнав вернувшихся четырех братьев, заложив руки за пояс, подошел к пленному и внимательно его осмотрел. Высокий худой юноша, в холстинных портках, в расстегнутой рубахе и босой, стоял равнодушный, окаменелый, с посиневшим от холода лицом и только облизывал рассеченную верхнюю губу, из которой сочилась кровь. Метнув недоверчивый взгляд на сотника, он опять уставился в одну точку.
Три брата, соскочив с коней, осторожно сняли четвертого и положили на войлок около костра… Раненый лежал на спине с полузакрытыми глазами, лицо его обтянулось, нос заострился. Рот кривился, и губы что-то шептали.
Мулла Абду-Расуллы опустился на пятки возле раненого и, вглядываясь в его лицо, строго говорил:
– Повторяй за мной: «Бог, царь царей! Слава Аллаху! Нет бога, кроме Аллаха, и Бог велик!..»
Сотник Тюляб-Бирген долго стоял возле раненого, подняв правую бровь, всматривался в его судорожно дергавшееся лицо, наконец безнадежно махнул рукой и, сбросив с плеч баранью шубу, покрыл ею умирающего джигита.
К сотнику подошли вернувшиеся братья. Бури-бай сказал:
– Как ты приказал, мы пробрались оврагами до дубовой рощи. Мы оставили коней внизу, а сами проползли на высокий бугор. Увидели лагерь урусутов. Их было около тысячи. Они храпели на всю степь. Мы стали пробовать, как бы скрасть одного из спящих, и продвигались к ним. Демир двигался первым и наткнулся в кустах вот на этого мальчишку. Мальчишка вскочил и перерезал Демиру кишки. Если бы не твой приказ, мы бы тут же прикончили сосунка, – так обидно было за Демира. Такого смелого брата, укротителя диких коней, потерять из-за такого сопляка! Мы связали его и заткнули ему рот. Если бы Демир закричал, нас бы схватили урусуты, – они были рядом. Но Демир молчал, точно откусил язык… Сутки мы просидели в дубняке, выжидали. И справа и слева проходили отряды урусутов. Теперь пленный перед тобой. Мы свое дело сделали, а брата Демира зовет к себе Аллах. Давай нам обещанные тулупы.
Сотник сказал сухо:
– Храбрый был джигит Демир! Аллах его успокоит в своих райских рощах… Моя шуба на нем. А почему вы ободрали пленного раньше времени? Зачем сняли с него чапан? Почему он босой? Я должен показать его хану Баяндеру целым и необмороженным, а голый он подохнет этой же ночью.
Ворча и ругаясь, три брата стали одевать пленного, наворачивать ему на ноги онучи и подвязывать лапти. Проводник Сентяк, знавший немного по-русски, расспрашивал пленного, сколько всех урусутских воинов, хотят ли урусуты драться?
Пленный говорил мало и отрывисто. Глядел злобно и все облизывал рассеченную губу.
– Зовут его Торопка, родом он из лесной деревни Перунов Бор. Сколько войска – он не знает. А драться с татарами хотят все урусуты, и все пошли на войну…
Сотник внимательно слушал, что переводил проводник Сентяк, и заставлял муллу Абду-Расуллы записывать все сказанное на лоскутах с заклинаниями… Переводчик скоро использовал все русские слова, какие знал, и больше ничего не мог выпытать от пленного. Несколько ударов по голове плетью не помогли делу: мальчишка упрямо молчал.
Сотник сказал, что сам отвезет пленного к хану Баяндеру. Его гнедой жеребец, давно оседланный, был привязан возле землянки. Десять джигитов должны были его сопровождать. Но выезжать в метель среди ночи было опасно. Тропы замело снегом, и вьюга усиливалась. Приходилось ожидать рассвета, и сотник ушел в свою землянку.
Торопка сидел на земле близ костра. Руки, закрученные за спиной, затекли и мучительно ныли. Снег, летевший сбоку, засыпал голову и плечи, и Торопка не мог стряхнуть его с лица. Петля аркана давила шею. Конец аркана держал в руке молодой джигит, сидевший рядом. С другой стороны лежало на конском потнике тело Демира, покрытое бараньей шубой. Демир уже перестал стонать и навсегда затих.
Прошло много времени. Костер, в котором лежали с вечера большие жерди, почти совсем догорел. Последние огоньки перебегали по тлеющим в золе красным углям. Лагерь заснул. Не спал лишь Торопка, обдумывая, как бы вырваться из плена, и не спала изможденная, тощая старая «ясырка». Она сидела на пороге своей полуразвалившейся землянки и смотрела на огоньки костра злыми черными глазами… Она дожидалась, когда джигит, стороживший мальчика, приляжет на бок. Тогда она поднялась и бесшумными кошачьими движениями приблизилась к костру. Она не искала остатков еды. Она склонилась к лицу похрапывавшего джигита, отшатнулась и сделала шаг к Торопке. Вытащив из широких складок своих синих шаровар обломок отточенного ножа, осторожно перерезала волосяные веревки и безмолвно указала рукой в ту сторону, где стоял гнедой жеребец сотника. Затем бесшумно исчезла.
Торопка почувствовал, как ослабели веревки, но сразу не мог сделать ни одного движения онемевшими руками. Медленно приливала кровь, постепенно начали шевелиться пальцы. Торопка, выжидая, посматривал на спавшего джигита. Наконец поднялся и осторожными шагами направился по мягкому пушистому снегу к гнедому коню. Дрожащими руками он отвязал повод и оказался в седле…
Он был на бугре, когда услыхал позади себя крики. Но ветер уже свистел в ушах, снег бил в лицо, а сильный жеребец упругими прыжками уносил его вперед, в простор немой беспредельной равнины.
[112] В XII веке у русских людей, помимо христианского имени, было прозвище, обычно древнеславянское (например, Булатко, Гневаш, Шолох, Прокуда, Шестак и др.); позднее оба имени вписывались в документы. Из этих имен образовались фамилии: Севрюков, Ваулин, Прокудин, Звягинцев, Шестаков, Шолохов и т. п. Вторым именем могло быть не только прозвище (не обязательно языческое), но и другое христианское имя. В то время верили в заклинания, в «черный глаз», в напускание порчи. Поэтому данное при крещении имя скрывалось, чтобы не «сглазили», а в обиходе употребляли второе имя.
[113] Дикое поле – так назывались вольные степи к югу от Рязанского княжества и к востоку от Киева и Курска, где кочевали с тысячными стадами и табунами половецкие ханы. Около рязанских пограничных застав и сторожевых крепостей возникали временные поселки, куда приезжали половцы и устраивали меновую торговлю, обменивая кожи, баранов, быков, лошадей, шерсть на русское зерно, муку, меха, бортный мед и пр.
[114] Тиун – доверенный приказчик князя, управляющий, сборщик, часто из крестьян.
[115] Налоги и подати крестьян (смердов) в то время назывались «данью». Князь посылал за данью тиунов, иногда собирал ее сам. Это называлось «полюдье».
[116] Рогали – рукоятки сохи.
[117] Глуздырь – птенец (старин.).
[118] За восемь лет до татарского нашествия была страшная засуха, все поля погибли, а затем объявился мор и начался голод, продолжавшийся два года.
[119] В глухих лесных деревушках «миром» обычно называли густо населенную часть области. Отправляясь из лесу в большие села или города, говорили: «поехал в мир», «вернулся из мира», «что слышно в миру?».
[120] Полевать – рыскать, охотиться, воевать в степи.
[121] Чагониз – так русские называли Чингисхана.
[122] Отрок, или детский дружинник, – молодой воин из дружины князя.
[123] «Большой полк» – главная часть войска, центр.
[124] Аксамит – бархат.
[125] Фофудья – теплая одежда, фуфайка.
[126] Шабур – верхняя одежда из домотканой шерстяной материи.
[127] В XIII веке многие слова имели иное значение, чем теперь: доспевайте – собирайтесь; вой – воин; воеводство держашу – под начальством.
[128] Детинец – укрепленная часть внутри города, кремль, где жили «дети» и «отроки», т. е. боевая дружина, охранявшая князя.
[129] Вежи – шатры, юрты.
[130] Сурож – торговый приморский город в Крыму, ныне Судак.
[131] «Товарами» в то время назывались обозы.
[132] Неясыть – сова.
[133] Ясырка – пленная рабыня.
[134] Пятигорье – местность на Северном Кавказе.
[135] Руза – религиозный пост у мусульман.
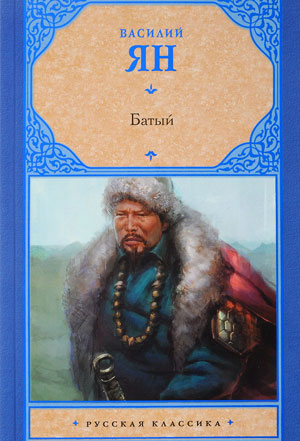
Комментировать