I. Директора и регенты
Степан Васильевич Смоленский
Степан Васильевич Смоленский – одна из наиболее значительных фигур в истории русской музыкальной культуры последней трети XIX – начала XX века. Заслуги Смоленского как ученого-медиевиста и педагога всегда признавались и высоко оценивались, однако, поскольку долгое время в тени находилась центральная сфера его интересов – духовно-музыкальная – и основные документы его архива – многотомные «Дневники», масштабные «Воспоминания», а также огромная переписка до наших дней остаются (за редкими и небольшими исключениями) неопубликованными, не осознаны истинный масштаб личности Смоленского и те основополагающие идеи, из которых вырастала его неутомимая повседневная деятельность на разных поприщах.
Главное место занимает здесь комплекс мыслей, которые можно объединить выражением «русская идея» (или, пользуясь словом Смоленского, – «исповедание»). В определенном смысле фигура Смоленского вполне сопоставима с фигурой другого пророка русской идеи в музыке – Владимира Васильевича Стасова, и недаром они, встретившись, очень хорошо поняли друг друга. Как и Стасов, Смоленский был европейски образованным человеком и обладал многогранным жизненным опытом. Но в отличие от Стасова, занимавшегося прежде всего «светским» искусством (хотя отнюдь не проходившего мимо вопросов искусства церковного и являвшегося одним из первопроходцев в данной области), для Смоленского центр интересов составляло его любимое духовно-певческое творчество, которое рассматривалось им как «однокоренное» с народной песнью и как чистое и глубокое выражение духовной жизни народа. В свободном и самобытном развитии этой жизни, не стесненном никакими официозными предписаниями, Смоленский видел основу будущего роста культуры. Такая позиция ясно выражена, например, в следующем фрагменте «Воспоминаний», где речь идет о московских любителях церковного пения из простонародья – завсегдатаях Успенского собора:
«В рассуждениях этих простых, но полных веры и силы людей я слышал не один раз очень могучие и не преувеличенные ноты, те самые, которые были слышны в пульсах движений именно народных, когда это движение вызывалось бессилием бывшей администрации и побеждало губившую было беду. <...> Именно эта сила, скрытая, огромная, не подозреваемая многими, вполне здоровая и независимая, снисходительно смотрящая на всю гниль и ложь нашей администрации, нашей культуры, – именно эта сила... поразила мой ум. <...> Тихие пульсы этой силы бьются у нас перед глазами. <...> Затрудняясь определить словами и даже приблизительно назвать эту силу, столь оживляющую и бодрящую народные способности, вырабатывающую в нем выносливость и долготерпение, могу ли я отрицать в ней то, что отрезвляет народ и спасает его в годины бедствий?»
Из такой позиции вытекали, помимо прочего, и трудные ситуации, в которые регулярно попадал Смоленский, не уступавший Стасову в горячности характера и в «громогласности», когда дело касалось принципиальных вопросов. Для чиновников синодального ведомства, контролировавших его деятельность в Синодальном училище, славянофил Смоленский был едва ли не смутьяном или, во всяком случае, опасным либералом: опасения вызывали и его гуманные педагогические приемы, и его стремление расширить кругозор учащихся и певчих Синодального хора исполнением шедевров западноевропейской музыки, чтением не предписанных программой книг, разносторонним профессиональным образованием, и его сопротивление абсурдным предписаниям сверху, исходящим как от светского, так и от духовного начальства. Человек глубоко верующий и глубоко православный, Смоленский имел совершенно трезвый взгляд на определенные аспекты жизни церкви синодального периода и не скрывал своего мнения. Результатом стала отставка от страстно любимого им дела. То же самое, в общем, произошло со Степаном Васильевичем в Петербурге, в Капелле, где он меньше соприкасался с церковными чиновниками, но зато должен был постоянно отбивать атаки придворного ведомства, высокопоставленных лиц и покровительствуемых ими недобросовестных регентов, певчих и т. д. По личным убеждениям Степан Васильевич был, если можно так выразиться, демократическим монархистом, понимавшим монархическую идею как солидаризирующую народную Россию и противостоящую бюрократии, стесняющей проявления народного разума. Не сладив с этой самой бюрократией, Смоленский принужден был уйти из Придворной капеллы так же внезапно, как из Синодального училища, оставив на полпути затеянные преобразования.
Но никакие препятствия не могли остановить Степана Васильевича: человек феноменальной трудоспособности, он работал до последнего дня жизни.
Смоленский-ученый стал одним из основоположников русской музыкальной медиевистики. Результатом его грандиозной по масштабу собирательской работы явилось создание Научно-музыкальной библиотеки певческих рукописей в Синодальном училище (об этом подробно рассказывается в публикуемых «Воспоминаниях»). Страстный археограф, Смоленский выступил организатором первой научно-музыкальной экспедиции на Афон. В петербургском Обществе любителей древней письменности он состоял председателем отдела разыскания и издания памятников певческого искусства.
Талантливый педагог и широко мысливший администратор, он очень много сделал для совершенствования системы подготовки регентов и учителей церковного пения. Так, уже в Казани Смоленский вырастил целую плеяду учеников, пользовавшихся его методом обучения пению по цифровой системе. Став директором Синодального училища, он, вместе с сотрудниками, поднял эту пребывавшую в небрежении школу для мальчиков-певчих до уровня высшего духовно-музыкального учебного заведения, выпускавшего блестящих педагогов и регентов. Очень большое значение имели последние замыслы Смоленского – открытие общедоступного Регентского училища в Петербурге и учреждение регентских съездов в Москве.
Профессор Московской консерватории, Смоленский более десяти лет возглавлял там кафедру истории церковного пения. Как публицист он выступал в «Русской музыкальной газете», «Московских ведомостях», журналах «Семья и школа», «Хоровое и регентское дело» и других изданиях.
Наконец, авторитет, которым пользовался Смоленский в широких музыкальных кругах, способствовал обращению многих художников и исследователей к древним пластам отечественной хоровой культуры. В 1890-х годах Смоленский стал вдохновителем так называемого Нового направления в русской духовной музыке: оно представлено широким кругом имен, среди которых достаточно упомянуть Рахманинова, Кастальского, Гречанинова, братьев Чесноковых, Никольского, Вик. Калинникова, Ипполитова-Иванова, К. Шведова, Голованова.
* * *
Степан Васильевич Смоленский родился 8 октября 1848 года в Казани. Его дед по материнской линии Степан Дмитриевич Колеров был профессором Петербургской духовной академии. Дядя, крестный отец и любимый наставник – Николай Иванович Ильминский, профессор Казанской духовной академии и университета, ученый-ориенталист, занимавшийся миссионерско-просветительской деятельностью в Поволжье. Отец, Василий Герасимович Смоленский, в течение пяти лет после рождения сына служил секретарем архиепископа Казанского Григория (Постникова), последователя и друга митрополита Московского Филарета. Казанский архиерей, большой ревнитель просвещения, в 1854 году добился перевода в местную духовную академию ценнейшей рукописной библиотеки Соловецкого монастыря и учредил для издания ее памятников журнал «Православный собеседник» – в нем Смоленский-сын впоследствии напечатал свои первые научные заметки. Позже Василий Герасимович служил секретарем по студенческим делам в Казанском университете.
Университет и академия задавали тон общественной жизни города. В. Г. Смоленский и Ильминский были душой профессорского кружка, в который входили крупные ученые разных специальностей. Наибольшее влияние оказал на юного Смоленского В. И. Григорович – «апостол славяноведения», совершивший путешествие в находившиеся тогда под властью Турции славянские земли и вывезший оттуда в Россию множество рукописей. Облик ученых-шестидесятников – «неисчерпаемых идеалистов» и «пламенных славянофилов» – заложил основы миропонимания Степана Васильевича: «Их крепчайшая вера в силу добра, правды, знания, свободы воспитала и меня, вырастила меня в самого неисправимого врага всякого зла, неправды, невежества и произвола» («Воспоминания», том I, л. 3).
С ученической скамьи Смоленского интересовало все связанное с русской историей, а также с музыкой и церковным пением. Мальчиком он по слуху подбирал на фортепиано мелодии шарманщиков, военных оркестров, слушал оперы в исполнении заезжих трупп. Сильное впечатление производили на него и народные песни. Искуснейший звонарь Покровской церкви посвятил его в тонкости своего дела (впоследствии Смоленский написал интереснейший очерк «О колокольном звоне в России» – РМГ, 1907, №№ 9–10). Не меньшим увлечением был церковный хор, в котором Смоленский пел с малых лет; в гимназии и университете он неизменно регентовал хором своих товарищей.
Серьезное музицирование началось со знакомства с Л. Ф. Львовым и его домашним квартетом. Смоленский обучался игре на скрипке, принимал участие в студенческих и других любительских ансамблях. По окончании юридического факультета Казанского университета в 1872 году последовала трех летняя служба в городском суде. Одновременно Смоленский начал заниматься с хором в только что открытой Ильминским Учительской русско-инородческой семинарии. В 1875 году он окончил историко-филологический факультет и затем полностью посвятил себя педагогике (кроме хорового пения, он вел в семинарии историю и географию).
К своим обязанностям регента Смоленский подошел серьезно и не раз ездил, чтобы набраться опыта, в Петербург, в Придворную певческую капеллу, а в 1884 году совершил поездку за границу для изучения методов преподавания в учительских семинариях Саксонии, Баварии и Богемии. В России того времени отсутствовала налаженная система обучения хоровому делу, и уже зимой 1875/76 года Смоленский выпустил литографированный вариант учебного руководства по теории музыки и начальной гармонии «Курс хорового церковного пения», впоследствии многократно переиздававшийся и ставший популярнейшим пособием для народных школ.
Деятельность Смоленского привлекла внимание Сергея Александровича Рачинского – крупнейшего русского педагога, создателя школ для крестьянских детей в Смоленской губернии. Придававший большое воспитательное значение церковному пению, Рачинский начал посылать своих учеников к Смоленскому. Последовавшее затем знакомство переросло в дружбу, и Рачинский стал на много лет советчиком и помощником Смоленского, используя при этом свою давнюю близость с обер-прокурором Св. Синода К. П. Победоносцевым. Тот, посетив в 1885 году казанскую семинарию Ильминского, пришел в восторг от пения хора Смоленского и пригласил Степана Васильевича принять участие в работах комиссии Синода по вопросам преподавания церковного пения в семинариях.
В 1876 году Смоленский познакомился с протоиереем Д. В. Разумовским, возглавлявшим кафедру истории церковного пения в Московской консерватории. Выслушав от патриарха музыкальной медиевистики упрек в неумении петь по крюкам, а, следовательно, в незнании исконно русского пения, Смоленский по возвращении в Казань пошел в учение к старообрядцам. Освоив древние нотации, он обратился к хранившимся в Казани Соловецким рукописям. Первым результатом стал выход в свет в 1885 году первой редакции фундаментального «Описания рукописей Соловецкой библиотеки». За ним последовало «Краткое описание рукописи древнего знаменного ирмолога, принадлежащего Воскресенскому «Новый Иерусалим» именуемому монастырю» (1887), и, наконец, было подготовлено к изданию уникальное теоретическое пособие XVII века «Азбука знаменного пения. Извещение о согласнейших пометах старца Александра Мезенца» с комментариями Смоленского (1888).
В 1887 году Смоленский совместно с Рачинским составил программу изучения знаменного пения для духовных учебных заведений. Однако при обсуждении данной темы авторы пришли к выводу, что одни программы не могут ничего изменить – нужен учебный центр, школа для подготовки учителей, способных радикально повлиять на церковно-певческое образование. Еще ранее Смоленскому предлагалось занять пост директора Московского Синодального училища в связи с реорганизацией последнего. Тогда Степан Васильевич отказался: по уставу положение директора оказывалось недостаточно самостоятельным, а кроме того не была закончена увлекавшая Смоленского работа над описанием соловецких рукописей.
В январе 1889 года вопрос о переезде в Москву был решен в положительном смысле, и тогда же Смоленский получил «из рук в руки» от умиравшего Разумовского консерваторскую кафедру. В июле 1889-го начался двенадцатилетний московский период жизни ученого и педагога – период, освещенный в публикуемой ниже главе.
Синодальное училище как школа-интернат для мальчиков виделось Смоленскому подобием двух знаменитых школ – казанской Учительской семинарии Ильминского и татевской крестьянской школы Рачинского. Опыт и направление деятельности Смоленского вскоре поставили его вровень с крупнейшими русскими педагогами православной ориентации. Для учеников Степан Васильевич был «отцом-директором». Уезжая домой на каникулы, мальчики писали ему о своих впечатлениях и занятиях, а впоследствии, уже закончив курс, обращались к нему со всеми вопросами и заботами. Смоленский немедленно отвечал на подобные письма, а потом тщательно сохранял их в своем архиве. Очень быстро Смоленскому удалось сплотить вокруг себя единомышленников из числа уже трудившихся в училище регентов и педагогов; впоследствии этот круг расширился приглашением В. С. Тютюнника, о. В. М. Металлова, А. В. Преображенского, ряда преподавателей из консерватории, а позже – талантливых выпускников самого училища.
В январе 1894 года Смоленский записал в «Дневнике», что на заседании педагогов-теоретиков «впервые высказался сполна об изменении... музыкальных программ в русском направлении» (I, л. 82). На самом деле работа над формированием училища как «рассадника будущих знатоков древнего церковного пения» началась с первых же дней пребывания Смоленского в училище, так же как совместная с регентом Василием Орловым деятельность по преобразованию в «русском направлении» репертуара Синодального хора. Постепенно обогащалась библиотека рукописей, которая к моменту отъезда Смоленского в Петербург насчитывала более тысячи экземпляров и над каталогизацией которой Степан Васильевич упорно трудился, привлекая к делу некоторых педагогов и старших учеников. Обо всем этом подробно рассказывается в публикуемых ниже воспоминаниях как самого Смоленского, так и его сотрудников.
В 1901 году, окидывая взглядом двенадцатилетнюю историю своей деятельности в Синодальном училище, Смоленский отразил ее в оригинальной схеме, где знак подъема – crescendo, – протянутый от 1889 года, упирается в кульминационные 1892–1897 годы, после чего следует знак спада – diminuendo – к 1900 году. В 1897 году был принят новый устав, по которому училище наконец получило необходимые гражданские права для своих педагогов и учащихся, а также новые программы. Именно в этот момент произошло острое столкновение Смоленского с чиновничьим миром, прежде всего с его непосредственным начальником князем А. А. Ширинским-Шихматовым и товарищем обер-прокурора В. К. Саблером. «Прекрасная пора в течение пяти-шести лет, которая значится между концом crescendo и началом diminuendo, была полна глубокого мира, самой сердечной дружбы и самой искренней энергичной работы и учеников, и преподавателей, и хора. Но судьбе было угодно наслать на это прекрасное дело такого недоумка и такого негодяя, которого самолюбие и самомнение не выносило около себя ничего не глядящего его глазами и ничего работающего самостоятельно», – констатировал Смоленский в одном частном письме7. Независимость воспитанного в заветах шестидесятничества Смоленского и до этого сталкивалась с ловкостью придворного карьериста, и покровительства Победоносцева, в конце концов, оказалось недостаточно (точнее, влияние могущественного некогда обер-прокурора в эти годы уже значительно ослабевало). Некоторое время Смоленский еще пытался вести училище прежним курсом, опираясь на поддержку педагогов и учеников, но в мае 1901 года он вынужден был уйти, выразив убеждение, что заложенные им основы не будут забыты и «то, что имеет здоровый корень, не погибнет».
И действительно, пережив кризис в пору директорства Орлова, училище вернулось к жизни по заветам Смоленского, причем и в самые трудные годы направление поддерживалось единомышленниками и учениками Степана Васильевича. Его идеи, его нравственный облик обладали огромной притягательной силой. Это очень хорошо выразил педагог училища, известный духовный композитор Дмитрий Аллеманов в письме к Смоленскому от 27 декабря 1901 года: «Вы так любите церковное пение, и именно древнерусское, с такой сердечностью доказываете его прелесть, что, кажется, если бы оно и выеденного яйца не стоило, и то его, слушая вас, можно полюбить. Вы подобны реформатору вообще, в высшей степени одушевленному идеалами своей религии. И немудрено, что эти люди, как и вы, заставляли верить их верою, смотреть их глазами. Великое чувство любовь. <...> Вы век церковного времени остановили»8.
В мае 1901 года Смоленский был назначен управляющим Придворной певческой капеллой в Петербурге и застал на новом месте ту же картину, что при первом знакомстве с Синодальным училищем: дисциплинарную и хозяйственную запущенность школы и хора, отчаянное невежество младших и неприязнь к реформам старших. И здесь нашелся свой Ширинский-Шихматов: им стал начальник Капеллы граф А. Д. Шереметев. Главное же, в Петербурге, в отличие от Москвы, идеи Смоленского не имели «природной почвы». 17 августа 1903 года он был вынужден подать прошение об отставке.
В течение следующих четырех лет Смоленский не преподавал. Он занимался научными изысканиями под эгидой Общества ревнителей русского исторического просвещения и Общества любителей древней письменности, совершил поездку на Афон, в Вену и Софию, читал лекции по истории церковного пения в Петербургском университете, собирал материалы для исследования раннего русского многоголосия, готовил к печати «Сравнительный текст догматиков в знаменных и нотных изложениях с XIV по XIX век» и теоретический трактат XVII века – «Мусикийскую грамматику Николая Дилецкого».
Однако спокойная жизнь ученого мало подходила Смоленскому, и в 1907 году он вернулся к «учительству», открыв в Петербурге Регентское училище для всех желающих приобрести данную профессию. При училище он устроил музыкальную школу и общедоступный хоровой класс, готовивший церковных певчих и служивший базой для практических занятий по дирижированию. По замыслу Степана Васильевича, со временем все это должно было вырасти в Академию хорового пения. Желающие учиться нашлись, гораздо хуже обстояло дело с «источниками финансирования».
Но Смоленский не сдавался. Включившись в работу по совершенствованию профессионального хорового обучения, он принял участие в создании журнала «Хоровое и регентское дело», стал одним из инициаторов I Регентского съезда в Москве летом 1908 года. На II съезде, состоявшемся в Москве в июне следующего года, он, несмотря на плохое самочувствие, читал лекции на регентских курсах. А потом отправился на пароходе по Волге в родную Казань и по дороге, в Васильсурске, был вынужден из-за болезни прекратить путешествие. 20 июля (2 августа), в день Ильи Пророка, Смоленский скончался. Он похоронен в Казани на Арском кладбище, рядом со своим любимым учителем и другом Н. И. Ильминским.
* * *
Архив Смоленского огромен, и его значение соответствует масштабу этой исключительной личности. Здесь представлено множество интереснейших, часто уникальных материалов по общественной и художественной жизни Казани, Москвы, Петербурга, провинциальных городов. В грандиозной по объему переписке Смоленского фигурируют сотни имен, в том числе титулованных особ, государственных деятелей, ученых, музыкантов. Глубокий, проницательный ум историка очевиден в оценках Смоленским людей и событий. Что же касается церковно-певческого искусства, то материалы архива Смоленского своей многогранностью в некоторой степени восполняют утраченные документы по истории Синодального училища, Придворной капеллы, Общества любителей древней письменности, дают дополнительные сведения к истории Московской консерватории.
Смоленский – несомненно, один из самых талантливых художников слова среди музыкантов, и часто ему удавалось выражать интереснейшие мысли слогом, поистине блестящим и вполне самобытным.
При всем том судьба сохранившейся части архива Смоленского отнюдь не благополучна.
Естественно, что все знакомившиеся с рукописями Степана Васильевича проявляли особый интерес к его «Дневникам» и «Воспоминаниям», однако до сих пор они не опубликованы и известны лишь немногим специалистам. Можно утверждать, что для истории русской музыкальной культуры и «Дневники» и «Воспоминания» Смоленского – редчайшие по ценности документы. Смоленский, как уже говорилось, был историком по призванию, хорошо понимал важность мемуаристики как летописи своего времени и потому вел записи не просто регулярно, но и весьма развернуто, насыщая их массой подробностей и деталей. При этом «Воспоминания», хотя и создавались на основе «Дневников», не тождественны им, представляя собой новую ступень в осмыслении автором пережитого.
Толчком к работе над «Воспоминаниями» стала кончина ближайшего друга Смоленского Сергея Александровича Рачинского. 11 июня 1902 года, на сороковой день, Смоленский писал сестре покойного: «До сих пор не могу еще в точности определить меру осиротелости и не могу понять меру моего чувства незаменимой душевной утраты, – чувствую лишь большой недостаток во многом, чувствую утрату поддержки, потерю совета, потерю общения с человеком далеко незаурядным по уму, по прочности своих суждений и совершенно безукоризненной чистоте своего склада, совершенно безупречной честности»9. 28 июля того же года появились первые страницы «Воспоминаний» – как замена бесед с другом в письмах. Последняя глава «Воспоминаний», «Придворная певческая капелла», доведена до 31 января 1903 года, то есть до времени, когда ничто еще не говорило о возможности скорого изгнания Смоленского из Капеллы (правда, предчувствия «проигрыша» уже возникали – о них упоминается в конце главы). 31 января 1903 года «Воспоминания» и «Дневники» хронологически сомкнулись (иначе говоря, последние страницы «Воспоминаний» написаны как дневник, по свежим следам событий). Далее Степан Васильевич «Воспоминаний» не продолжал, и последние годы его жизни освещаются только в «Дневниках».
Итак, «Воспоминания» были созданы в течение примерно шести месяцев, и притом четыре месяца были отданы разделу о Синодальном училище – самой трудной теме, отмеченной на полях тома словами «Девятый вал». Думая о возможном издании своих мемуаров, Степан Васильевич не раз брался за текст первых, казанских глав и правил его; что же касается разделов о Синодальном училище и Придворной капелле, то к ним Смоленский не прикасался – вероятно, слишком горько и обидно было вспоминать, как несправедливо его дважды отстранили от любимого дела. В 1904 году, перелистав эти главы, Смоленский оставил запись в самом конце второго тома рукописи: «Мне бросился в глаза также неспокойный, даже резкий, желчный оттенок описаний окружающего меня сверху. Поэтому я заключаю, что продолжение моих описаний преждевременно, так как может еще мною руководить в них чувство досады и трудности быть вполне беспристрастным. <...> Я охотно разбавил бы на многих страницах невольно сгустившиеся краски как вредящие точному значению событий и их последствий». Спокойствия относительно любимого детища – Синодального училища – Смоленский не обрел и позднее. Так, в 1906 году он записал там же: «Быв недавно в Москве, я не нашел, однако в себе силы побывать в Синодальном училище. Переданные мне сведения о нем были очень больны моему сердцу». Таким образом, глава, посвященная училищу, осталась «неразбавленной».
По завещанию Смоленского «Воспоминания» были переданы после его смерти исследовательнице церковного пения Софии Сергеевне Волковой. Степан Васильевич в течение ряда лет переписывался с ней и пересылал ей для отзыва первые главы «Воспоминаний». Рукопись передавалась Волковой на правах собственности с тем, чтобы та, если пожелает, передала «Воспоминания» в Казанскую учительскую семинарию. Однако Волкова решила издать «Воспоминания». Она позаботилась о снятии копии с казанских глав и отправила их Екатерине Степановне Ильминской в Казань, а в 1914 году отдала всю рукопись для ознакомления А. Н. Римскому-Корсакову, который открывал в Петрограде новый журнал «Музыкальный современник» (выходил с 1915 года). Однако до 1917-го публикация не была осуществлена, и тогда Волкова по просьбе Кастальского направила Римскому-Корсакову ряд депеш с требованием срочно вернуть рукопись в Москву. Тот в ответ предложил издать пока выдержки из седьмой главы, но Софья Сергеевна отказалась, предполагая, что выдержки эти, в угоду политической конъюнктуре революционного времени, будут касаться лишь «обличений Синода» и представят Смоленского «в неверном свете».
Кастальский настаивал на возвращении рукописи в Москву по договоренности с Б. В. Асафьевым: в 1917 году П. П. Сувчинский и Б. В. Асафьев планировали опубликовать «Воспоминания» полностью в основанном ими альманахе «Мелос»10. Однако и этот план не был осуществлен. В 1919 году А. В. Преображенский писал Волковой из Петрограда: «События лишили редакцию возможности сделать это, и когда настанут лучшие времена – сказать теперь трудно»11. Под событиями имелся в виду отъезд Сувчинского из России и прекращение ежегодника; рукопись «Воспоминаний» при этом оставалась у Асафьева.
Рукопись же «Дневников» до 1919 года хранилась у ближайшего многолетнего сотрудника Степана Васильевича по Синодальному училищу и Придворной капелле А. В. Преображенского, получившего ее по завещанию Смоленского и затем передавшего в архив (РГИА). Имеется письмо Сувчинского к Преображенскому, где речь идет о работе Преображенского над «Дневниками»12.
Вопрос о публикации «Воспоминаний» вновь возник в 1927 году, когда им занялась комиссия по изучению русской музыки при музыкальной секции Государственной академии художественных наук. С. С. Волковой и В. В. Яковлеву было поручено подготовить рукопись к печати. Из письма Волковой к Н. Ф. Финдейзену от 1 мая 1928 года ясно, что рукопись в это время по-прежнему находилась у Асафьева13. Очевидно, следствием продолжительного пребывания документа в Петербурге стало появление в Рукописном отделе РГБ машинописной копии «Воспоминаний» без последней главы. Поскольку копия находится в фонде многолетней сотрудницы отдела А. С. Ляпуновой, то можно предположить, что она была снята по инициативе Анастасии Сергеевны; в таком случае понятно отсутствие последней главы «Придворная капелла», где Смоленский весьма жестко отзывается об отце А. С. Ляпуновой – своем предшественнике на месте управляющего Капеллой Сергее Михайловиче Ляпунове (справедливости ради надо отметить, что Смоленский критикует деятельность Ляпунова-администратора и что как композитор Ляпунов был автором превосходных духовных сочинений).
В 1932 году София Сергеевна Волкова умерла, а «Воспоминания» неизвестным нам путем попали к новому хозяину – выпускнику Синодального училища, регенту Синодального хора, знаменитому дирижеру Николаю Семеновичу Голованову, в Музее-квартире которого хранятся и поныне. По неподтвержденным рассказам сотрудников клинского музея Чайковского, перед смертью Волкова, жившая неподалеку от Клина, передала рукопись в Дом-музей Чайковского; им тогда заведовал Н. Т. Жегин, друг Голованова, который тоже входил в общество друзей музея. Возможно, что таким образом «Воспоминания» директора Синодального училища попали к одному из самых блестящих выпускников этого учебного заведения. По другой, маловероятной, версии рукопись была приобретена Головановым в ленинградском букинистическом магазине в 1932 году (версия основана на том, что в этом магазине был приобретен хранящийся в головановском архиве альбом фотографий учеников Синодального училища 1901 года). Наконец, рукопись могла попасти к Голованову непосредственно от В. В. Яковлева.
Синодальный хор и училище церковного пения (июнь 1889–май1901)
Судьба снабдила меня тремя начальниками, имеющими одинаковые начальные буквы в своих именах и фамилиях, то есть А. и Ш. Таковы: Андрей Николаевич Шишков, затем – князь Алексей Александрович Ширинский-Шихматов и, наконец, граф Александр Дмитриевич Шереметев.
С первыми двоими я служил в Москве, с последним – в Петербурге. Из последующего, думаю, будет видно, что это за люди, каково было служить с ними и успевать делать свое дело, даже спасая его от не понимающих дела самодурных и самомненных начальников. Охотно признаю себя заранее виноватым в том, что я, невзирая на служебную дисциплину, вел дело совершенно самостоятельно (конечно, в пределах возможного) и давал моему начальству самые безжалостные сдачи на их выходки, стоя горой за дело и оберегая его от глупо-озорных воздействий.
Оправдательными документами ко всему последующему, до самого конца моих воспоминаний, будут служить четыре тома моих записок14, веденных иногда изо дня в день, иногда же под впечатлениями только что случившегося, записанного для памяти и точности относительно времени и мелких подробностей всякого рода. Понятно, что эти записки мною велись с возможным беспристрастием, так как иначе в них не было бы никакой достоверности и никакой ни для кого ценности. Я вел их нарочно в некоторых случаях с достаточною подробностью, так как понимал и состояние дела, попавшего в мои руки, и всего моего труда, моей доходившей до самозабвения работы. Работа моя от этого ее энергичного качества, может быть – и от посильного знания дела и моей достаточной опытности, приобретенной в школе Н. И. Ильминского, всегда спорилась как-то особенно легко и удачно. Но каждый раз, сколько их ни припоминаю, успех моего труда, даже не в главном, всегда кончался претыканиями с начальством, путавшимся не в свое дело и всячески ставившим на вид свою обиду в том, что успехи достигаются не им одним. Особенно был несносен в этом отношении князь Ширинский-Шихматов, которого для краткости буду означать Ш2. Никто во всю мою жизнь, даже «сумасшедший старик», по словам К. П. Победоносцева, то есть А. Н. Шишков, не испортил мне столько крови, не унес у меня столько здоровья, как вполне жалкий Ш2. Этот человек оскорбил меня до глубины души, отнял у меня любимое дело и едва-едва не погубил меня совсем. Все мои уступки этому мелочному и бессердечному человеку не повели ни к чему, и я с болью в сердце должен был бросить свое милое Синодальное училище и Синодальный хор совершенно оплеванным. К счастью, нашлись добрые люди, вступившиеся за меня, и правда взяла свое сполна.
Судьбе угодно было, чтобы в мое заведование попали два вполне сходные учреждения, разнящиеся между собою лишь в незначительных мелочах по своим задачам, но имеющие огромную разность между собою в их положениях и в денежных средствах. Синодальный хор и училище при нем были вполне сходны в 1889 году с тем, что я застал в Капелле в 1901-м, с тою только разницей, что насколько я был удручен, даже до состояния растерянности, от состояния Синодального училища, то настолько же я был вполне возмущен и взбешен неимоверно подлым, невероятно скверным и вполне, наиполнейше распущенным состоянием Придворной капеллы. Подробности, впрочем, полагаю, будут очевидны из следующих описаний, в которых я буду сколь возможно сдержан и беспристрастен.
Синодальное училище и хор я застал в виде двояком. Училище было совершенно расстроено как в учебном, так и в дисциплинарном отношении; хор был относительно слажен, пел довольно стройно и звучно, но в то же время был глубоко невежествен по незнанию элементов музыки и по репертуару и глубоко недисциплинирован по так называемому «халтурянию» (пение потихоньку в чужих хорах) и полному упадку поведения певчих. Бедность хора и училища была совершенно полная во всех без исключения отношениях. Благоустройства не было решительно ни в чем.
Вспомню прежде об училище. Синодальное училище до начала 1886 года было обыкновенным уездным духовным училищем, в котором учились через пятое в десятое малолетние певчие Синодального хора. Ученье все-таки хоть какое-нибудь да было, так как бывало немало учеников, которые хотели по окончании курса и по спадении с голоса продолжать ученье в семинарии. Средства, отпускавшиеся Синодом на содержание малолетних певчих, были просто нищенские. Хор дополнял их, нанимаясь петь по московским церквам на целые годы, равно на отдельные службы. Оттого, при конкуренции с частными хорами, особенно же с гремевшим тогда Чудовским хором, певшим много лучше под управлением учеников талантливейшего Багрецова, Синодальный хор измельчал до последней степени, сбивал цены и, наконец, дошел до того, что стал посылать на «казенные службы» (то есть в Успенский собор) самых плохих певцов, хороших же певчих администрация хора гоняла по церквам к ранним и поздним обедням, по свадьбам, похоронам, панихидам и пр. за самую ничтожную плату. Несмотря на то, что мальчикам чуть не ежедневно приходилось вставать чуть не в пять часов утра и петь по три, даже по четыре службы в день, делая по Москве огромные концы пешком, мальчики все-таки старались петь как можно более продолжительно, то есть не переставая участвовать при полнейшей потере голоса, ходя даже на службы «для счета», то есть когда вознаграждение выдавалось по числу певцов. Понятно, что такое ремесленное отношение к делу, постоянный расчет на деньги, постоянные чаепития в трактире вместе с большими певчими в промежутки между ранними и поздними обеднями, пение «на балах» после свадеб глупейших кантов, вроде «Слава браком сочетанным» и тому подобное, не могли не уронить уровня развития мальчиков до того же несчастнейшего положения, в котором находятся эти певчурки и сейчас в московских частных хорах. Попросту сказать, – это белые негры, которых эксплуатируют, которым почти совсем не платят, отделываясь от них грошами. В Синодальном хоре, разве только по высоте фирмы в сравнении с частными хорами, положение малышей было все-таки несколько зажиточнее и подчинено некоторому контролю. Добрый, однако, человек нашелся и тут в лице Ивана Дмитриевича Бердникова, бывшего инспектором Синодального хора 25 лет и заведшего при вопиющей бедности все же хоть какие- нибудь порядки, хоть какое-нибудь ученье. Вполне заслуженно, сколько мог я судить по рассказам стариков, портрет этого благодетеля и заступника за малышей украшает зал Синодального училища. Но по его, как говорили мне, мученической кончине15 дело попало в руки совершенно неумелого педагога Николая Феофановича Добровольского и быстро пошло к упадку, пока начальство не увидало, наконец, надобности удалить г. Добровольского16. Это удаление было задумано при самом преобразовании училища, когда мне в первый раз предложили место директора, от которого я наотрез отказался17.
Преобразование Синодального училища было вызвано желанием улучшить пение в Успенском соборе и совершенно переустроить самое училище, превратив его в рассадник будущих знатоков древнего церковного пения и место образования для регентов и учителей пения в духовно-учебных заведениях. Для первой цели были возвышены оклады певчих и совершенно прекращены (то есть на бумаге) заработки Синодального хора на стороне; для второй цели, как это ни странно, училище прежде всего было лишено прав (в этом бесправном состоянии оно, по вине санкт-петербургских канцелярий, пробыло 13 лет) и преобразовано без всяких программ, только на бумаге. Понятно, что порядки под шумок и потихоньку от начальства остались прежние, и по совершенной неопределенности дела, по бездарности г. Добровольского училище быстро покатилось вниз по наклонной плоскости. Нового ничего не было вложено в старое, бездарное содержание. Бывшие заработки все же сократились, и к непорядкам прибавилось недовольство настоящим и полнейшее непонимание возможности лучшего будущего, даже и самих задач в этом будущем18. В таком состоянии полного разложения я застал Синодальное училище в июле 1889 года. Состояние это я, не бывший до того времени начальником и мало видевший разные учебные заведения, невольно приравнял к привычным мне порядкам Казанской учительской семинарии, к которым я привык давно и твердо. Существенным улучшением Синодального училища по его преобразовании было только расширение его помещений, так как из дома училища была удалена квартира прокурора Московской Св. Синода конторы и в училище нашлись хоть комнаты для классов. Во всем остальном, внешнем, это состояние было просто невозможно. В училище были какие-то совершенно невиданной системы столы для учеников, шатавшиеся и легко опрокидывавшиеся, не было вообще в достаточном количестве ни мебели, ни белья, ни учебных пособий, ни хоровых нот, ни инструментов, ни библиотек, ни даже сносной одежды... Нечистота была совершенно невероятная. Достаточно сказать, что училище не ремонтировалось даже побелкой потолков лет 8–9 в спальнях, даже в больнице, а ремонт бывшей квартиры прокурора, не ремонтировавшейся и при нем много лет, так и не был произведен при переходе в нее училища. Достаточно сказать, что весь нижний этаж училища был занят переплетчиком, шляпником, сапожником и весьма откровенною модною мастерской «М-те Caroline», а на дворе стояло длинное здание старых служб, брошенных за опасностью входа в них, причем одним из первых услышанных мною отказов на ходатайство о сломке этого здания, хотя бы ради безопасности и очистки места, было приказание «подоприте как-нибудь».
Дисциплины учеников не было совершенно, так как воспитатель Никольский ничего не мог поделать один без помощи директора, а помощник воспитателя Гиляров прямо ничего не делал. Господствовали и держали свою дисциплину крепкие кулаки всяких «солистов», старших мальчиков, спавших с голоса, и зуботычины регента Орлова, не стеснявшегося бить учеников даже в Успенском соборе. Ругань учеников, так сказать, висела в воздухе этого несчастного училища; малыши-страстотерпцы ходили в синяках, чистили старшим и «солистам» сапоги, отрекались из-за их угроз от воскресных порций пирога, платили старшим подати из так называемых «чаевых денег» (то есть дававшихся старостами церквей синодальным певчим «на чай») при дележе этих денег, и [старшие] совершали над этими детьми даже преступные неистовства. Куренье, карты, пьянство этих «солистов» и «старших» были открыты и заведомо известны. Тайные пороки были написаны на лицах многих 16–17-летних разбойников.
Но все это, по сущей совести, было все-таки много слабее и много менее бесстыже и безнадежно, чем то, что я с ужасом вспоминаю при первом знакомстве с Придворной капеллою.
Я застал Синодальное училище в учебном отношении еще на прежнем его положении, то есть с четырьмя классами, и пятый класс образовался уже при мне, после моего поверочного экзамена, приведшего меня в недоумение. Ученики этого пятого класса были мною выбраны в количестве только четырех, конечно, наилучших между теми, которые в возрасте пятнадцати лет не знали таблицу умножения, «писали корову через а» – по характерному заявлению мне воспитателя Никольского. Этого уже примера достаточно, чтобы судить о степени процветания научного образования в Синодальном училище. В пятом классе по общему плану преподавания в училище должен быть первый курс гармонии, а лучший ученик Алексей Петров отказался мне сыграть на скрипке гамму А dur, ссылаясь на незнание «диезов и бемолей» на скрипке...
Алексей Алексеевич Петров, кончивший курс в 1893 году первым в первом курсе, записанный на «Золотую доску» училища, ныне состоит экономом Придворной капеллы, куда я взял его немедленно по моем прибытии, так как он заявил о себе с этой стороны как знающий, умный и расторопный человек. Он превосходно учился в училище, и с его именем связан следующий рассказ19:
«...Седьмого [марта 1893 года] у нас на занятиях детского оркестра были Чайковский, Танеев, Направник и Прибик. Конечно, оркестр играл отлично. Чайковский захотел посмотреть работы учеников, и когда случайно подвернувшийся С. И. Танеев вспомнил, что ребята пели ему письменные ответы по контрапункту с листа, то Чайковский так заинтересовался этим, что вместе с Танеевым и Направником просил пропеть фугу Петрова Алексея (VIII класс). Фуга эта была одна из случайно выбранных из тетради А. Петрова. Чайковский, просматривая ее, спросил Петрова с обычною своею нервозностью: «Покажите мне работы, просмотренные преподавателем; тут нет никаких отметок». – «Отметок нет, – ответил Петров, – потому что ошибок нет, а балл С. И. Танеева есть в самом конце». Там действительно была отметка: «Пять с плюсом. С. Т.» Ребята (по два альта и дисканта и по два спавших с голоса – quasi tenori е bassi) тут же были вызваны из оркестра и, к немалому изумлению всех, сразу и без малейших ошибок пропели всю фугу, чем заслужили самые восторженные рукоплескания гостей. Я был удовлетворен вполне тем, что изумленный Петр Ильич заявил мне: «Однако, как же вы их мастерски школите! В консерватории ничего подобного не услышишь!» Чайковский взял с собою тетрадь Петрова и, просмотрев ее, вернул через несколько дней с приветствием как автору, так в отдельном письме и мне с Орловым»20.
Во всем училище был только один экземпляр «школы» Берио, и он составлял собою всю библиотеку скрипичного класса; по фортепиано вся библиотека состояла в двух «школах» и в одном экземпляре «сонатин» Клементи и затем нескольких «собственных нот», более цыганской литературы. Библиотеки фундаментальная и ученическая заключались в шкапике аршина два с половиною–три вышины и аршина четыре длины, причем большая часть этого помещения была из благочестивых журналов, названия которых один остряк перевирал в «Бесполезное чтение» (то есть «душеполезное»), «Странника» (от «странный») и т. п. Детских книг было штук 30–40. Роялей было четыре, из которых два допотопных какого-то Зандберга, один роялино Шредера никуда не годный, а новый рояль Беккера отпирался только для регента во время спевок, мальчики же к нему не подпускались. Скрипок, с «собственными», было штук семь-восемь. Чтобы понять, как учили игре на скрипке в Синодальном училище, достаточно сказать, что немец Поль учил их разом по пять-шесть-семь человек, кучей, и что плата за обучение полагалась учителю по расчету на каждого ученика по десять минут в неделю (два раза по пять минут)... Другой учитель-пьяница был мишенью насмешек учеников, так как учитель имел неосторожность несколько раз сказать, что он страдал зубами, выдергивал их; ученики, считая пропущенные уроки, уверяли пьяного учителя, что он успел выдернуть шестьдесят зубов, после которых успели вырасти новые. <...>
Мое управление Синодальным училищем началось с того, что я проверил знания всех учеников сам, как беседуя с ними, так и испытывая их то в том, то в другом предмете. Труд, почти месячный, был поверяем с отзывами преподавателей и воспитателей о каждом мальчике отдельно же. Затем мы собрались в заседание Совета, продолжавшееся три или четыре вечера, и самым подробным и беспристрастным, но коренным образом решили вычистить Синодальное училище от всех, но самых нетерпимых только плевел, безнадежных по лени, по отсталости и прямо вредных по поведению. Я помню, как, прочитав постановление Совета, я услышал шепотом сказанное мне на ухо: «Ныне отпущаеши» – «Вполне заря нового дня» – «Теперь можно будет работать». Нетрудно догадаться, что такие слова можно было услышать лишь из уст человека, исстрадавшегося от плачевного состояния училища, желавшего работать и действительно обрадовавшегося началу энергичного подъема учения. Следующие затем недели были сущей мукой, постоянным шантажом учеников и их родителей, ни за что не хотевших расставаться с насиженным местом. Началась подача жалоб, чтобы приостановить удаление всяких великовозрастных лентяев, наконец, началось воровство... Кралось решительно все: карандаши, книги, фуражки, смычки, певческие ноты, вилки и прочее, чтобы выйти из училища с возможно большим, хотя бы и ненужным. Наконец-то пришлось расстаться со всеми молодцами, и наша жизнь пошла относительно потише.
Но ученье с первого же раза встретило со стороны учеников самый дружный отпор. Главари из старших прямо били учивших уроки, умышленно отвечали учителям всякий вздор, забрасывали книги, ломали смычки, рвали ноты, выдумывали нарывы пальцев, головную боль, непонимание толкуемого урока и т. п. Ученики прямо не умели учиться, не умели выгодно распределять свое время, очень страдали от незнания прежде пройденного и уже забытого, еще же более тормозили дело отъявленною ленью главарей и самою повальною нелюбознательностью. Так пришлось промучиться все первое полугодие 1889/90 учебного года.
Между прочим, получив от директора Добровольского кипку бумаг, пуда в полтора, я с изумлением узнал, что в этом только и заключается весь архив Синодального училища... Оказалось, что множество учеников было принято не только без прошения, но даже без документов, что не только не было дневных журналов дежурств воспитателей, но даже не велись совсем экзаменные ведомости, совсем не было классных журналов, так что вполне было неизвестно, почему, например, ученик сидел в четвертом классе, а не в третьем, как он был принят, и т. п. Нетрудно сообразить, сколько хлопот было с приведением этой части в порядок.
Но в этой же кипе бумаг я встретил очень любопытную книжечку, величиною в квадратный вершок, под заглавием «Правила для учеников Синодального училища» издания 70-х годов. Единственный экземпляр этой книжки, каким-то чудом уцелевший, я передал потом в библиотеку училища как документ, свидетельствующий об уровне развития учеников, о запрещениях ученикам делать то-то и то-то (вызванных, конечно, обычностью таких проступков) и о предложениях быть благонравными в определенном, указанном направлении. Но некоторые события мелкого содержания, с точки зрения учеников, совершенно удивили меня и заставили задуматься и дать значение этой маленькой книжке. События эти случились, конечно, в первые же дни моего директорства в Синодальном училище. Например, я заметил в столовой, как потихоньку от меня один ученик, пришедший в столовую с фуражкой, наклал в нее во время обеда ломти хлеба, кусок говядины (помню, что он даже посолил ее) и затем всю несъеденную им гречневую намасленную кашу. Я нарочно не сказал ни слова, желая поглядеть, что же будет дальше. Оказалось, что ученик, выйдя на двор, покрыл весь запас провизии бумагой, затем надел фуражку на голову и начал играть с товарищами. Другой ученик сделал такой же запас в расправленный носовой платок (а пара таких платков, то есть сдаваемый в белье и получаемый «чистый», была мною опечатана на память потомству) и положил в блузу за пазуху, из которой, благодаря поясу, этот запас не мог вывалиться. Кроме того, я заметил, что ученики решительно не умели прилично сидеть во время еды, не умели прилично держать ложку, вилку, ножик, обнаруживали самые неудержимые стремления нахватать себе побольше всего и прежде других и т. п. В столовой было шумно, в высшей степени нечисто и неряшливо... В те же дни, провожая учеников в Успенский собор, я услыхал на тротуаре по Никитской улице неожиданные для меня приветствия ученикам (ученики выходили парами на тротуар и, пройдя несколько шагов, останавливались, поджидая выхода всех) от извозчиков, мастеровых, уличных мальчишек в таком роде: «Аминь съели», «Аллилуйю проглотили» и т. п. Мальчики отвечали руганью... Однажды, в эти же дни, мальчик Сергеев, лет четырнадцати, прибежал ко мне минут пять спустя после отправления учеников ко всенощной весь в слезах и с вполне почерневшим виском и всего окружающего левый глаз. Оказалось, что он, идя в парах, имел неосторожность задеть ногою за пятку шедшего впереди ученика Соколова (ныне священник в Полтаве, о. Александр Николаевич Соколов), и Сашенька, оказавшийся впоследствии отличным и благодушнейшим мальчиком, «засветил ему раза» так ловко, что Сергеев упал с тротуара в грязь чуть не в обмороке... Удовольствие товарищей, оценивших сразу, как «сволочь-Сашка саданул» или «тенькнул по башке Сережку», было полное; мальчики как ни в чем не бывало дошли до собора, пропели всенощную и были очень удивлены, что «по таким пустякам Сережка наябедничал» и т. п. Несмотря на помощь врача, мальчик пролежал в больнице чуть не две недели... Но «ябеда» ему все-таки не прошла даром, хотя я всячески старался о том, вразумляя учеников и не наказывая их, с трудом заставив Соколова «помириться"(!). Бедному Сергееву устраивали не раз «салазки» и даже однажды «темненькую»... Последнее, в связи с последующей историей и дружно-уговоренным между мальчиками противлением в учебных занятиях, вывело наконец меня из терпения, и я начал уже жестокую войну с лентяями и празднолюбцами. История заключалась в следующем: уже было упомянуто, что у нас были никуда не годные надворные службы, соприкасавшиеся с соседним домом консерватории, бывшим графа Воронцова. Компания моих молодцов приметила какую-то щель в каменной стене, настолько большую, что рассудила, увидав там винный склад, расширить щель и поживиться винами графа Воронцова. Несмотря на всю осторожность, с которой велся этот подкоп, я узнал про этот замысел по постоянному отсутствию учеников, уже бывших у меня на дурном счету, и компания, конечно, из отъявленных лентяев, попалась вся сполна. <...>
Образовательные курсы, как уже сказано, нисколько не были урегулированы в 1889 году; тем более стояли открытыми вопросы о создании курсов регентских и чисто практических занятий по регентской части. Обычная шаблонная программа музыкально-теоретического образования не была развита далее перечисления предметов, но и тут оказались самые невозможные пропуски, свидетельствовавшие, что за разъяснение и подробное истолкование основной мысли Синодального училища принялись канцелярские умы в Петербурге, только воображавшие себя знатоками и глубоко понимавшими значение мысли и условия ее практического осуществления. Короче сказать, мысль К. П. Победоносцева, подхваченная угодливым Шишковым, распевалась канцеляриями на все лады, но определенного, точного выражения этой мысли совершенно не было, так как нельзя же было считать «Временное положение», по которому мы жили с 1886 по 1892 год, за что-либо хорошо обдуманное. Война из-за уставов 1892 и 1898 годов в сущности своей чрезвычайно характерна и оригинальна. Основная тенденция этих уставов заключалась в нежелании дать Синодальному училищу и хору хоть тень какой- либо свободы от дисциплинарных воздействий прокурора Московской Св. Синода конторы, точно Синод как будто бы доверял это специальное дело более своему чиновнику, чем людям, специально посвятившим себя певческому и педагогическому делу. Из этого недоразумения вытекают все страдания дела вплоть до настоящей минуты21.
Мои отношения с Шишковым, как и с Ш2, были в начале самыми наилучшими, но потом пришлось невольно, несмотря на всякие уступки, на всякое самоотречение, вступить на дорогу противодействия начальству именно в силу специальности самого дела и в силу непонимания начальством подробностей, частью же и по причине немалой доли начальнического самолюбия и властолюбия, не допускавшей бесцветности своего начальствования. И Шишков, и Ш2 никак не могли понять и сдержать себя на той вполне определенной позиции, что они были начальниками только надо мною, а не над моим делом. Постоянные и непосредственные вмешательства этих обоих «прокуроров Московской Св. Синода конторы» прямо в быт, прямо в деятельность хора и училища помимо их директора, всегда вносили только разлад либо досадные, глупые, иной же раз забавные недоразумения. Канцелярия, педагогика, музыка и хозяйство – вот были четыре области, в которых вращалась вся деятельность моя как директора. Я вполне понимал полную надобность моего подчинения в первой области, то есть в канцелярии, охотно допускал надобность помощи мне от прокурора в последней, то есть в хозяйстве (а не в хозяйничанье самого прокурора), но зато я самым безусловным образом не допускал прокуроров в педагогическую и музыкальную части деятельности в хоре и училище. Когда в последние годы, вследствие постоянных покушений на эти части Ш2, мы разошлись уже довольно возбужденно, открылась неожиданно область новой моей деятельности – научной и собирательской по части древнепевческих рукописей, их описания и каталогизации. Наскоки Ш2 на это дело, нисколько не подчиненное прокурору, нисколько не обязательное для меня по службе, но созданное моею любовью к науке и желанием дать ей действительно хорошую память о себе, привели меня к надобности, наконец, показать Ш2 его место в деле рукописей.
Но я отвлекся. Шла речь о создании совместно существующих программ по общеобразовательным и музыкальным предметам обучения в Синодальном училище. Дело это было трудно тем, что надобно было создать и удовлетворительный, целесообразный учебный план сам по себе, и суметь взять во внимание возможность постепенного его осуществления при запущенности учебного дела в Синодальном училище. Я рассчитал, что время, которое понадобится на волокиту дела по всяким синодским канцеляриям, даст мне возможность довести в три-четыре года Синодальное училище до того состояния, когда одобренные свыше программы будут возможны к исполнению как естественный, доступный порядок, представляющий не более как продолжение уже начатого и окрепшего дела.
К сожалению, я ошибся в расчетах. Петербургские канцелярии оказались не более как простыми мельницами, способными перемолоть только на тот номер размола» на который их поставят, а номер этот поставили для Москвы в Санкт-Петербурге всякие Миропольские, Соловьевы и прочие «знатоки древнего пения», инспирируемые московским прокурором, бывшим не более как специалистом по акцизно-соляной части и «сумасшедшим стариком», по словам К. П. Победоносцева22. Компания эта сочла ненадобным для себя, даже (как говорили мне) неуместным и неудобным для своего достоинства хотя сколько-нибудь вникнуть в суть нашего вполне своеобразного дела, осложненного обязанностью петь в Успенском соборе массу служб (до 360-ти в год), и вымолола такой неудачный во всех отношениях Устав 1892 года, который вскоре создал надобность его неисполнения на деле и замены новым уставом.
В таких тисках, между запущенностью училища, между огромною тратою времени и сил на пение в Успенском соборе и при «сумасшедшем старике», приходилось создавать училищные порядки, вырабатывать программы и двигать дело вперед во всех статьях. Считаю долгом прежде всего помянуть с чувством глубокой благодарности регента Синодального хора В. С. Орлова (ныне директора – моего преемника), относившегося, вне хора, к училищу с величайшею халатностью к делу, но при мне внезапно воспрянувшего духом и заработавшего вполне превосходно как по прилежанию к труду, так и по производительности этого труда. В наблюдениях моих за Василием Сергеевичем, как и во многих вполне откровенных и дружеских беседах, мне было нетрудно убедиться, как тяжело страдал этот редкий регент-художник от грубости Добровольского и от беспомощности своего положения в хоре, особенно же ввиду интриг покушавшегося занять его место его помощника Н. И. Соколова23. Этот опытный регент, несмотря на прошение всех больших певчих Синодального хора, все-таки должен был уступить В. С. Орлову, заручившемуся, вполне по заслугам, рекомендацией П. И. Чайковского. Содержательное письмо Петра Ильича мною даже было отпечатано в свое время и помещено в витрине, посвященной памяти Чайковского, украшенной его письменными и нотными автографами. В этом письме Петр Ильич горячо вступается за своего ученика, и эта рекомендация устроила надолго службу В. С. Орлова24.
Несомненно – это крупный, даже очень крупный регентский талант, хотя и имевший немало недостатков. Василий Сергеевич необыкновенно был чуток к звучности и равновесию хора, но был вообще очень малообразованный человек и очень малоначитанный музыкант. Превосходнейшие его дирижерские способности и его прилежание развились уже при мне. Ни разу я не позволил себе руководить им, помня пословицу, что «ученого учить – только портить», и уважая свободу всякого труда, но однажды в дружеской беседе я высказал ему угаданное мною его стремление расширить свое музыкальное образование. Степень свободного художника (по классу фагота) не удовлетворяла Василия Сергеевича как отличного регента-практика. Я предложил ему устроить его занятия с С. И. Танеевым по контрапункту строгого стиля, мотивируя это предложение для него как мое желание иметь именно его, Орлова, в качестве преподавателя контрапункта в Синодальном училище. Занятия эти, неожиданно прерванные в консерватории25, все-таки продолжились домашним путем и выработали в Орлове как отличного контрапунктиста, так и первоклассного регента, ибо за этим курсом я сейчас же начал с Синодальным хором пение Палестрины, Лассо и Жоскена де Пре, Моцарта, Баха и Бетховена, после чего образованному уже в музыкальном смысле Синодальному хору, сущему артисту, лучшему из всех хоров, когда-либо мною слышанных, стали нипочем для исполнения наши духовно-музыкальные произведения. Орлов работал все двенадцать лет вполне горячо, искренно, вполне мастерски, и неудивительно поэтому, если при своем даровании и знаниях выработался сам в превосходного регента. Помощь мне такого художника сняла с меня половину труда, и я занялся потому преимущественно училищем, помогая Орлову всячески и дав ему не только полную, но полнейшую свободу и оставив себе только высшее, так сказать, программное руководство занятиями Синодального хора. Последним номером этой программы было изучение дивной h moll’ной мессы Баха, последним же публичным признанием за Синодальным хором значения первоклассной художественной величины было торжество хора в Вене и затем высокая его репутация в Москве.
Понятно, что, имея такого превосходного помощника, как В. С. Орлов, помогая ему в свою очередь, оберегая его от глупых и грубых прокурорских начальнических наскоков, я постепенно вел хор по здоровой, твердой дороге и вскоре обеспечил себе ту показную и более понятную всем, красивую сторону моего дела, которая, кроме своей эффектности, только и могла производить впечатление именно своим серьезным, здоровым содержанием, не мишурой, а действительно виртуозным искусством. Эту именно сторону я и взял на себя вполне, подняв в Синодальном училище обучение в общеобразовательных и музыкальных курсах, уставив крепкую, но любовную дисциплину, полную труда и взаимного товарищеского уважения, полную строгости жизни, строгого порядка и оттого при них самой полной свободы и самого полного взаимного облегчения в труде. <...>
Программа обучения будущих регентов в общих чертах состояла в том, чтобы дать молодым людям наилучшее общее образование и при нем такой запас музыкальных познаний, с которым бы молодой человек, кончивший курс Синодального училища, мог легко сделаться отличным регентом-практиком и учителем пения в школе. Мои два положения, которыми я отрицательно доказал для самого себя единственную возможность именно этой дороги, состояли в следующем.
1) Всякая школа готовит человека к жизни, не имея возможности, да и надобности, вырабатывать в нем преждевременного дельца, но имея обязанность сообщить ученику все учительное, все помогающее, чтобы после школы вышел из нее человек со светлой головой, могущий сам рассудить, куда бы ему направить свои частные способности и свои отдельные склонности. Поэтому ни одна школа не выпускает готовых врачей, готовых мировых судей, инженеров, техников и т. п. Поэтому между врачами, как получившими общее образование в медицине, вырабатываются окулисты, хирурги, терапевты, специалисты по нервам, ушным, горловым и другим болезням. То же с присяжными поверенными, судебными следователями, прокурорами, судьями. То же и с регентами, учителями пения, преподавателями теории пения, истории пения и прочими. Получение предварительного возможно широкого образования только и может создать мастера своего дела, так как сила высокого мастерства именно и состоит не в его ремесленности, а в широком взгляде на дело. Понятно, что это образование должно быть приноровлено к будущей специальности, но нет расчета отнимать время на слишком усиленные практические занятия в те годы, когда ум человека всего более склонен к усвоению знаний, и нет надобности упускать эти знания из виду, так как позднее приобретение их в нешкольные годы почти недостижимо или по крайней мере вполне неудобно и вредно, да и время уже упущено. По этому рассуждению в Синодальном училище было отведено самое последнее место так называемым «практическим занятиям» и сведению разных общемузыкальных предметов на степень лишь служебного их значения.
2) Опыт учит, что даже сущие неучи-регенты иногда ведут дело так прилично, что их хоры можно слушать. Эти неучи-практики сами загородили себе художественную дорогу своим незнанием и навсегда остаются ремесленниками, кроме случаев самого сильного дарования. Другой вывод из опыта тот, что для возможности прилично вести регентское дело, собственно говоря, даже и нет надобности в больших музыкальных познаниях. Но этот вывод годен именно только для регентов-ремесленников, которых искусство основано лишь на подражании и на смутном музыкальном чутье. Для регента-художника, для учителя пения, а еще более того – для русского регента, а не для пережевывающего лишь Бортнянского, надобно именно наилучшее музыкальное образование и возможно высшее общее развитие. Мои многолетние наблюдения и собственный регентский опыт (а я регентовал около 25 лет, с гимназической скамейки) привели меня к самому положительному убеждению, что регентская опытность имеет такие стороны, которые могут быть усвоены только годами и путем огромнейшего множества всяких, самых разнообразных случаев в практических занятиях, также многолетних, имеющих доступ в сознание учителя только в совершенно зрелые, а не ученические годы.
Самая трудная часть опытности регентской – богослужебная, то есть точнейшее знание и затем умение быстро ориентироваться в любом случае применения этих знаний, например, при гласовом пении, при священнослужителях без музыкального слуха или при незнании ими устава (что более чем часто), при ошибках хора, при наиболее сложных службах, например, Страстной и Пасхальной недель, отпевании священников, праздничных службах по Триоди и Минее и т. п. Огромнейшая масса текстов (например, самая элементарная схема только воскресных всенощных требует от регента знания на каждый из восьми гласов по восемь стихир на «Господи, воззвах», по две стихиры на стиховне, тропарь на «Бог Господь», прокимен на утрени, по восемь ирмосов и по две хвалитные стихиры, то есть 22 х 8 = 176 текстов; затем, трудно представить регента, который бы не знал по крайней мере еще двойное количество текстов, употребляемых при богослужении), огромнейшая масса разнотональных напевов, часто переменяемых, – все это такой материал, которым всякий регент должен владеть вполне твердо и безукоризненно.
Вторая часть регентской опытности – знание певческой литературы, как сколько-нибудь серьезной, так отчасти и той, мною вполне отрицаемой, в которой заключена столь симпатичная русскому слуху отличная хоровая звучность при полнейшей музыкальной бессодержательности, все-таки за эту звучность очень любимой богомольцами и церковными старостами, более же того начальниками духовно-учебных заведений.
Третья часть регентской опытности относится к борьбе нового направления с двумя старыми: к борьбе со всякими Дегтяревыми, Веделями, Викторами и, как ни странно сказать, к борьбе с ревнителями за «Знаменский» (вместо знаменного) роспев. В этой области приходилось воевать со «знатоками», одинаково не понимающими ни пустоцвета первых, ни пустословия вторых, – этого довольно для этой статьи.
Наконец, четвертая часть регентской опытности касалась столь простой, но не культивировавшейся области постановки голоса и курсов самых элементарных сольфеджио, надобных для учителя пения, особенно же церковного и притом русского. Для этого – кроме выработанных в Синодальном училище курсов В. С. Тютюнника и А. Д. Кастальского, доведшего свой курс до степени образования русских певцов (то есть с помощью составленных сольфеджий из древнерусских церковных напевов, из русских народных песен и из образцов Глинки, Мусоргского, Бородина, Балакирева, Римского-Корсакова и др.), в курсе училища была выработана особая подробная и методически последовательная учительская программа изучения древнего церковного пения, с помощью знания которой являлась возможность умного отношения к программам курсов пения в духовно-учебных заведениях. Я отношу это, по соглашению с моими товарищами, к расширению моими учениками здравомысленных параграфов тех программ и к вполне умному игнорированию многих частей тех же программ, нелепость которых очевидна всякому учителю.
С другой стороны, ничто не учит так молодых регентов находчивости и разносторонности, владению собой перед хором, как стыд и горький опыт, скоро приносящий стократную пользу ученической неопытности. Охотно признаю, что ученики первых выпусков Синодального училища обнаруживали, относительно, значительную малосостоятельность в качестве регентов, так как ни средства училища, ни отсутствие практики не могли выработать в них именно «регента» немедленно при окончании курса. Но я совершенно убежденно утверждаю, как а priori, так и по знанию мною хода первых шагов моих учеников, что стыд и горький опыт проходился ими несравненно легче, скорей и плодотворнее, чем я смел предполагать.
Уже теоретические мои додумки и откровеннейшая со мною переписка и личные сношения с учениками первого и второго выпусков утвердили меня в верности моего взгляда на дело и в практической выгоде для учеников и для самой жизни училища именно усиления теоретических и общеобразовательных курсов. Я представлял себе моих учеников по окончании курса именно как учителей русского пения, как бойцов с заполонившею наши клиросы дребеденью вроде сочинений Виктора, Феофана, Багрецова на севере и Веделя и Дегтярева на юге Русской земли, – как будущих бедняков, имеющих (при бесправии-то самого училища!) всего лишь 280 рублей годового оклада (да еще без квартиры) в должности учителя пения в духовном училище. Для этой именно указанной уставом учительской с детьми деятельности надобен был именно учитель пения, а не опытный, набивший руку регент. С другой стороны, я предполагал, что мой ученик, заехавший в какую-нибудь Елабугу или в еще более глухой городок, спасет себя от голода уроками на скрипке, фортепиано, виолончели, создаст себе этим положение надобного человека, вполне выдающегося там своим искусством. Эти предположения вполне оправдались. Мои ученики, очень много испытавшие в первый год в области регентской практики, скоро стали умными регентами, но вместе и желанными людьми. Так как начальство до времени не путалось в порядки Синодального училища, не умничало, то и дело вскоре начало устраиваться дружно, весело и энергично, по определенному плану, но все же считаясь с живыми людьми, с тормозившим дело наследием от бывшей неурядицы. По всем этим соображениям, в связи с требованиями устава, в связи с деятельностью хора в Успенском соборе, в связи с ходом улучшения внутренней жизни училища, был выработан учебный план образовательных и музыкальных курсов Синодального училища. Этот план, так сказать, общий, принципиальный, был кроме того разработан и для каждого из классов на предстоящие три-четыре года, в которые было надобно наквитать и наверстать опущенное в прошлом. Самые младшие классы, то есть приготовительный, первый и второй, начали свои курсы по этому плану с 1890/91 учебного года, классы третий, четвертый, пятый и вновь затем открытый (1890/91 учебный год) шестой класс проходили свои программы в несколько форсированной форме, слабой в третьем и очень усиленной в шестом классах.
Чтобы судить, в какой степени прокурор А. Н. Шишков совершенно не понимал ни задач училища, ни своих отношений к нему, достаточно упомянуть о столь прославивших нас «всенощных». Эти всенощные в зале училища я завел в первые же месяцы моего директорства именно для практических занятий старших учеников в управлении ученическим хором. Всенощные эти предполагались вполне домашними, без доступа на них кого-либо из посторонних лиц, так как предполагалось избежать простуды мальчиков, отправлявшихся в церковь сейчас же после вечернего чая, и такой же простуды от духоты в маленькой, душной и тесной церкви Малого Вознесения, тогда еще не перестроенной. Я застал в ней пение вполне оригинального хора за всенощными: пело зараз 60 голосистых мальчиков Синодального хора с одним басом и одним тенором из больших певцов, посылавшихся по очереди. Так как среди больших певчих, ученье которых уже было мною начато, было уже несколько намеченных мною в качестве будущих регентов для отделений Синодального хора, то я устроил ученический хор из них и из спавших с голоса старших учеников, прибавив к ним по несколько более опытных дискантов и альтов. Для этого хора были устроены особые «дирижерские спевки» (то есть все участники этого хора приучались во время этих спевок к управлению хором, перенимая движения В. С. Орлова и слушая его объяснения тех или иных движений, планов задания тона, переходов из одного гласа в другой и т. п.), а самые службы были распределены между участниками хора, причем, конечно, львиная часть доставалась будущему первому выпуску Синодального училища.
Но случилось нечто неожиданное. Шишков нашел надобным сделать из наших всенощных нечто не только не отвечающее нашим нуждам, но прямо что-то вредное для нас, частию же даже и неприличное. Он начал приглашать на эти всенощные всяких графинь и княгинь, всякое генеральское старье, для которого, конечно, пение ученического хора было недопустимо по своей слабости, почему и было заменено пением Синодального хора. Таким образом были лишены ученики надобной им регентской практики, а на хор Синодальный (несмотря на то, что часть его в эту же ночь пела заутреню) было взвалено по крайней мере 40–45 лишних служб, что, конечно, было очень обременительно. Вскоре за тем наши почетные посетители были рассортированы на стоящих в зале и приглашенных на ковры, где для них ставились кресла; затем наша публика нашла, что почти час с четвертью для всенощной очень долго, а в шесть часов начало всенощной мешает их обедам – мы стали начинать наши всенощные в восемь часов вечера и сокращать их наподобие придворных; наконец, публика постепенно начала скучать за всенощными напевами, спрашивая, «что будет пропето новенькое», – мы стали писать программы всенощных, петь всякий вздор, так что на третий год, в новом уже зале Синодального училища, наши всенощные обратились в какие-то рауты высшего общества Москвы. Всякая старость и дряхлость прямо сидела в креслах всю всенощную от начала до конца, синодальные певчие старались сделать всенощные музыкально интересными, молодые люди дошли до того, что под предлогом длинной службы и т. п. прямо прохаживались парами по всем классам и коридорам училища, шушукая, составляя без умолку хохотавшие кружки, создавшие даже надобность устраивать каждый раз особую курительную комнату. Публика наша стала собираться значительно заблаговременно (конечно, молодежь), а расходиться значительно позже окончания всенощных. Я воспользовался однажды приездом К. П. Победоносцева, рассказал ему подробности наших всенощных и пригласил его взглянуть самому, что делается под предлогом молений нашими малоделикатными гостями. Конечно, всенощные были прекращены немедленно. Это было уже при Ш2. Возобновление всенощных по моему плану, то есть с целью регентской практики для наших учеников, пришлось уже на долю второго курса 1894 года. Три года были пропущены. Это желание угождать всем чужим богам, не рассуждая о нуждах хора и училища, проходило через все действия Шишкова. Но даже и это было бы терпимо, если бы к такому режиму не примешивалось иногда грубое самодурство, глупейшее генеральство и еще более глупейшее ханжество... Понятно, что о совете и о содействии к устройству научных и музыкальных программ со стороны такого начальника не могло быть и речи. Приходилось лавировать, делая свое дело, и глядеть в оба глаза, чтобы не вооружить «сумасшедшего старика».
По первоначальному плану Синодальное училище разделялось на два отделения, певческое и регентское, с четырьмя классами в каждом. Младшее отделение, усиленное при мне еще подготовительным классом, состояло из шестидесяти казеннокоштных вакансий, на регентское же отделение полагалось всего пятнадцать, то есть почти по четыре человека в каждом классе. Кроме казеннокоштных учеников допускались еще пансионеры с платою по 135 рублей (то есть за цену содержания каждого казеннокоштного ученика). В младших классах полагалось общее начальное обучение с усиленным курсом церковного пения и с началом обучения сольфеджио и игра на скрипке и фортепиано разом в третьем классе. В четвертых классах регентского отделения науки доводились до курса учительских семинарий, а музыка была указана огулом: основания гармонии, контрапункта, история церковного пения и игра на инструментах. В пределах этих вех постепенно были организованы курсы обоих отделений со значительно расширенными программами. Основная мысль певческого отделения была развита в смысле не только подготовительного курса к отделению регентскому, но и ввиду надобности образовать отличного малолетнего певца для Синодального хора. Поэтому в курсы певческого отделения, кроме общеобразовательных предметов по программе трехклассных городских училищ (приблизительно), заведены в приготовительном классе: постановка голосов и курс элементарнейших сольфеджио, главнейшие песнопения литургии и всенощной, равно и начальный курс фортепиано. Кроме постановки голосов (класс даровитейшего Василия Саввича Тютюнника) все эти курсы проводились под руководством старших учеников. В первом и втором классах: курсы церковного пения, сольфеджио и (второй класс) элементарной теории под руководством преподавателей и курс фортепиано и (со второго полугодия второго класса) скрипки под руководством старших учеников. В третьем классе: первый курс древних знаменных напевов, гармонические сочетания из употребительнейших в обычном простом хоровом пении (так называемая «элементарная гармония за фортепиано»), курс двухголосных контрапунктических и канонических сольфеджио и курсы скрипки и фортепиано под руководством преподавателей. В четвертом классе: продолжение курса древних роспевов – греческого, болгарского, киевского, главнейших оснований контрапункта в легчайших общеизвестных примерах из духовно-музыкальных произведений и кратчайшая энциклопедия на таких же примерах и из фортепианных простейших сочинений; дальнейший круг сольфеджио с примерами более трудного контрапунктического склада и курсы скрипки и фортепиано. В пятом классе, то есть в первом регентском классе: повторение всей элементарной теории и первый курс гармонии; курс мелодических и контрапунктических сольфеджио из русских песен и из сочинений Глинки, Бородина, Балакирева, Римского- Корсакова, Чайковского и других. Начало практических занятий но церковному пению с учениками приготовительного класса. В шестом классе: вторая гармония, продолжение курса сольфеджио пятого класса и практические занятия с учениками приготовительного и первого классов по фортепиано; репетиторство сольфеджио с учениками первого класса. В седьмом классе: подробно курс строгого контрапункта, история церковного пения и, в частности, изучение знаменной нотации; практические упражнения в чтении партитуры и управлении хором; практические занятия в преподавании фортепиано и скрипки с учениками первых и вторых классов; участие в классе постановки голосов и курс методики пения. В восьмом классе: энциклопедия, продолжение курсов истории церковного пения, знаменной нотации и все остальные практические курсы седьмого класса с прибавлением дидактики.
К этим курсам регентского отделения прибавлялись продолжения курса фортепиано, курса скрипки (или, для желающих, виолончели), участие в ученическом оркестре и, при пении классиков, участие в спевках Синодального хора. О пределах научных курсов в регентском отделении было уже сказано, что они приближались к курсам в учительских семинариях. Такое сочетание художественных, научных и практических занятий выработалось в течение ряда учебных годов, причем в курсах отдельных классов, главным образом старших, так сказать, сгущались подробности этих программ, большая настойчивость в точном их прохождении и в основательности их усвоения. Значительная мало- подготовленность старших учеников, их неуменье распоряжаться экономно своим временем, даже неуменье учиться, в связи с разными остатками дореформенного быта, конечно, не допускали, по крайней мере в течение пяти лет, такого состояния учебного дела в Синодальном училище, при котором бы успешное обучение было делом простым, спокойным и вполне последовательным. Дело шло медленно, неторопливо, но основательно, так как переродить атмосферу училища, связанного с хором, вычистить старую грязь и заставить как учеников, так и наверху стоящих, было очень трудно и было надобно немало всякого рода уступок, чтобы обратить, наконец, все и вся на обдуманную и понятную, удобную и целесообразную работу.
В этой работе с начала и до самого конца был моим неоценимым помощником В. С. Орлов и затем целая группа учеников, желавших учиться и воспользоваться освобождением их от тяжелого гнета всяких «солистов». Вскоре к этому движению присоединились воспитатели, потом один за другим – преподаватели, и дело вступило на новую дорогу. Лишь прокурор Шишков, несмотря на свои седины, да «солисты» остались в числе самых упорных противников нового порядка и блюстителями своих действительных и мнимых прерогатив. Насколько было труднее осилить последних – решить не умею. Но первого, ни за что не отвечавшего, во все путавшегося, во всем мешавшего только потому, что он начальник и что он должен же чем-либо проявлять свое начальствование, – осилить было не только трудно, но в некоторых случаях прямо и невозможно. За него стояла служебная власть, полномочия, моя обязанность беспрекословного повиновения; в частности, кроме служебной подчиненности я чрезвычайно затруднялся в случаях надобности вразумления моего «сумасшедшего старика» тем, что всякая грубость, всякий окрик, всякое начальническое озорство приводит меня прежде всего в состояние растерянности, безнадежной временной ненаходчивости даже и теперь.
В 1889/90 и 1891 годах я еще был сам неопытным начальником, неуверенным распорядителем и не обладал смелостью и находчивостью в решениях при отдельных случаях училищной жизни. Мое положение в Москве как человека ей совершенно чужого, как человека не приглядевшегося в свою очередь к той же Москве было иногда вполне беспомощно, а при натиске прокурора, при запущенности во всем всего дела, – иногда тяжело в высшей степени. Только твердое убеждение в верности выбранной и вполне обдуманной дороги, благословение из Казани от Н. И. Ильминского, благословение моего нового, к этому времени уже испытанного друга в Татеве – С. А. Рачинского и через него простые внеслужебные сношения прямо с К. П. Победоносцевым утвердили меня в решимости энергично взяться за работу. Я так и сделал немедленно после того, как огляделся кругом. Это было осенью 1889 года.
Изложение этой упорной борьбы разделяю в двух характеристиках: «Прокурор А. Н. Шишков» и «Прокурор князь А. А. Ширинский- Шихматов». Синодальному хору как художественному учреждению посвящается отдельный очерк, в котором, кроме музыкальных подробностей, кроме своеобразных частностей его быта и особенностей службы, попытаюсь объяснить план обучения и перевоспитания Синодального хора из хора обыкновенного, церковного в хор артистически образованный, выработавший в себе отличную технику, дисциплину и вполне новый образ жизни, приведший Синодальный хор, благодаря труду его превосходного регента В. С. Орлова, к самому полному процветанию и к самой завидной, блестящей репутации. Вероятно, я буду писать этот параграф моих воспоминаний с особым удовольствием, так как я переживал вместе с этим удивительным Синодальным хором самые упоительные наслаждения, испытывал случаи самого глубокого удовлетворения. Синодальный хор – был моя радость, моя гордость. Отдавая сполна всю заслугу В. С. Орлову в доведении этого хора до высокого совершенства, принимаю на себя только то, что я способствовал свободе труда Орлова, оберегал певчих и подбадривал дело лишь в случаях, когда то было неизбежно надобно. От этой моей заслуги по отношению к хору я, по сущей совести, не отрекаюсь и радуюсь, что сумел ее сделать в надобной мере, особенно же в первые годы моей деятельности в Москве.
Прокурор А. Н. Шишков
Первые впечатления, которые произвел на меня Андрей Николаевич Шишков еще в самом конце 1885 года, когда я познакомился с ним во время моего приезда в Петербург, были самые очаровательные. Старец, из хорошей семьи, довольно благовоспитанный, очень хотел, чтобы я принял его предложение быть директором только что преобразованных Синодального хора и училища. Понятно, что он был со мною крайне любезен. Дело, однако не устроилось, так как устав Синодального хора мне совсем пришелся не по душе – положение директора отягчалось, кроме заведования художественной, учебной, хозяйственной частями в хоре и в училище, еще зачем-то управлением недвижимыми имуществами Св. Синода в Москве и ее окрестностях. Я посоветовался о предложении Шишкова с Н. И. Ильминским и отказался. Мотивами моего отказа я выставил то, что, занимаясь музыкой и учебным делом, я решительно не в состоянии быть заведующим арендаторами и смотрителем зданий, а также и то, что положение директора, как то было видно из устава, представляется чрезвычайно бессильным, хотя и вполне ответственным, в сравнении со всесильным по отношению к директору, хору и училищу прокурором, не несущим никакой ответственности. Так дело и не сладилось, и единственный толк из бывших переговоров был тот, что через три года, когда мне предложили место директора во второй раз, уже не было речи о надобности директору Синодального хора управлять какими-то мельницами, лугами, лавками и т. п.
Я уже упоминал, как неожиданно случилось второе предложение мне места директора в января 1889 года и как затянулось мое определение до июля этого года26. Прописано выше и о состоянии училища во время моего приезда. Когда я, после наблюдения в течение двух-трех недель, успел достаточно вникнуть в окружающее, сила вещей заставила меня повести разговор с прокурором о том, где начинаются его полномочия как высшей инстанции после власти директора. Я заметил прежде всего сопение старца, выражавшее (как потом уверился) высокую степень его неудовольствия, и затем услыхал, что он как начальник имеет право входить во все, распоряжаться всем, руководить всем, оставляя директору только исполнение его, прокурора, приказаний. Я возразил, что при таком неразмежевании областей ведения мне представляется вполне понятным его, прокурора, название: «управляющий Синодальным хором и училищем церковного пения», тем более, что при управляющем состоит и юридически установленное «управление» теми же учреждениями из нескольких лиц (управляющий, директор, регент, смотритель за недвижимыми имуществами и делопроизводитель); но мне представляется в то же время совершенно непонятным, как должно толковать слово «директор», если он, «как несущий ответственность за благоустройство и благопреуспеяние Синодального хора и училища во всех частях» (§ устава), по словам прокурора, есть только исполнитель его приказаний, а не главный начальник, «прямой» (directeur) начальник всего? «Как согласить, – спрашивал я Шишкова, – ответственность директора при его положении только исполнителя ваших приказаний и вашу неответственность ни в чем при праве распоряжаться всем?» Шишков ответил мне, что он, конечно, понимает надобность директора «в известной мере», но затрудняется объяснить мне межу между его и моею служебною компетенцией. «Не беспокойтесь, пожалуйста, – говорил он, – мы всегда сумеем столковаться».
На деле, однако, оказалось другое.
Впрочем, сначала о Шишкове как о человеке. Это был (1889) старец почти под 70 лет, вполне здоровый, трезвый, добрый относительно своих любимцев и очень недобрый по отношению к людям почему-либо ему не понравившимся; необыкновенно вспыльчивый и вполне нелепый в эти минуты, начавший сильно стареть и оттого лениться и обезволивать. Шишков, которого К. П. Победоносцев прозвал «сумасшедший старик», был богомолен, но вполне своеобразно. Он говел каждый пост, почти ежедневно ходил к обедне то в ту, то в другую церковь. Во время присутствия при богослужении он решительно не мог простоять на месте хотя бы четверть часа, а всегда гулял по церкви, разговаривая с любым встречным в ней, даже с незнакомыми. Мысль его как-то не могла сосредоточиваться долго на одном предмете.
Например, вот почти картинка с натуры в продолжение десяти или двадцати минут. Шишков стоит в церкви и, охая, приговаривает, вспоминая сегодняшнего святого:
«О-хо-хо! О-хо-хо! Святителю отче... моли Бога о нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! (Соседу Вот этот священник – такой-сякой, то и се, так и так. (Подпевая Господи, по-ми-луй... (Приговаривая про себя вслед за дьяконом Христианския кончины живота нашего, безболезненной, непостыд... (К соседу У священника в прошлом году было в семье то-то, а он ведь сам-то пьяница, картежник и сутяга, табак курит... О-хо-хо, о-хо-хо... Подай, Господи. Тебе, Господи. (Соседу Где вы теперь служите? (Или Не знаете ли, кто эта барышня (или барыня), какие миленькие у нее дети!» И Шишков сейчас отходил от соседа, шел к детям, ласкал их, говорил даме комплименты, спрашивал, давно ли она замужем, как ее фамилия и прочее. Сейчас же, оставив даму, Шишков шел в алтарь принять благословение от того самого священника, которого только что описал незнакомому соседу как весьма непочтенного; потом смотрел различные иконы или делал выговор псаломщику за невнятное чтение «О-хо-хо, о-хо-хо, а вы слышали, батюшка... впрочем, нет... Где у вас в храме икона Тихона Задонского?» и тому подобное.
Совершенно другой был Шишков в надобных случаях, когда он чувствовал себя «тайным» [советником] или вообще в положении крупной административной единицы, особенно же если Шишков в кругу присутствующих оказывался старшим. При своей живости и подвижности, вспыльчивости и даже бестактности Шишков был способен и к действиям явно несправедливым, пристрастным, мстительным, даже и к фальшивым, если к тому представлялась надобность для достижения каких-либо целей. Эксплуатация им своего генеральства и своего служебного положения, способность к внезапным переменам фронта, к забвению только что бывшего своего слова и к толкованию его в ином уже смысле совсем уже не гармонировали с седою старостью. Старец бывал в этих случаях невыносимо груб, дерзок, криклив и затем весьма злопамятен и мстителен, а при своей болтливости и подвижности – очень зловреден, вполне оправдывая кличку Победоносцева «сумасшедший старик». Его нисколько не останавливала невозможность вступаться и впутываться в чужие дела, в отношения людей, нисколько его не касающиеся; он начинал задирать людей совершенно посторонних, сначала удивлявшихся его непрошеному вмешательству, потом же возмущавшихся его грубым и назойливым генеральством. Понятно, что в таких случаях Шишкову постоянно случалось сталкиваться с умными, независимыми и благородными людьми, дававшими ему жесткие отпоры.
Тогда Шишков не задумывался уже перед действиями, не приносившими ничего, кроме обнаружения его же самодурства, его же неразборчивости в средствах, ставившими его в положение и жалкое и прямо глупое, подлое. <...>
Не менее характерна и стычка Шишкова с Чайковским, совпавшая с кандидатурою в директоры Синодального училища Семена Николаевича Кругликова. Это случилось незадолго до переговоров со мною.
Незабвенный Петр Ильич живо интересовался Синодальным хором, куда по его рекомендации поступил регентом В. С. Орлов27, часто ходил в Успенский собор (он становился всегда у правой задней колонны, с правой ее стороны), писал в это время свою Всенощную, несмотря на знаменитый бахметевский скандал с его Обеднею28. Но тот же Чайковский, по суждению Шишкова, потряс основы русского благочестия и поколебал остатки векового почтения к духовенству созданием комической роли дьячка в своей опере «Кузнец Вакула» («Черевички» тож). Шишков, как говорят, позволил себе сделать грубое замечание в этом смысле Чайковскому, требуя исключения номеров из оперы, где фигурирует этот дьячок... Знаменитый фельетон об унижении духовенства Чайковским принадлежит профессору Петербургской консерватории Николаю Феопемптовичу Соловьеву. «Я верующий», – сказал он на упрек Римского-Корсакова. Мне говорили, что будто бы существует по этому поводу письмо Шишкова к Чайковскому29. Нетрудно представить, как отвернулась «мимоза» от Синодального хора, на который так любовался Чайковский еще во времена его первоначальной выучки. Но судьбе было угодно, чтобы этот случай совпал со временем переговоров о кандидатуре Кругликова на место директора Синодального училища30. Кругликов в простоте душевной зашел к Шишкову в один из жарких летних дней одетым в летнее платье. Такое «вольнодумство» якобы «просителя» у него, «тайного советника», возмутило Шишкова, и когда вольнодумец высказал свое полное недоумение об опасениях Шишкова по поводу соблазна, производимого «Черевичками», – провалило кандидатуру Кругликова совершенно. Об этом «репортере» Шишков избегал даже говорить, но рассказал мне однажды, что он едва-едва не сделал ошибки, думая о кандидатуре Кругликова, который «и одеться-то не умел порядочно», «мог бы понять, к кому пришел», и т. п. <...>
Когда я занял место директора Синодального хора, мне пришлось очутиться сразу и в новом положении, и в новом для меня таком своеобразном городе, как Москва, и в новом для меня ряде размышлений о надобности прямо создать новое дело в Москве, которое бы имело внутреннюю и внешнюю стороны. Разумею под этими сторонами училище, выучку хора и деятельность самого хора публичную, как и деятельность моих будущих учеников и соединенные с училищем и хором научные задачи. Понятно, что в связи с распущенным в 1889 году состоянием хора и училища мое внимание часто перемещалось, по новости для меня других сторон дела, то в ту, то в другую сторону. Подробности схватывались мною, как оказалось после, далеко не сразу, а основные положения уставлялись на деле еще того медленнее. Кроме суммы идей, выработавшихся в мое «исповедание», приходилось иметь дело и с людьми, бывшими около меня, и с темной поповской средой, и с еще более инертной толпой московских благочестивых ревнителей Успенского собора. Кроме неясности для меня самого некоторых частей в своем отношении к древнепевческому искусству, которое я знал лишь книжно и отчасти в старообрядческой практике, хотя и твердо, которое я собрался непременно культивировать в Успенском соборе, я с превеликими предосторожностями взялся за обращение в свою веру людей не желавших учиться, глядевших на все с точки зрения рубля и затем весьма тупо, весьма упрямо отстаивавших свою сторону, не восходившую далее начала XIX века. «Новую старину» надобно было вводить потихоньку, осторожно, с такою постепенностью, чтобы ни певцы, ни попы, ни толпа не заметили своего перехода к другому пению. Конечно, «новая старина» при этом должна была завоевать сначала певчих, и это первое завоевание было самым трудным, особенно же в среде малышей.
Москва – вполне своеобразное явление. Пушкин в немногих словах гениально очертил без всяких определений то, что чувствуется каждым русским сердцем при одном звуке этого слова – «Москва». До сих пор никто, даже Гоголь в своих противоположениях Москвы с Петербургом, не выразил меру обаяния этого города, в котором так много выразительной старины во всем – от святынь Кремля, старых церквей, старого замоскворецкого купца, или из Таганки, или из Рогожской, до полового в белой рубашке с голубеньким пояском, до крестного хода, до свадебной кареты, до купчих, сидящих в санях на катанье по Тверской или по Девичьему полю на морозе с вывернутыми полами их меховых шуб... Необыкновенная свобода башенной архитектуры, столь близкой к виденной мною в Праге, необыкновенная способность взять все из всех художественных вкусов и сохранить при том все надобное свое в той же якобы «винегретной безвкусице» – вот главная черта Москвы архитектурной, церковной, общественной, житейской, благотворительной, самодурной, невежественной, грязной, беспорядочной, высоко-религиозной и грубо-суеверной, колоссально-богатой и жалко-бедной, глубоко русской и безжалостно высасываемой всякой жидовой и иноземщиной. В Москве живут рядом и процветают, не идя за веком, нисколько не отступаясь от старины, самые удивительные архаизмы, совсем не думающие о высокой своеобразности своего житья, отставшего от нынешнего времени решительно во всем. Ничего похожего на некоторые московские типы, вроде двадцатипятирублевых «свадебных генералов» или «адвокатов у Иверской», московской еды, полиции, переулков, трактиров, нельзя найти решительно нигде, ни в каком захолустье, так как державной, многострадальной, властной и богатой жизни в Руси нигде не было кроме Москвы, так как ни один город, бурно и долго поживший, не вынес столько бед, столько передряг, столько ответственных перед страною моментов, как именно и только Москва.
К моей прежней любви, которую я имел к родной «Белокаменной», присоединилось новое, сознательное, еще более крепкое чувство почитания к сердцу земли русской. Я перечитал почти все, что только можно достать о Москве, и полюбил ее еще горячее, а обозрение города, изучение архитектурной Москвы, от Крутицких ворот и Симонова монастыря до Ваганькова кладбища и Кунцева, от Донского и Новодевичьего, от Воробьевых гор до Сокольников и Черкизова, воспитало во мне живую способность воображать минувшее, стоя на месте совершавшихся событий. Оттого меня бросало в дрожь каждый раз, когда я шел по Красной площади, рисуя себе сцены Ивана Грозного, Смуты и Петра I; оттого я едва ли не сто раз обошел кругом и побывал внутри храма Василия Блаженного, который я считаю за одно из выдающихся произведений русских, наиболее просветивших меня в области теорем нашего ритма, как сходством, суммою и произведением отдельных частей, так и общею моделью, планом всей композиции; оттого мне так милы чудеса архитектуры вроде западной кремлевской стены с ее Троицкою башнею; оттого я выработал в себе уменье читать по оконным карнизам, по капителям, по старине Успенского собора, по прелести техники старой рукописи и ее роспева, по своеобразной физиономии даже Охотного ряда, Балчуга, темного доныне Замоскворечья и седого Рогожского кладбища. Все эти «Божедомки», замененные нынешними Воспитательными домами, все бывшие «Богданы», замененные воспитанниками по деревням, указывали мне, при сравнении самых роскошных нынешних типографских изданий с очаровательными по технике и прилежанию писцов древними рукописями, на исключительную даровитость русского народа, на его талантливую творческую деятельность даже и в тех отраслях, где я вижу теперь прямую отсталость современного в сравнении с давно минувшим. Смешно сказать, отдавая дань должную пару, электричеству, что народ далекого прошлого был несравненно, невообразимо проще, умнее, прямолинейнее и здравомысленнее, а главное – честнее, религиознее и искреннее нынешнего, еще более того – гораздо энергичнее и гораздо предприимчивее. Оттого я так высоко ценю уцелевший у нас архаизм – кровно-русское старообрядчество, которое вероятно только и осталось у нас здоровым и истово-русским семенем будущей русской страны. Его твердое, глупо-упрямое для немца-чиновника и для вора полицейского миросозерцание, его русская жизнь и красота, непонятная к сожалению нашему попу, есть тот уцелевший остаток русского племени, который выдержит еще многое, в том числе и натиск конца XIX и начала XX веков, в котором временно ослабевает его нравственная дисциплина. Я вижу в старообрядчестве величайшее благо земли русской, сохранившее устои нашего мирского общежития несмотря на обобравшую и проворовавшуюся множество раз нашу администрацию, несмотря на множество измен родной земле всяких правительств со всякими Остерманами, Биронами и целой кучей всякой мерзости, от которой открещивалися Суворов, Пушкин, «просимся в немцы» Ермолов, страдали славянофилы. Выносливость русского народа мне представляется прямо изумительной, именно благодаря этой силе крови, веры, свободного веча- мира, богатству земли, родящей хлеб, и [богатству] ума, кроткого, любвеобильного здравомыслия этого народа. В среде старообрядцев, в среде самых восхитительных по твердости духа раскольников, вроде «нетовщины», «бегунов», таятся еще огромные русские силы, решившие ненадобность спора и борьбы с нашим «Polizeistatt», не имеющим силы доконать русскую народность несмотря на почти двухсот летний гнет немца. Татарская неволя у нас, как камера, была для своего времени легче гнета нашей проворовавшейся и изолгавшейся администрации. Та хоть оставляла свободными веру и труд, была лучше хоть по кадастровой технике.
Грибоедовская Москва, как явление временное, нерусское, легко отошла в область преданий, Москва же земская, православная, торговая еще долго сохранит, минуя ее гадости, свою родную нам, своеобразную и поучительную прелесть. Ее закалили века, время собирания Руси, Смутное время, патриаршество, раскол, 1812 год, славянофилы, центральная торговля. Такой старый закал очень крепок и вынослив, проникает и в привычки, и в миросозерцание людей, создает стойкость и постоянство.
Мои впечатления от Москвы, конечно, всего более получены из того мирка, с которым я имел всего более сношений, то есть мирка Успенского собора. Что это за своеобразный мирок!
Начну с его певчих.
Певчие Синодального хора – был тот мирок, в который я окунулся с головою впервые в моей жизни и в котором я впервые увидал вполне типичные и своеобразные, чисто московские фигуры. Вникая в общий характер профессионального московского певчего, нельзя не отметить, что кадр их всего более составляется из неудачников в школе, выброшенных из нее почему-либо и ухватившихся за неожиданно для них оказавшийся налицо хороший тенор или бас. Судя по почти поголовному незнанию певчими даже нот и судя по способности таких певцов петь под управлением неуча-регента иногда даже очень порядочно, следует признать, что в рядах профессиональных певчих остаются только люди с выдающимися музыкальными дарованиями, очень выносливые и очень восприимчивые. И действительно, мне случалось много раз наблюдать, как несомненные и очень сильные музыкальные таланты, с тонко развитым вкусом, попадались между самыми заурядными певчими, даже из тех, которые спустились до разряда только провожающих покойников на кладбища и поющих на морозе «Святый Боже». Я видел этих певчих в числе слушателей духовных концертов и прямо удивлялся той живости и верности впечатлений, какие были очевидны на их восторженных, хотя и испитых лицах. Я припоминаю многих «солистов», совершенно не знавших нот, но певших высокохудожественно, знавших наизусть множество сложных сочинений, интонировавших и фразировавших вполне безукоризненно. Припоминаю и такие вполне исключительные и изумительные по даровитости натуры, как октавист Иван Гаврилович Сугробов, обладавший необыкновенною памятью и певший, как сущий артист. Припоминаю тенора Лазарева, припоминаю и других регентов-самоучек, просветление которых курсами для певчих вывело их на сознательную и очень почтенную художественную деятельность. Но праздность певчих, ничего не делающих кроме пения в церкви и на спевках, низкое образование и нервность труда погубили множество художественных сил в певческом мирке. Неразлучные с этими отрицательными свойствами большинства певчих пьянство и необеспеченность вырабатывают из певцов под старость лет нечто никуда не годное, не приученное ни к какому труду и не способное заняться ничем, кроме пения в церковном хоре и уменья всячески выпросить побольше денег.
Немалым подспорьем к процветанию певческой профессии в Москве служит масса пламенных любителей пения между купцами, особенно между церковными старостами, не жалеющими ничего, чтобы наградить певчих. Шалые деньги, бросаемые купцами за угождение их вкусам, приучили московских певчих (конечно, выдающихся) к своеобразным певческим, весьма грубым и дешевым эффектам, к попрошайничеству, к своеобразному гонору и самомнению, равно и выработали в Москве только и существующее, только и возможное в Москве, с легкой руки Багрецова, своеобразное отношение к церковному пению.
В качестве иллюстрации нравов я вспомнил разговор с одним из таких старост, приглашавших Синодальный хор для пения свадьбы его сына в замоскворецкой церкви, реставрированной на его средства. Этот толстопузый толстосум предупредил меня депешею о предстоящем его посещении, после того как регент Орлов отказался явиться к этому купцу на дом для выслушания приглашения. Так как меня предупредили о самодурстве, то понятно, что и я надумал держать себя более чем осторожно. Однако разговор с первых же слов приобрел вполне неожиданный оборот.
Купец (входя): Директор? А? Говори громче, не слышу! Вели дать мне зельтерской, заплачу!
Я: Здравствуйте, дорогой гость. Чем прикажете угодить? Подайте воды поскорее!
Купец: Певчих... свадьбу, сына женю...
Я: Сколько? Полный хор?
Купец (передразнивая): Сколько? – гляди-ко: сколько? Понятно, всех, вместе с подставными безголосыми, чтобы для счету, значит... Не знаю, что ли, я вашего-то брата, – сами в старостах бывали... Требуется нам, значит, свадьба полная, чтоб «Отче наш» Сарти было, концерты – как полагается: «разгонный» (то есть концерт, который поется после благодарственного молебна, во время разъезда) чтобы был двухорный, потом в трактире «Слава браком сочетанным» (таков есть старомоднейший кант, вроде «Гряди, гряди, голубице», распевавшийся после Многолетия по первом тосте за новобрачных), потом, значит, «Боже, царя храни», потом «Многая лета», потом...
Я (перебивая): А велик у вас капитал? В миллионе состоите?
Купец: Больше... тебя зову с Орловым, чтобы в мундирах быть с орденами. Владимир есть ли на шее? У меня ведь генералы четвертные (то есть по 25 рублей) с лентами будут...
Я: Так сто тысяч...
Купец: Голова! Сказал ведь тебе, что больше...
Я: Нет, не то: за свадьбу с вас сто тысяч!
Купец (в полном недоумении, не зная, что сказать): Чего ты мелешь?
Я: Изволите рассудить: ведь надо свадьбу пропеть, в трактире дождаться, пожалуй, и до поздней ночи.
Купец: Понятно, до тех пор, пока не придет время... скажем, часа в два-три по полуночи.
Я: Так как же за сто-то человек взять дешевле?.. Ждать так долго, скучать, ведь мундир чего-нибудь стоит.
Купец (поняв дело): Сейчас видно, что ты человек новый в Москве и наших порядков не знаешь. А я тебе скажу так: без московского купца вся ваша братия в неделю, значит, пропала бы с голоду, а потому и купец любит свою линию вести; так ты и ввинти в свою голову: московского купца уважь прежде всего; это ведь не генерал какой, у которого кроме ленты нет ничего; а уважить купца, как ему желательно, чтобы он тобой был доволен. Получай «по пятерке» на голову – значит, в казну тебе 500 рублей, а уважишь – «катерину» на чай, да тебе с регентом за расшитые мундиры. Экипаж взад и вперед и по куверту за ужином, а пей сколько хочешь; у нас стесненья не будет – шампанское настоящее, музыка и все такое...
Нетрудно сообразить, что пение свадьбы на условиях купца состояться не могло, но я привел эту сцену именно для иллюстрации того, в каком положении иногда приходилось мне бывать в Москве и в каких отношениях могли бывать московские певчие (конечно, более всего частные хоры) ко всяким богобоязненным толстосумам-любителям. Невольно вспоминаю мою стычку с Шишковым, вздумавшим было командировать меня к посещению передних у более высокопоставленных лиц с пригласительными билетами в концерт Синодального хора в декабре 1889 года. Его превосходительство был в немалом недоумении, когда я сказал ему, что я послал эти билеты со сторожем Синодального училища и от имени его превосходительства... Невольно вспоминаю также и то, что я не сумел одолеть «святочное славленье» синодальных певчих, все-таки состоявшееся при мне в последний раз в святки 1889/90 года. Синодальный хор, несмотря на мое запрещение, «чтобы не обидеть невниманием», потихоньку разделился на три партии и потихоньку объехал по условленному плану всех своих «почитателей», конечно, рассчитывая по улицам и переулкам, по чинам и капиталам возможно больший сбор денег... В следующем году этого уже не было, к явному неудовольствию многих заскорузлых старых певчих, не стыдившихся никаких способов получения денег, и к полному негодованию многих якобы «обойденных» почитателей Синодального хора. Те и другие, нисколько не стыдясь, высказывали мне сожаления о нарушаемых мною старых обычаях Москвы, об убытках, или лучше сказать, недополучениях денег, на которые были уже заранее сделаны расчеты, и об «убыли чести» тех лиц, которые привыкли, чтобы Синодальный хор являлся к ним на поклон и с поздравительным славлением. Всего характернее было то, что в эти святки 1890/91 года я получил много пакетиков, адресованных «Синодальному хору», со вложенными в них деньгами (3, 5, даже 10–15 рублей) от настоятелей загородных монастырей, кладбищенских церквей, куда будто бы за дальностью расстояния синодальные певчие не успели попадать со своим «славленьем» и откуда, попросту сказать, откупались от этих посещений прямо и заблаговременно на Никитской. Этою мерою и податью избегалась и ошибка в выдаче «славленых» не по надлежащему адресу подставным лицам, выдававшим себя за синодальных певчих, или за «уполномоченных», или за «доверенных» к получению или взысканию таких денег.
В кругу взрослых синодальных певчих я застал много образчиков прежнего московского певческого житья-бытья. За несколько лет до моего приезда московская полиция, потерявшая терпенье с хозяйничаньем святых отцов, силою выселила всех взрослых певцов из флигелей при доме Синодального училища и заставила Св. Синод ремонтировать, наконец, невозможные помещения этих певцов. То, что я застал в начале моей службы в Синодальном хоре, было, по-моему, прямо непозволительно, но меня уверили, что это вполне хорошо, так как в сравнении с прошлым перестроенные помещения были действительно разделены на отдельные для каждого певчего квартиры и были уничтожены невозможные «общие квартиры», в которых одна семья отделялась от другой либо ширмами, либо занавеской, и было также уничтожено проживание в одной комнате нескольких холостяков, причем эта комната была в отношении к некоторым певчим не углом их, не их жильем, а, так сказать, ночлежным их помещением. Нетрудно представить, что за жизнь была в таких помещениях, чего-чего только не видели от взрослых певчих стены этих домов... Старики-певцы, прожившие по 20–25–30 лет в этой ужасающей обстановке, рассказывали мне многое, мало отличавшееся от очерков «Петербургских трущоб», от сообщений из быта Хитровского рынка или «Бурсы» Помяловского. Нетрудно представить, как царили здесь чахотка и тиф, как страдали тут несчастные жены певчих и что видели с нежных младенческих лет их дети... Я застал только последствия этой жизни: я видел много бессмысленных лиц всяких басов и теноров, лысых в 20–25 лет, развинченных нервами, глубоко павших и обреченных на апоплексию или прогрессивный паралич с тридцатилетнего возраста; я видел беспробудное пьянство, безнадежно разбитую жизнь, безграничную жажду жизни только на текущий день, самую жестокую нужду, самую отчаянную беспомощность этих людей, работающих действительно без устали, работающих днем, ночью, работавших до последнего изнеможения, прямо нуждавшихся в подбадривании себя алкоголем. Эта беспросветная жизнь, полная всякого горя, всякого произвола, всякой тьмы, требовала постоянно-напряженного труда, вставания к заутреням и к ранним обедням после пропетых с вечера всенощных, требовала по крайней мере шести часов ежедневного стояния на ногах, постоянного внимания к хоровому ансамблю, пешего хождения по Москве из одного дальнего ее конца на другой, провожаний мертвых на кладбища и пения свадеб в тот же день, постоянного питания в трактирах между службами и прочее, и прочее. И ко всему этому недостаточный заработок, грубая среда, шалые иной раз деньги, конкуренция других хоров, горемычнейший запой, битье и т. п. Неудивительно, если иной раз случалось видеть с сущей болью в сердце то, о чем мне и в голову не могло придти в Казани. Жестоко вспоминать о мере такого падения людей!
Эти впечатления, полученные мною в Синодальном хоре после того, как перед тем Шишков уже разогнал из него все наиболее ужасное, и после того, как дома певчих уже были перестроены, – эти впечатления заставили меня жестоко страдать и вникнуть в возможность перемены быта певчих Синодального хора. Ко времени моего приезда уже было уничтожено главное зло – беганье по церквам для частных заработков, было повышено жалованье певчим, не была лишь затронута их умственная жизнь, не была устранена беспросветность этой жизни, не были указаны дороги к лучшему труду. Именно за это я и принялся с самою горячею настойчивостью, с сущим убеждением правоты, блага и легкой возможности осуществления моих мыслей. Основное мое положение состояло в том, что каждый певчий, не успевший выучиться в детские годы, полагает все свое обеспечение только в своем голосе и относительном знании певческого искусства. При потере голоса, как учили очевидные примеры, каждый певчий обращался в беспомощного нищего, ибо незнание никакого другого дела и непривычка к какому-либо другому труду лишали безголосого певчего возможности эксплуатировать и бывший перед тем певческий опыт, и знания певческого дела. Поэтому я предложил каждому из взрослых певчих сделаться впоследствии регентом – и для того учиться и обеспечить себе на старости лет труд более почетный и выгодный, чем труд рядового голосистого певчего. Толкуя с певцами и с их женами, я упирал на то, что учебные занятия будут, кроме просветления голосов, кроме умягчения сердца, радостною надеждою – будут устранять то, что собственно губит певчих, то есть праздность; что занятия мною предлагаемые заставят певчих быть более дома, за тихим умственным трудом, и не могут вскоре же не доставить певчим не подозреваемые ими радости в таком труде, не ожидаемый ими душевный покой и совершенную перемену их жизни, перемену к большему достоинству и обеспечению.
Нетрудно понять, что мои речи произвели в мирке взрослых певчих небывалое брожение. Все, что было помоложе, поэнергичнее – встало (хотя и в очень немногом) сразу на мою сторону. Зато менее энергичное и умное большинство заняло положение выжидательное, так как огромная партия старых и заскорузлых певцов ответила на мои слова не только противодействием, но и шантажом. Противодействие этой партии было, так сказать, в стенах Синодального хора на всякой спевке, на всякой службе, где мне подчеркивалась при случае якобы нелепость моей затеи; шантаж нашел себе место в массе самых невероятных сплетен в певческом мире всей Москвы, в газетных статьях и в целой туче доносов и анонимных писем всякого сорта. Все это было мною испытано впервые в моей жизни и, по правде сказать, было тяжело и обидно. Осложнившиеся отношения с певчими, надобность вести дело среди всяких палок под ногами, надобность даже оправдываться в Петербурге заставили меня вновь и во всей подробности вникнуть в быт Синодального хора и обсудить как слабые стороны моего предприятия, так и средства, с помощью которых я мог бы довести дело до конца.
Слабые стороны заключались в том, что я не поставил предварительно в курс дела как мое непосредственное начальство, так и высшее в Петербурге, отчего мои начинания имели вид неожиданного для них и самовольного реприманда, в котором они, под давлением жалоб, доносов и анонимных сообщений, не сумели толком разобраться; а с другой стороны, я не принял в расчет то, что за прекращением пения Синодального хора по московским церквам, за недостаточным увеличением жалованья по новым штатам хора быстро создался в Синодальном хоре тайный промысел участия наших взрослых певчих в чужих хорах за зимними всенощными и за ранними обеднями. Мои требования занятий, таким образом, били по карману таких тайно промышлявших певцов и, не давая им, кроме лишнего труда, никакого нового рубля, лишали возможности зарабатывать хотя бы тайно и лишали возможности и надобности продолжать привычное уже вставание к ранним обедням и беготню из одного конца Москвы в другой, общение с певчими других хоров, общение с толстосумами-старостами, произведение эффектов в пении всяких Сарти, Веделей, Дегтяревых и прочее.
В скором времени я, извинившись перед своими начальствами, вразумил их и стал пользоваться их поддержкою, так как мне ничего не стоило ясно изложить план моего предприятия и ясно же осветить смысл всяких жалоб и корреспонденций. Не менее легко, с помощью растолкования двух случаев (о чем будет сейчас рассказано) и с помощью более практического и целесообразного изменения в деле обучения взрослых певчих, удалось мне поправить сделанную мною было ошибку и сразу, твердо уже, начать усовершенствование взрослой половины Синодального хора. Я отделил от устроенных мною классов тех взрослых певчих, которые по своей заскорузлости и глупости, равно как престарелости и наглости, казались мне безнадежными к ученью. Оставшиеся слушателями этих классов были мною особенно поощрены всякими способами: я достал многим из них уроки, устроил поочередное регентование за малыми службами в соборе, повысил некоторых в окладе жалованья, воспользовавшись тем, что из стариков некоторые успели промахнуться и дали мне вполне законный и вполне справедливый повод не только подвергнуть провинившихся взысканиям, понижениям по службе, но даже и уволить самых негодных.
Два случая, о которых было упомянуто, были вскоре один за другим, и притом с самым уважаемым и хорошим человеком, уставщиком левого клироса Алексеем Кузьмичом Беляевым, выслуживавшим уже пенсию. Судьбе было угодно, чтобы этот отличный октавист проходил мимо меня, когда я пробовал голос плохого октависта, желавшего поступить в хор. Желая показать этому кандидату, каковы могут быть хорошие октавы, я остановил Беляева и попросил его пропеть гамму от «до» вниз. Беляев, ничтоже сумняшеся, пропел мне так:

У меня не хватило духа остановить такого «уставщика» и опытного певца, и я, не без сердечного облегчения, заметил, что не только кандидат-проситель, но и бывшие тут певчие не заметили ошибки Беляева, кроме двух-трех, поднявших потом Беляева на смех. Оказалось, что и сам Беляев не скоро смог понять суть своей ошибки, так как совсем не знал нот.
Другой случай был не без большого и публичного за всенощною замешательства. Тот же Беляев, вполне опытный певчий-практик, за второю или третьею домашнею всенощною запел на первый глас «Бог Господь» роспевом на «Господи, воззвах», то есть так:
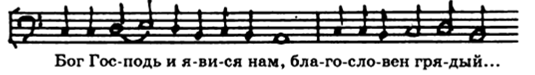
Напев этот на текст «Бог Господь» уложился довольно еще удачно, но при исполнении тропаря получилась такая путаница и такой вздор, что хор остановился... К довершению неудачи, случившейся при избранном обществе Москвы, растерявшийся Орлов вдруг заметил смеющиеся лица взрослых певчих, которых такой срам для хора не огорчил, а даже как бы и развеселил. Орлова взорвало... Коротко сказать, на следующий же учебный день, после предварительной нотации всем певчим, из которых старикам-неучам досталось круче всего, все отобранные мною певчие сидели в классах сольфеджио, элементарной теории и церковного пения, а все не допущенные в эти классы поняли, что дни их службы в Синодальном хоре сочтены, что в случае какого-либо их противодействия или шантажа их увольнение может быть и ускорено, что вообще в Синодальном хоре наступило вполне твердо и бесповоротно совершенно новое для него время ученья и деятельности. Это было 4 ноября 1889 года. Помощниками моими были В. С. Орлов и А. Г. Полуэктов, я сам впрягся в корень и повез это дело на своих плечах изо всех сил.
К этому времени я уже успел довольно близко вглядеться в многие типичные фигуры. Например, я уже упоминал об Иване Гавриловиче Сугробове как о человеке вполне удивительном. Он пел октавою. Я не слыхал во всю мою жизнь лучшего голоса и не видал лучшего дарования. Сугробов был вполне необразованный и ничему не учившийся человек, умевший лишь подписывать два слова: «получил Сугробов», ибо его искусства в письме не хватало, чтобы записать, что им получено столько-то рублей или копеек. Память у него была просто феноменальная; он вполне твердо и разумно помнил решительно все, что только он видел, слышал, читал, пел. Пел он своим чудесным голосом так хорошо, как украшает оркестр умный артист на литаврах, буквально поднимающий мощью и уменьем весь смысл исполнения. Сугробов был сущий артист в душе, горчайший пьяница, величайший чудак и самодур, человек с самой ангельской, самой кроткой душой, с самым отзывчивым сердцем. Он страстно любил церковное пение, никогда не был способен подчиниться хоровой дисциплине, всегда стоял отдельно от певчих аршина на полтора-два, между ним и певчими всегда было свободное место, и отсюда он с глубочайшим артистическим тактом именно украшал исполнение Синодального хора. Он был глубоко привязан к хору и высоко почитал Орлова, но вместе с тем решительно не мог даже в малой степени поступиться своими взглядами и своими требованиями в хоровом пении. Пустая неудача, вроде ошибки в тоне, фальши при исполнении, изменения темпа и т. п. так огорчали Сугробова, что он тут же уходил с самых ответственных служб или говорил тут же замечание Орлову ит. п. Высказав свои неудовольствия и не допуская даже и возможности возражения или сомнения в основательности его замечания, Сугробов обыкновенно дулся, пропускал спевки, чаще же отправлялся не в очередь в баню. Сугробов был колоссального здоровья, с огромной грудью, необыкновенно крепкою. Он выпил на своем веку столько вина, что о нем говорили как-то, будто открытый на это количество винный погребок мог бы торговать целый год. Пьянство доводило его раза по три-четыре в год до белой горячки и полной потери голоса, наконец, довело его до удара. Необыкновенная сила голоса и уменье виртуозно владеть им создали Сугробову заработок чтения Апостола на похоронах и особенно на свадьбах. Читал это Сугробов вполне превосходно и получал за то от купцов по 25–50 рублей, почему жил всегда в достатке и всегда имел деньги на все, в том числе и на беспробудное пьянство. Благодушие Сугробова иной раз было просто неисчерпаемо. Однажды, доведя Орлова до белого каленья самостоятельностью своего поведения и критикой действий Орлова, Сугробова хотели пугнуть и уговорили Шишкова вызвать его к себе для внушения по службе. Сугробов, сказавший: «некогда мне быть у него в этот час», – все-таки явился к Шишкову и, выслушав выговор Шишкова, ответил: «Какая у вашего превосходительства хорошенькая новая люстра! У кого купили?» Оторопевший было тайный советник вновь накинулся на Сугробова, но тот с достоинством ответил: «Будет вам! Я думал, что вы дело скажете! Если бы я не любил Василия Сергеевича (то есть Орлова), зачем бы я ему стал делать замечания? А вы говорите, что я обижаю его! Это я-то, да Василия Сергеевича! Будет вам сплетни-то разводить!» и т. п.
Больной Сугробов не пел при мне уже года два, и я помню единодушный порыв Синодального хора, пожелавшего в полном составе петь заупокойную по нем литургию. Сугробова, как вполне почтенного человека, любили все мы совершенно искренно и проводили в могилу с любовною молитвою. Это был действительно замечательный, даровитый, добрый человек, вполне оригинальный, высоко выдававшийся между людьми. Его знала решительно вся Москва, прощала ему все именно ради его голоса и нравственных достоинств, глядя на его недостатки вполне снисходительно. Да и в самом деле: что бы был Сугробов, если бы учился он в молодости и хоть бы немного был отшлифован? <...>
Другая среда Успенского собора – его завсегдатели-богомольцы, которых можно разделить на две группы: на любителей соблюдения устава, длинной службы и древнего благолепия самого собора и на любителей слушать чтение Апостола и Евангелия или пение. Первые любители самым аккуратным образом ходят в собор, становятся на определенных местах, превосходно знают все подробности службы и иногда грубо протестуют против малейших ошибок в порядке службы. Они горячо молятся, но по-своему. В их молитве есть какое-то любованье собою, своею истовостью, своею требовательностью, своими знаниями. Они, при удобном случае, печатают весьма фарсированные фельетоны, корреспонденции, пишут анонимные письма, даже и прямо ругаются. После службы все они, обыкновенно стоящие у правого и левого свечного ящиков, отправляются пить чай в трактире. Это богомольцы-купцы, приказчики, хозяева всяких магазинов и т. п. Из них я знал конфетчика Максимова, портного Емельянова, печника Гнусина и некоторых других. Центр их занимали квази-композитор булочник Урусов и известный автор заграничных брошюр Дурново. Самомнение их беспредельно, невежество – также, смелость, наглость и фанатизм много раз подвигали их на самые грубые выходки.
Другие богомольцы ходили в Успенский собор с камертонами и, прослушав чтение Апостола и Евангелия или пение Херувимской, немедленно уходили в храм Спасителя, чтобы послушать там то же самое. Они по минутам знали, как куда поспеть, у них часто стояли готовые извозчики, и они бегом бежали от дверей храма, чтобы поспеть вовремя в другой храм. Они знают все тексты читаемых Апостолов и Евангелий, знают, где надобны остановки, повышения голоса. Они спорят при выходе из храма о том, что последняя нота у прокричавшего дьякона была «цыс», или «де», или «дис», что Херувимскую в «Же моль» или «Же дур» «спустили» на одну четверть или на полтона, или – «такие молодцы: к концу даже подняли», что басы здорово взяли «це», а теноры – «же» и тому подобное. Я припоминаю некоторых из этих ярых любителей церковного чтения и пения, воспитавших свои вкусы на бывших когда-то громоподобных дьяконах, на вдохновениях Багрецова, Феофана, Виктора, Велеумова, Подгородинского и прочих. Эти совершенно своеобразные любители, вместе и глубочайшие неучи, все же пламенно любят своеобразные церковно-московские искусства и относятся вполне нетерпимо ко всему, что хотя сколько-нибудь не согласно с их вкусами. Типичны они до самой последней степени, искренни, убежденны и правдивы, но вместе и довольно глухи ко всякому новому слову, к какой бы ни было новой мысли. За этих именно хороших, упрямых и пылких людей я взялся, исподволь приводя их в свою веру, как и самих синодальных певчих, вместе с их регентом Орловым. Но об этом как- нибудь после.
Теперь же я припоминаю, как, изучая эти фигуры, я терпеливо выслушивал их твердые и полные уверенности речи, как много раз я ходил с ними (особенно же после какой-либо удачно пропетой службы) в Большой Московский трактир (что против Иверской) пить чай или наблюдал за их словопрениями между собою. Особенно мне казались интересными их споры между собою, текущих политических событиях. Принимая их близко к сердцу и понимая их по-своему, эти люди бывали иногда упрямо забавны в своей наивности, в своей вере в удивление всех и всего перед «Святою Русью», перед «белым царем» и в надобность снисходительно смотреть на «дурь немца», или «верхоглядство француза», или на «глупость австрияка», особенно же когда «Господь испытует сердце Царя- Батюшки», посылая на нас слепых и малоразумных врагов, не понимающих православия. И мне не один раз казалось, что «мы», «велик Бог земли русской» или «шапками закидаем» и т. п. в иных случаях могут быть далеко не пустыми словами. В рассуждениях этих простых, но полных веры и силы людей я слышал не один раз очень могучие и не преувеличенные ноты, те самые, которые были слышны в пульсах движений именно народных, когда это движение вызывалось бессилием бывшей администрации и побеждало губившую было беду. Припоминаю также я, как меня била лихорадка при одном из таких чаепитий, когда обсуждалось этими людьми значение падения в Болгарии Стамболова31. Помимо забавных обобщений и соображений насчет будущего, эти доморощенные политики из Замоскворечья и Таганки были в сущности дела вполне правы, а их одушевление живо напоминало мне потрясающие впечатления, которые я сам пережил при поклонах Александра III народу с Красного Крыльца и во время коронации Николая II. Я помню, что я задрожал при этой беседе так же, как тогда, увидав звонившие колокола на Ивановской колокольне и не слыхав их звона из-за удивительного, непередаваемого «ура» сотен тысяч народа...
Именно эта сила, скрытая, огромная, не подозреваемая многими, вполне здоровая и независимая, снисходительно смотрящая на всю гниль и ложь нашей администрации нашей культуры, – именно эта сила, столь неожиданно и очевидно бросившаяся мне в глаза, поразила мой ум. Она подтвердилась моему уму в своем существовании и в своей несравненной мощи со стороны для меня неожиданной. Я верил в эту силу, дойдя до сознания ее существования с помощью исторических обобщений, теперь же я наяву сам увидал и почувствовал ее беспредельную мощь. Тихие пульсы этой силы бьются у нас перед глазами. Что такое, как не служение родине – этот одинокий священник или монах, служащий утреню в какой-нибудь захолустной пустыньке, вдвоем с чтецом-сторожем при совершенно пустом храме? Я помню одну такую заутреню, к которой я попал неожиданно для себя в темную ночную метель. Что такое тот же Рачинский, похоронивший себя в своей любви к свету и своей родине?32 Что такое тот же московский толстосум, хотя бы тот же оригинал – Солодовников, в ту минуту, когда растворится его сердце и вспомнит он, что он русский? Как дороги были мне мои невольные слезы, когда находили на меня минуты сладчайшей любви к родной моей земле! Как выразительны те глухие, но величественные народные движения, которых до сих пор уцелели повсюду сотни, тысячи, – вроде «встречи» в Казани иконы, приносимой 26 июня из Сед мизерной пустыни, или вроде нескончаемых верениц богомольцев к Сергиевой Лавре, или в Киев, или на Соловки! Кто, например, спас Болгарию, Сербию или нашу «Русь святую» в жестокие 1612 или 1812 годы, как не вера, – та самая слепая, нерассуждающая, обрядовая богослужебная вера, о которую разбились все ужасы турок, татар, поляков, французов, все ужасы нашего трехсотпятидесятилетнего и южного пятисотлетнего ига? Затрудняясь определить словами и даже приблизительно назвать эту силу, столь оживляющую и бодрящую народные способности, вырабатывающую в нем выносливость и долготерпение, могу ли я отрицать в ней то, что отрезвляет народ и спасает его в годины бедствий? Для меня – это несомненно, меня это возвышает и врачует, и я спокойно смотрю на будущее моей родины, веря в здравомыслие этой силы высшего порядка. <...>
Немного надо сообразить, что никакая власть в мире не осилит подчинения человека его климату и местности, не заставит принять то, что не согласно с народным умом, переходящим по его возрастам и здоровью, всякого рода привычками и мировоззрениями. Гораздо проще взглянуть на то, что и как воспринимает народ из напора на него правительственных воздействий или бездействий. Как именно в разных концах страны канцелярски-обточенные меры перерождаются сами собой в нечто совсем не предусматриваемое в каком-либо министерстве? Как мало принимается во внимание рост народной жизни или упадок какой-либо части ее благосостояния при издании распоряжений из одинакового размола мельниц, снабжающих одинаковыми распоряжениями и Иркутск, и Тифлис, и Петербург, и Москву! Старая Русь с поместными самодействовавшими организмами, с надобною и разумною централизацией управлялась куда разумнее, чем при режиме столь удобном для маленькой когда-то Германии при сухом, немецком, обезличивающем административном уме. И там славянство отбилось рядом вольных городов, бывших когда-то народоправств Гамбурга, Любека и Бремена. У нас еще до сих пор стоят, слава Богу, сельский «мир», городская «дума» с их исконным духом народоправства, отлично уживающимся с народною же верою в единодержавного царя. Отрицать последнего могут только верхогляды, а оберегать – глупо и обидно для него, обидно для самой страны – только чиновники, так же не глядящие далее возможного для них и подписанного чиновниками же. А между тем как все это просто, как возможно к любовному и прочному, долговечному общению! Какая огромная, неисчислимая сила в руках царя в этой исторически окрепшей любви народа к самодержавию, несмотря на отвращение того же народа к опутавшему страну проворовавшемуся и бессердечному чиновнику! Я думаю, что сам царь не знает, как он тверд и силен массою любви народа.
Я считаю, что для России еще есть огромное счастье в том уцелевшем коренном, старозаветном, многомиллионном населении, которое волею судеб и силою духа сохранилось у нас в полосе от Соловков на Урал, Каспийское побережье, Кубань и Дон, то есть в том староверстве, которое и выучилось стоять за себя и выучилось откупаться от воздействий администрации. Считаю и то, что временное ослабление городского староверства, поддавшегося в своей молодежи влиянию школы городской же, нисколько не умаляет значения этой здоровой части русского народа, уцелевшей незыблемо в своей жизни не только в городах, но даже и среди немцев, литвы и поляков в Прибалтийском крае, даже в омуте фабрик Владимирской, Ярославской, Тверской, Московской и соседних с ними губерний. Огромная и серьезная эта часть нашей Руси! Огромно и счастье в том, что чиновники проглядели будущее влияние старообрядчества как здоровой, свежей русской крови, как твердой дисциплины! Спасибо и Синоду, что проглядел то же самое!
Эта твердость, это здоровье есть приговор нашему изолгавшемуся духовенству, опустившему себя лишь до рубля и до самозащиты от консисторий и генералов в рясах. 20 миллионов штунды, выросшие в последние 30–40 лет, есть неопровержимый обвинительный акт, последствия которого в области каких-либо социальных осложнений в Южной и Юго-Западной Руси трудно и представить в размере горести и тревоги этих последствий. Степь, огромные минеральные богатства, немец, иностранные влияния через южное побережье, рабочие неустройства и штунда – слишком сложное явление, уже начавшее о себе заявлять очень внушительно дома, без участия внешней войны. Последняя, если она случится в какую-нибудь из злых годин, может осложниться, пожалуй, очень большими и еще не бывалыми новостями. Но кроме административной расшатанности, как тормозит еще общее спокойствие народное обеднение, болезненная общая нервность! Еще на памяти у всех стариков живы воспоминания о здоровом, зажиточном, благодушном русском крестьянстве! Сколько сил унесли у нас водка и болезни, фабрики и отсутствие столь надобной теперь учительной, народно-религиозной проповеди, хоть какого-нибудь церковного света!
Между тем простое вразумление нашего духовенства могло бы принести огромную пользу России, если бы это духовенство было в состоянии взять на себя действительную службу своему делу. Как могло бы оно поднять дух, как бы могло оно оздоровить нравственность народа, пока последний еще не отпал от родной веры и не отшатнулся от этого недостойного своего дела сословия! А у нас – одна продажная консистория и всеобирающий Синод! У нас и тут проворовавшаяся канцелярщина!
Но я опять отвлекся от Синодального хора и училища, в которых протекала сполна вся моя жизнь со всеми моими додумками. Уже из многих подробностей, ранее записанных, можно видеть, что я задался целью совершенно переработать жизнь и задачи хора и училища. Передумав немало по существу дела, обсудив окружающее меня внутри этих учреждений, весь их вес, как со стороны моего начальства, так и самой Москвы, я приступил к исполнению моих мыслей не без совета с близкими мне друзьями. В числе людей, с которыми я счел надобным посоветоваться, был и К. П. Победоносцев, у которого я урвал благодушную минуту во время моей с ним встречи в Гурзуфе. Здесь я услыхал от него такие речи: «Вы создали себе обдуманный план и считаете его хорошим и осуществимым? – Да. – Если так, не спрашивайте никаких ни у кого разрешений к приведению своего плана к исполнению. Если будете спрашивать невежду, – можете услыхать ответ неудобный для себя, а между тем властный невежда своим ответом стеснит вашу свободу надобностью хотя немного принять во внимание властность его разрешительного совета. Если спросите знающего человека, но не сильного в знании самых тонких подробностей дела или, спаси Бог, упрямого, каковы все «специалисты», – еще более горько может быть стеснение вашей свободы, не только ненадобное, но и прямо вредное. Всякий спрашиваемый, особенно из власть имущих, начинает рассуждать так: меня спрашивают, стало быть, меня надо спросить и ответ мой надобен; что мне (а не делу!) лучше: наложить крючок или два крючка. Советуйтесь как можно больше со своими помощниками, чтобы ваше с ними дело было вполне общим, даже советуйтесь со знающими людьми, не сочувствующими вашему делу, но зато и не имущими власти над вашим делом. А то подумайте: вон какие деревяшки (следовали имена архиепископов, генералов, даже и власть имущих в учебном деле Синода) берутся авторитетно рассуждать о древних напевах, о школьном деле – только потому, что один святитель пел когда-то и что-то, другой только потому, что «он чином от ума избавлен», а третий потому, что он обязан знать, но на самом деле – прости его, Господи! И все ведь они думают, что в церковном пении, в школьном деле всякий может рассуждать, как ему вздумается. Но в чем я предупреждаю вас, это запомните и исполните: не спрашивайте совета у власть имущих «специалистов» – ибо «крючками они утыканы и крючки суть»; затем не стравливайте между собой двух деревяшек, так как это бесполезно для дела, а для вас все равно, как бы вы познакомили двух заик, ваших потому двух будущих злейших врагов. Работайте сами, и своя голова, свой опыт укажут лучше всяких чужих советов, что именно надо и как надо делать свое дело, своим умом и своею радостью».
Признаться, я так и сделал, поставив, однако, в курс всего дела самого Победоносцева. Не утруждая его подробностями, я объяснил ему приблизительно, как, считаясь с обстоятельствами, предполагается обратить училище в детскую семью, предварительно вычищенную от всякой дряни и праздности и приученную к труду, а хор и сослуживцев-сотрудников – в тесный товарищеский кружок, но также предварительно вычищенный от всякой безнадежной дряни, просветленный учением среди певчих и взаимным доверием в кругу тех и других. Так как этот разговор был осенью 1890 года, то есть после того как я уже в течение года успел вглядеться в дело, успел немало уже наработать и направить многое с достаточною твердостью, то понятно, что второй год моей службы в Москве был менее тревожен, менее хлопотлив, так, как и ко мне уже успели приглядеться, успели понять, хотя бы некоторые, выгоды новых порядков – выгоды немедленные и будущие. Доброе мое товарищество с В. С. Орловым, А. Г. Полуэктовым, А. Д. Кастальским, с воспитателями И. И. Серебреницким и К. А. Никольским, равно и доброе товарищеское же соглашение с очень небольшим кружком взрослых певчих, не отстававших от ученья, было тем корнем, от которого скоро пошли здоровые и свежие корешки, захватившие все в свое распоряжение. Мы махнули пока рукой на товарищей-преподавателей и на заскорузлых взрослых певчих, не пожелавших понять или не могших понять наших целей; мы решили дать свободу и им, то есть или присоединиться к нам тогда, когда им вздумается, или вести борьбу с нами, или расстаться с нами. Самая главная часть – начало этого движения, составление первой кучки работников и достаточное впечатление от нашей энергии – была уже сделана в прошлом году и уже заметно разделяла всю паству, то есть сослуживцев, взрослых певчих и учеников, на успешно примкнувших к нам и противлявшихся во имя прежнего и во имя недостатка веры в наши нововведения. Так как безвредность для нас всяких доносов и анонимов была уже доказана, а мои воздействия на эти вещи отличались гласностью и не мстительностью, то скоро ослабела и часть закулисного противодействия. Осталось, следовательно, делать новое только так, чтобы не обращенным в нашу веру ничего не оставалось кроме обращения, которое мы не навязывали никому, предоставляя каждому примкнуть к нам, когда ему вздумается, или бороться с нами (что я особенно ценил и поддерживал, разумеется, кроме закулисных действий, столь обычных в духовном ведомстве), или расстаться с нами с благодарною за то помощью от нас же, чтобы проститься не врагами, а вполне по- хорошему.
Легче всего было устроить школьное общежитие, за которое мы принялись так дружно, что и сейчас приятно вспомнить о такой работе. Мы обшили, обули учеников, завели белье, зубные щетки, купили одеяла, кровати, повесили термометры, картины, географические карты, сделали классную мебель, завели учебники, ученическую библиотеку для чтения, купили несколько роялей, несколько десятков скрипок, затем по несколько альтов, виолончелей и даже контрабас. Первая елка в Синодальном училище, сделанная от начала до конца вся, во всех комнатах, убранных каждым классом по-своему, была устроена только ученическими силами с нашей помощью и была спрятана для следующего года вся сполна в своей несъедобной части. Первая детская симфония была разыграна учениками с такою семейною радостью и гордостью, что покачивавшие ранее головами преподаватели и взрослые певчие, ждавшие разгрома елки «нашарап» (интересна этимология этого, кажется, турецкого или румынского слова) или на «ура», и те признали порядочность поведения наших учеников, которые вели себя как хозяева, принимавшие своих гостей, то есть своих отцов, матерей, братьев и сестер. Елка, признаться, и меня очень, очень порадовала. <...>
Уже из перечня приобретений видно, чего были лишены перед тем мои ученики и вместе с тем – до какой степени они не были приучены хотя к какой-либо бережности и аккуратности. Ведь и раньше были заводимы и книги, и белье, и прочее, но вскоре все эти вещи были, как «казенные», растрачиваемы с какою-то безжалостностью, без всякого желания иметь около себя что-либо исправное. Теперь, кроме требовательности, наставления, вразумления, взыскания, мы дружно и неумолимо начали заводить в Синодальном училище обязанности разумного и деликатного обращения с вещами, стали требовать чистоту платья, рук, порядок в столах, чистоту стен, исправность в книгах, тетрадях и прочее. Очень было трудно добиваться, чтобы все делалось хорошо, а не кое- как, чтобы хорошо делалось ради самого хорошего, а не ради ответа за неисправность. Еще труднее было заводить исправность ученья и приучения учеников экономить время. По преобладанию поповской крови в учениках и по воздействиям жестокой жизни недавнего прошлого, ученье мальчиков, особенно же уже спавших с голоса, нисколько не интересовало их в тех частях науки, которые не могли иметь немедленного практического применения, не могли быть немедленно же утилизированы в их жизни. Поэтому с величайшею неохотою они учили уроки, например, Священной истории, гражданской истории, географии и т. п., несколько лучше шли, например, упражнения в умственном счете, черчение карт, письмо разными почерками, игра на скрипке и особенно нотное письмо. Зато оказалось, что переписка нот за деньги для московских хоров, как оплачиваемая, была давно доведена некоторыми учениками прямо до совершенства, особенно же в письме партитур. Поощряя это искусство как обязательное и как средство запастись в школе партитурами, я все-таки зорко глядел и за возможностью зла от скопления денег в руках ученика. Убеждения мои, опять-таки под давлением прошлого быта, были бесплодны, и мальчики с деньгами приобретали себе и табак, и сласти, ходили в трактиры и прочее. Средства мои пока были бессильны. Мне представлялось, что не занятое чем-либо серьезным, интересным и ласковым внимание учеников само создавало в минуты праздности что-либо такое, что имело вид придуманного запретного плода, принимавшего, смотря по натуре и уровню развития, то тот, то другой характер удовлетворения какого-либо пустого желания. Наблюдения за праздностью у разных мальчиков и за разностью отношения их к тому или другому способу моего внимания к ним, моего желания занять их свободное время, вскоре привели меня к множеству заключений о порядке общежитий, ученья в них, а главное, к сближению с учениками, к сплочению их в семью. Лучшим средством для достижения такого сближения мне всегда казались простые, частные беседы, совершенно лишенные какого-либо учительного-умышленного содержания, но содержательные сами по себе и оттого интересные для детей. Я никогда не затруднял во время этих бесед детские умы требованиями что-либо соображать или сделать умственные усилия для какой-либо теоремы или для плана беседы, но всегда вел эти беседы по всякому поводу и по всякому случаю, вполне просто и доступно, помня, что ведь в сущности это есть время детского отдыха. Чаще всего мы беседовали, ходя по зале кучкой в самое разнообразное число лиц, или по двору училища, или в садике, толкуя весело, оживленно, вполне дружески. Я знал, что ребятишки очень любили такие беседы и что с помощью такого общения наша семья действительно сплачивалась искренне и тесно, отчего быстро смягчались нравы, росло взаимное доверие, а гласность начала все более и более проникать в нашу товарищескую жизнь. Отсюда сами собою отпали все недостатки строя бурсацко-чиновничьей школы, вся мерзость скрытности и недоверия, взаимной расправы, все дикости прежде царивших нравов, сменившиеся действительною затем семейною школьною жизнью. Я считал это улучшение Синодального училища одним из самых удачных проявлений моей учительской деятельности. <...>
Синодальный хор
Синодальный хор как церковный певческий хор я застал в 1889 году слаженным довольно удовлетворительно, как в смысле уравновешенности голосов, так и в смысле стройности исполнения. Оттенки хора были иногда также достаточно изящны, звучность же прямо хорошая. Орлов, поступавший было вместе со мною в 1886 году, упредил меня на три года и успел к моему прибытию вышколить хор весьма значительно. По крайней мере я помню, что они пели мне концерт Львова «Приклони, Господи, ухо Твое» почти безукоризненно, звучно, стройно, довольно легко и местами даже изящно; затем помню и то, что в первые же недели моей службы в Москве мне пришлось узнать ряд совершенно диких сочинений московского изделия. Последнее обстоятельство, по правде сказать, очень меня озадачило, так как я оказался вполне несведущим в области этих сочинений, а это был любимый цикл москвичей. Я дал себе труд пройти с Орловым всю эту литературу (конечно, из так называемых «ходовых» сочинений, то есть более других любимых и чаще исполняемых) и подивился архинеграмотному их изложению. Вместе с тем я задумался над вопросом: почему же эти вещи так любимы? Несомненная простота, звучность и хорошая мелодичность многих этих сочинений убедили меня, что этот ряд сочинений именно и есть та средняя дорога, которую надо выбрать между итальянской сладостью и виртуозностью с одной стороны, а с другой – знаменным и иными древними роспевами; найденная мною впервые «Разоренная» Херувимская (то есть сочиненная и исполняемая после того ежегодно в день октябрьского крестного хода в память 1812 года) открыла мне глаза, в связи с другими соображениями, на возможность, не мудрствуя лукаво, использовать почти все готовое, придав ему лишь художественную форму. Сближение всяких «разоренных», «ипатьевских», «старосимоновских»33 и прочих с гармоническими и контрапунктическими приемами Глинки, Мусоргского, Римского-Корсакова и возможность остаться дома своим же художником, пользуясь новыми и разумными средствами при старых и уже излюбленных материалах, – вот та дорога, которую я указал Орлову, к счастью моему, своему и Синодального хора понявшему дело сразу и правильно. Я помню, как у Орлова блеснули глаза, когда я ему сопоставил отдельные части мелодий так называемой «Александро-Невской» «Милости мира» с песней «Вдоль по матушке по Волге» и «Матушка, что во поле пыльно». Мы решили после этого разговора заняться упорядочением нескольких лучших напевов этого рода и неуклонно исполнять их вместо сочинений Бортнянского по воскресным дням, когда Успенский собор бывает полон «простым народом». Сходство мелодий, о котором только что сказано, я сейчас забыл и только припоминаю, что я очень удивил Орлова такими указаниями. Если я не ошибаюсь, в числе примеров тогда мною были указаны:
«Милости мира»:
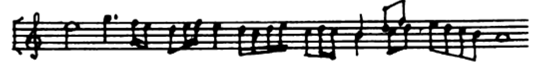
«Вниз по матушке, по Волге»:
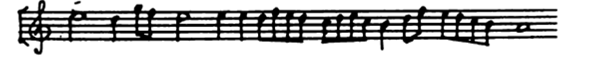
Это было так давно, а теперь таких примеров, даже и более выразительных, можно подобрать сколько угодно.
Таким образом, ранее, чем началась собственно выучка Синодального хора, его техническое развитие, было начато ослабление в программах всякой итальянщины, безусловное удаление всякой дряни из репертуара воскресных и будничных служб и внедрение в эти программы сочинений именно вроде «ипатьевских», в которых мы подчеркивали тонко и осторожно русские мелодии. Службы наши, таким образом, сами собой разделились на «умные» и «глупые», причем под последними разумелись те, в которых середина Успенского собора отделялась перегородками для помещения между ними в царские дни мундирных генералов в лентах. Этих богомольцев мы начали угощать «нашими» Херувимскими разве с 1896–1897 годов, глупейшие же сочинения, вроде Есаулова, Давыдова и прочих, даже и в «глупых службах» были изгнаны еще с 1890 года. Зато в воскресные дни вскоре народ заметил новую нашу струю, и вскоре и я и Орлов стали получать выражения живейшего нам сочувствия. Тогда мы условились между собою, не спрашивая начальства и не советуясь с попами (так как в репертуарной части, как то ни дико, синодальные певчие были подчинены отцам протопресвитеру и дежурным сакеллариям), петь свое и начать наш дебют с одиннадцати Евангельских стихир, переложенных А. Г. Полуэктовым34. Эти стихиры «большого» роспева, то есть со всеми «фитами» и «лицами», мы начали петь вместо причастных стихов. Гармонизация их была, конечно, слаба, так как Александр Гаврилович не блестел талантом, а отличался лишь прилежанием и быстротой в работе, но коренной напев все-таки был выдержан вполне точно и гармонизован гораздо лучше, чем у Львова. Нетрудно себе представить, как навострили уши всякие «любители», молившиеся у свечных ящиков собора... Чаепития с ними в Большом Московском трактире памятны мне бурными прениями, в которых я, конечно, не принимал участия. «Нечего сворачивать Успенский собор на Рогожское или Преображенское кладбище (то есть на раскольничью дорогу), – вопили одни, – то, что уже умерло, не может воскреснуть, да и хорошего-то в нем ничего нет». «Ладно, – возражали другие, – что и так мы слышим родное, уцелевшее на Рогожском и целое еще по будням в Успенском соборе, а то иной раз войдешь в храм Божий – чуть- чуть не кажется, что попал либо в «Яр“, либо в «Эрмитаж» (то есть загородные рестораны), а все ваши Багрецовы, Строкины и «крепостные» их...»
«Вы иногда попамятуйте, – сказал мне раз потихоньку на ушко сакелларий, – что есть указание устава церковного: «Аще волит настоятель..."»
«Прошу мне заблаговременно присылать на утверждение программы пьес, которые вы предполагаете петь в соборе. Я буду прослушивать и по своему усмотрению разрешать или запрещать...» – говорил мне прокурор Ш1.
«Ах, уж эти крюки! Ах, ох-хо-хо этот знаменный роспев, – сокрушался милейший К. П. Победоносцев, – Заведут: у-у-у-у-у-у – конца нет, только что какое-нибудь слово скажут, и опять: ууу-ууу-ууу! Да ведь (то есть про меня) и упрям же этот народ! – именно «специалисты», именно «знатоки», вон и у меня в Петербурге Соловьев – надоел совсем со своими «фитами»; а Саблер – упрям, совсем как старый осел, ведь ничего не понимает, нот не знает – а сам: «прекрасно! превосходно!»35 А в это время ему: ууу-ууу – ну, скажите сами, ну, на что похоже? Вот я понимаю, например, Турчанинов или ирмосы пятого гласа Львова – это меня трогает, я с детства это слышу и привык молиться... Нет, при мне не пойте...»
Разговор этот происходил перед обедней в один из дней Пасхи в гостинице «Славянский базар». Я вспомнил, что дело шло о «Тебе одеющагося», где на слове «увы» действительно тянется «уууууу...», столь не понравившееся Победоносцеву. Собираясь в собор, он не подозревал, что я нарочно укажу петь во время запричастного стиха именно «Тебе одеющагося», указанное на этот день по уставу и исполнявшееся Синодальным хором восхитительно, оживленно и с особой силою выражения. Победоносцев пришел в полный восторг и обратившись ко мне сказал: «А ведь хорошо! Вот у вас и «ууу» тянут, а не скучно, хоть и знаменный роспев». Тщетно я уверял Победоносцева, что это не русский, а болгарский роспев. «Нет, – отвечал он, – как только начнут тянуть – так это и есть знаменный роспев».
«Вот, спаси Бог, удостойте чайку в компании», – говорили мне совершенно незнакомые, но с «гуменцами» и «в кафтанах», то есть старообрядцы. – И как они, братец мой, «пятогласную-то» развели, потом слышу и «кудрявую» ведут – совсем как у нас в Гавриковом! – не обессудьте-с, пожалуйте-с, вот близехонько у Василия Блаженного ... Наслышаны ведь про вас еще из Казани от Карповых...»36 и т. д., и т. д., и т. д. А я все слушал, соображал, продумывал и наблюдал. Мне казалось совершенно ясным в этой разноголосице, что и слабая попытка осторожно начать свое дело всколыхнула многое, что и эта мера нововведений бьет многих по самым разнообразным струнам, даже и не имеющим ничего общего с делом восстановления древних напевов, предписанным через тех же прокуроров, что и даже слабое начало окрыляет многое затаенное и ведет к фантастическим обобщениям и расширениям. Слушаться кого-либо в деле мне привычном и надобном вообще не в моей натуре, осторожность же и благоразумие, «кроткое упорство» были мне всегда свойственны. Я и решил потому идти своим путем, прямо и твердо, не дразня никого, лавируя между ветрами и подводными камнями и не кадя никому, но исподволь и не меняя общего курса утвердить принятое направление. Я решил прежде всего заставить Синодальный хор забыть ту дребедень, которую он знал, любил и к которой приучал других, потом выучить Синодальный хор древним напевам в той мере, с помощью которой эти напевы прямо бы пленяли своею русскою, родною красотою, и, наконец, поднять технику и художественный уровень Синодального хора с помощью музыкального общего образования и ознакомления с образцами истинного мастерства и истинного вдохновения. Конечно, Орлов был посвящен во все подробности этого плана и сам участвовал в его разработке, более же всего в его осуществлении. Конечно, и самое дело только и могло быть осуществлено с таким умным, опытным и прилежным помощником, как В. С. Орлов.
Для осуществления плана, кроме разделения служб на глупые и умные (с соответственным потому подготовлением пьес), мы разучили вновь всякие « ипатьевские» Херувимские, подчеркнули в них русские нотки, отделали их возможно изящнее; затем мы выбрали из итальянщины Львова и Бортнянского только самое лучшее и ограничились только этим, сдав в архив всю остальную дрянь; последними звеньями в этом плане были курсы для взрослых певчих и ряд таких вещей, как Реквием Моцарта, C dur’ная месса Бетховена, весь сборник «Musica sacra», несколько месс Палестрины, Пенитенциарные псалмы Лассо и прочее37. Ряд этот был выполнен в течение нескольких лет и при мне закончился изучением всех хоров h moll’ной мессы Баха. В этот ряд, благодаря советам С. И. Танеева, вошли многие другие сочинения, которых мы не имели сначала в виду. Изучение этих сочинений, в связи с теоретическими курсами взрослых певчих и особенно малолетних (для которых мы выдумали своеобразные краткие курсы элементарной теории, гармонии, контрапункта и формы для детей от 10 до 13–14 лет), чрезвычайно подняли интеллектуальность Синодального хора, начавшего петь умно и выработавшего превосходную голосовую технику. Начало этого совершенства относится к зиме 1893/94 годов, когда оно разбудило талант Кастальского, а затем П. Чеснокова, начавших писать под впечатлениями древних напевов и приемов старого мастерства.
Трудно представить себе ожесточенность борьбы, которую пришлось мне вести в деле обучения взрослых певчих Синодального хора! За таких «притесняемых» вступились всякие «любители» и «знатоки», настойчиво и злостно подчеркивавшие всякую мелочь, придававшие всему извращенный смысл, воевавшие и гласно, и анонимно, и в стенах училища, и в пределах московского певческого мирка, и в кабинетах сильных мира в Петербурге. Например, по поводу Реквиема Моцарта и Мессы Бетховена – стыдно вспомнить – приняли к сердцу обвинения в соблазне «синодальных» певчих латынью и filioque38; или вопили про стремления мои уронить «высочайшее» одобрение сочинений Бортнянского, про расшатывание мною традиций Успенского собора, про «извращение» мною смысла древних напевов, про склонность мою к расколу, про неуважение мое к опытным заслуженным певчим, которыми любуется вся Москва, про неуважение мое и легкомысленное отношение к вкусам Москвы, воспитанным «незабвенными» «песнотворцами» Багрецовым, Виктором, Феофаном и т. п. Особенно были возбужденны статьи в «Гражданине» кн. Мещерского, либо озаглавленные «Для чего же, наконец, существует Синодальный хор в Москве», либо подписанные «Один из десяти тысяч оскорбленных» и т. п. Не менее пылки были всякие анонимные памфлеты, весьма объемистые и крайне запальчивые, под заглавиями «Старое и новое в церковном пении», или «Упадок Синодального хора и зловредность его нынешнего направления» и т. п.39 Настойчивость нападений всякого сорта вынудила меня однажды заявить К. П. Победоносцеву, В. К. Саблеру и Шишкову, что всякое содержание всякого доноса может иметь двоякое значение: либо такого сообщения о чем-либо малозначительном, о чем я не счел надобным сообщить им сам, либо столь скорого сообщения, что я не успел еще сообщить о чем- либо по каким-либо причинам; третье значение всякого доноса и шантажа понятно само собою. <...>
Тем не менее ученье взрослых певчих все-таки шло своим чередом и Requiem Моцарта уже штудировался довольно твердо, несмотря на всевозможные, иногда прямо артистически брошенные под ноги препятствия. К 1892–1893 число старичков уже очень ослабло, а число молодых сил уже очень значительно окрепло, и дело вступило на вполне твердую дорогу. Заведенное мною пение хора не по отдельным голосовым партиям, а не иначе как по литографированным партитурам, которых к этому времени уже образовался большой запас, сделало хору незаменимую пользу, начав готовить отличнейших чтецов партитуры, умело слышавших все голоса в хоре и умело же знавших свою долю в ансамбле. К этому же времени первый набор взрослых певчих знал вторую гармонию и начал строгий стиль; к этому же времени подготовилась и окрепла опытностью целая партия отличных малышей, дискантов и альтов. Признаться, к этому времени созрели и сами руководители дела. Подучился Орлов, прошедший вновь курс у С. И. Танеева, начал я собирать библиотеку рукописей, и проснулся А. Д. Кастальский.
А. Д. Кастальского я застал в Синодальном училище преподавателем игры на фортепиано, ведшем этот класс при самых горемычных условиях. Немного понадобилось времени, чтобы разгадать этого очень умного, образованного и доброго человека, весьма самостоятельного в суждениях и весьма прилежного в работе. Талантливость Кастальского для меня несомненна, хотя и невелика, – знания же его прямо огромны. Кастальский – большой любитель живописи, любит цветы и чтение. Его жена Наталия Лаврентьевна – очень умная и образованная; оба они честные и добрые люди. В первые годы после женитьбы они были очень незажиточны, даже бедны. В молодости Кастальский как-то не доходил до самого конца в ученьи. Например, он прошел гимназию до восьмого класса и вышел перед окончанием курса; потом в консерватории дошел до второго года свободного сочинения и опять вышел, поступив затем военным капельмейстером в уездный город Козлов. Я начал свой поход на Кастальского тем, что, прогнав из Синодального хора вполне нетерпимого помощника регента Соколова, сущего лентяя и негодяя, ухитрился устроить милейшего «Кузьку» (так было прозвище любимца Кастальского в консерватории) «сверхштатным канцелярским чиновником Московской Синодальной конторы, откомандированным для занятий по должности помощника регента Синодального хора». Такое длинное название потребовалось для того, чтобы Кастальский имел права службы, так как он, как не кончивший нигде никакого курса, не мог занять место помощника регента и как не имевший к тому же никакого чина. Полученное таким образом лучшее обеспечение при казенной квартире приподняло дух Кастальского и дало мне возможность приступить к дальнейшей атаке. Я начал напевать в уши Кастальскому, что на него начинают косо смотреть в Петербурге как на не имеющего диплома «свободного художника», что мои переговоры с Сафоновым и Танеевым рисуют полную для него, Кастальского, возможность выдержать в консерватории выпускной экзамен по композиции. Два года тянулось мое лганье и пуганье Кастальского, равно как большее и большее забирание его в наш училищный мирок. На беду, Кастальский оказался преплохим регентом, склонным более к классным и кабинетным занятиям, чем к энергичному управлению хором. Тогда я напер на него еще посильнее, требуя окончания курса и выставляя надобность защитить хоть меня от упреков в ошибке моего выбора... Я упросил и убедил Кастальского приняться за композицию в направлении разработки древних роспевов. Наконец-то милейший Кузька засел за работу, сдал блестяще экзамен и написал «Милосердия двери» и опыты гармонизации сербского роспева. Последние только и спасли Кастальского от упрямых и жестоких попыток Ш2 удалить Кастальского от службы, несмотря на всякие мои заступничества. Ш2 никак не мог понять значение опытов Кастальского и все глядел на него как на никуда не годного помощника регента. Только великолепное исполнение Синодальным хором этих сочинений и вполне серьезные газетные рецензии вразумили наконец Ш2, и он оставил Кастальского в покое. В этом покое Кастальский развернулся, окреп и вышел на свою дорогу, то есть не композитора, а ученого археолога, где его имени предстоит несомненное и блестящее будущее. Зачем он теперь регентом – понять трудно, как все у Ш2.40 <...>
Это время было самое счастливое в моей жизни в Москве. Все работало искренно, энергично и очень успешно. Очевидные успехи дела заметили наверху, оценили в Успенском соборе и дома. Поэтому несколько лет прошло в тишине, в дружбе, во взаимном полном доверии и потому в радостном труде, во взаимной поддержке и в светлых упованиях на будущее. Ш1 совершенно устранился от дела, и затем, по своим неладам в Синодальной типографии, ему было совсем не до нас, да и мы окрепли сами по себе и в мнении других. Но недолго продолжалась наша идиллическая трудовая жизнь. Явилась персона, нашедшая, что мы совершенно виноваты в очень многом и потому решившая разрушить наш душевный мир и нашу радость в работе. Именем этой персоны озаглавлен последний параграф этой главы.
Прокурор князь А. А. Ширинский-Шихматов
<...> Первые месяцы моей совместной службы с Ш2 были очень мирны, а пред упредительно-любезное с его стороны внимание и содействие были в свою очередь поводом с моей стороны платить ему тем же. Не надобно было, однако, много времени, чтобы убедиться в его наиполнейшей некомпетентности в музыке и его достаточно высоком по этой части самомнении. Вскоре же определилась его редчайшая самоуверенность в области церковного пения и крайняя настойчивость, вполне бесцеремонная и, по правде сказать, глупая и вредная, которую Ш2 проявил в желании во что бы то ни стало быть вполне «Управляющим» Синодальным хором и училищем. Желание Ш2 быть самым полным хозяином во всем было высказано нам вполне ясно, и затем прокурор стал держать нас всех при себе разве только на посыльных и на побегушках, в роли безответных исполнителей его приказаний, в роли совершенно ограничиваемых в какой бы то ни было инициативе и в роли обязанных трепетать от помысла как-либо не угодить своему начальнику, как-либо не подслужиться... К чести Ш2 следует признать, однако, прежде всего, что болото, в виде его собственно прокурорской области ведения, было им дренажировано весьма энергично, а в воровстве, практикуемом под любыми видами в Синодальном ведомстве, Ш2 решительно не причастен. <...> Кроме того Ш2 должен быть по всей справедливости признан чрезвычайно энергичным работником по строительной части и в этом отношении сущим, незабвенным благодетелем Синодального училища. Здания собственно училища, здания для певчих, дома доходные, деньгами которых Синодальное училище существует, есть самая неоценимая заслуга Ш2, стоившая ему массы труда, энергии и всяких тревог и неприятных сюрпризов. Помещения Синодального училища до Ш2 и по перестройке им же – земля и небо41. <...>
Немалую заслугу, хотя и не полную, еще не удавшуюся к разверстанию, оказал Ш2 Синодальному хору в деле о Теплых рядах (на Ильинке), подаренных еще патриаршим певчим царями Иваном и Петром Алексеевичами. Акционерная компания, решившая арендовать гостиницу «Славянский базар», принадлежащую Синодальной типографии, вместе с Теплыми рядами, воспользовалась тем, что синодальные чиновники решили о «единообразии кассы Св. Синода», то есть что плата за то и другое поступает в один карман Синода. Так как прокурор Московской конторы был (до Шишкова) и заведовавшим Синодальным хором, то плату за «Славянский базар» в 60 тысяч переименовали в плату 180 тысяч, бывшую на самом деле за Теплые ряды, и наоборот. Эту штуку проделали потому, что синодальные певчие были безответны, а чиновники типографии, вместе с прокурором, были заинтересованы в увеличении «типографского капитала», ибо проценты шли прямо в их карманы. Понятно, что акционерному обществу не было никакого дела до того, как распределяется его плата в 240 тысяч. Этот фортель относится к тому времени, когда так называемый «Давыдовский корпус» (на углу Дмитровки и Газетного переулка) мог быть выстроен без капитальных стен и мог приносить убыток (1) чуть не 20 лет подряд. Ш2 следует отдать полную честь в том, что он хоть обнажил это воровство, выстроил новые дома и если не отвоевал похищенное у синодальных певчих, то хоть обстроил их и Синодальное училище. Когда я добивался возвращения хору всего незаконно отнятого у него типографией, мне ответили в Синоде не без остроумия: «Чего вы добиваетесь? Синодальная типография наша, синодальные певчие тоже наши, следовательно и деньги тех и других также наши, а в каком кармане эти деньги лежат у нас или как расходуются – никому нет дела»42. <...>
Но, впрочем, несмотря на мои нелады с Ш2, я всячески не подпускал его к делу, и потому это дело все еще продолжало прогрессировать до начала 1897 года, когда был нанесен первый и жестокий удар Синодальному училищу предложением сократить преподавание музыкальных предметов. Удар был мне так тяжел, что я слег и побаивался за свою небывалую у меня до того жестокую хандру. Душа моя болела невыразимо. Ряд клевет, гнуснейших передергиваний, искусно скомбинированных, поддерживали предписания князя Педагогическому совету. Несколько долее удалось продержать вне грубых же воздействий князя хоровую часть, высшая степень развития которой приходится на Вену и успешное изучение h moll’ной мессы Баха, то есть 1899–1900.
Коренная разница во взглядах на учебное дело между мной и Ш2 состояла в том, что я нисколько не гнался за практическим умением моих учеников в регентском деле, тем более что придуманные мною домашние всенощные уже были испорчены в форму домашних концертов. Я полагал в то же время всю силу регентского образования в наилучшем научном и музыкальном курсе, особенно же теоретическом, и в практических занятиях направления ланкастерской школы43. Я рассуждал и по собственному регентскому 17-летнему опыту, и по местным на Никитской условиям, что для будущего моих учеников гораздо выгоднее набить в училище свою голову, чем набить руку. Князь предполагал, конечно, наоборот. Поэтому во все годы моей совместной службы с Ш2 мне приходилось спасать Синодальное училище от всячески навязывавшейся мне ремесленности и уберегать заведенное мною в нем художество. Только близорукое незнание и непонимание могло требовать от Синодального училища немедленно по окончании курса мастерства в регентском деле, ныне якобы достигаемом его учениками, обездоленными по части музыкальных курсов. Я полагаю и сейчас с полным убеждением, что цель учебного заведения – учебное дело, воспитание людей в их детстве и что, подобно тому как университеты не дают ни практиков-врачей, ни судей, ни судебных следователей, ни филологов или математиков преподавателей, как всякие академии не дают готовых практиков-инженеров и т. п., так и регентское дело, как искусство практическое, может и должно быть усвоено в школе учениками лишь отчасти и только в главнейших своих чертах. Ведь нетрудно понять, что для выработки из ученика опытного регента нужны хор и церковные службы, а не практические уроки, отнимающие притом массу времени. Эту массу времени, эту разницу между тратой на усиленные или на только необходимые занятия для развития дирижерской находчивости, ясности и умеренности указаний, я и употреблял на развитие общее как в научно-образовательном, так и в музыкальном курсах. Мои ученики кончали курс в 18–19 лет, то есть в возрасте, не допускавшем для них возможности быть преподавателями духовных семинарий (ибо семинаристы оказались бы старше годами и вообще развитее и образованнее своего учителя пения), и в возрасте, при котором было бы нелепо окунуться в омут и грязь любого архиерейского хора. Поэтому, ввиду обязанностей шестилетней службы по духовному ведомству за обучение в Синодальном училище на казенном содержании, я вел своих учеников на возможно широкую образовательную дорогу, намечая для них деятельность сейчас же по окончании курса не более как в роли учителя пения в духовных училищах, с возможностью притом иметь частные заработки уроками теории, игры на фортепиано, скрипке, виолончели, с возможностью притом учиться далее самому. Этого взгляда я держался в то время, когда я должен был приготовить первые выпуски из кое-как на первые годы налаженного Синодального училища, которое я застал для своих целей в 1889 году совершенно неподготовленным решительно ни в чем. В верности этого взгляда я утвердился и в последующие годы, когда наблюдение и руководство деятельностью моих учеников по окончании ими курса убедили меня, что они стали достойными и умными работниками. Наконец, я стою за верность этого направления теперь, когда я более не в Синодальном училище и когда ошибки ремесленного направления, то есть якобы «ведущие прямо к указанной (да еще «Высочайше») цели», успели уже заявить о себе с достаточною горечью. Мои ученики, ныне мои товарищи в Капелле Саша Чесноков, Павел Толстяков и Миша Климов – разве не мастера своего дела?44
Конечно, личные отношения мои с Ш2 были виною, кроме его упрямства и близорукости, в том, что Синодальное училище поплатилось дорого, несмотря на все мои старания уменьшить цену этих отношений за счет учеников. Ш2 – убежденный бюрократ и упрямый начальник, я – самый отъявленный враг канцелярщины и очень плохой «подчиненный» ... Найдись у Ш2 побольше ума и поменьше озорства, пожалуй, нашлось бы и у меня побольше покорности и поменьше самостоятельности. Конечно, и я стал дурным. <...>
Одним из главных тормозов в развитии Синодального училища было то, что по вине Синодальной канцелярии, частью же и потому, что в самом Синоде смутно представляли себе суть нашего дела, вопрос о правах учеников, кончивших курс в Синодальном училище, задержался разрешением с 1886 вплоть до 1898 года. Такое двенадцатилетнее бесправное состояние Синодального училища чрезвычайно тяжело отразилось в судьбе всех его бывших учеников по отношению к воинской повинности. Ученики должны были поступить в солдаты наравне с неграмотными, так как бывшие права училища (как духовного низшего) были уничтожены, новые же права не утверждены45. Все дело тормозилось тем, что программ ни научных, ни музыкальных предметов предварительно выработано не было, и учрежденное училище попало затем в период наиболее обостренных отношений между рясами и фраками в Св. Синоде. Первые, то есть архиереи, открещивались от Синодального училища как от подчиненного не им, а прямо обер-прокурору, а фраки тянули дело и из-за своей лени, и вследствие выжидания хоть какого- нибудь умиротворения, так как без ряс они одни решить дело не имели права. Таким образом, первые «Временные правила» 1886 года глухо упомянули, что права служащих и учеников Синодального училища будут определены особым положением. Почти то же было буквально повторено в уставе 1892 года (§ 981). Когда бесправное состояние Синодального училища стало уже грозить крупными лишениями для кончивших курс, когда мне пришлось бегать, хлопоча чуть не за каждого мальчика, когда пришлось прибегать чуть не к подлогам, чтобы спасти наших учеников от солдатчины, – я взмолился в Санкт-Петербурге и упросил Победоносцева вступиться наконец за нас и ускорить дело. Результатом этого, как и моих требований от князя, был новый проект устава, составленный Ш2 и державшийся от меня в тайне. Но у меня хватило настойчивости, несмотря на все уловки Ш2, вытребовать себе этот проект для прочтения и представления замечаний. Как и следовало ожидать, этот проект во весь рост обрисовал степень непонимания Ш2 педагогического дела и всю ширину его мечтаний о будущем существовании, так сказать, Синодального училища при прокуроре, а не наоборот. Я, прочитав устав, возмутился столь глубоко, что просил Ш2 разрешить представить замечания не одному мне, а вместе с главными моими сотрудниками. «Пожалуйста, – сказал Ш2, – только к чему это поведет?» Помню, что когда мы прочитали главу проекта о правах прокурора по отношению к Синодальному училищу, то старший воспитатель воскликнул: «Да что он в самом деле: белены объелся или с ума сошел? Ведь это вздор какой- то: ведь «я, я, я“ – когда же мы-то будем хоть писк издавать в своем же деле? Ведь прокурор-то должен быть работник в Синодальном училище, а тут выходит, что Синодальное училище его усадьба, а мы его безотрадные и бессловесные крепостные». Помню и то, что я крепко возмутился и в несколько дней написал не только возражение и подстрочно опровергающие примечания на проект устава Ш2, но набросал вместе и свой проект устава Синодального училища, в котором вопрос об удалении прокурора от управления училищем был поставлен в первую голову, взамен же того была дана самостоятельность директору. Со времени подачи мною этого проекта, где я, конечно, не стеснялся нисколько и имел в виду лишь надобности действовать прямо и откровенно, мне и Ш2 ничего не оставалось кроме самого полного, безнадежного к примирению разрыва, даже разрыва в смысле прекращения сколько-нибудь сносных наружных общений. Князь прекратил посещения Синодального училища, я прекратил посещать Синодальную контору, при встречах мы либо молча здоровались, либо отворачивались друг от друга, либо я ограничивал ему свои ответы словами: так точно, слушаюсь, не могу знать и т. п. В это время начат был поход под знаменем «divide et impera»46, обнаружившийся только потому, что нашлись и между моими товарищами такие люди, которые не поддались ни на посулы, ни на подачки и имели мужество убеждать князя во всей неблаговидности его действий. Вскоре оба проекта устава были пропущены через горнило Синодских канцелярий, прошли через руки такого хамелеона, как член учебного комитета ревизор Петр Иванович Нечаев, и дело вернулось в Москву для обсуждения на месте. Это обсуждение происходило в ряде заседаний в квартире князя при участии Нечаева и Саблера. Это было в октябре 1896 года.
Я не помню в своей жизни более жестоких дней, как эта бурная неделя. На первом же заседании, затянувшемся с семи часов вечера до двух часов ночи, я воевал с моими тремя оппонентами, и, измученный их упрямою канцелярщиною и нежеланием не только отстранить прокурора от Синодального училища совсем, но даже и отмежевать ему административную часть, я заявил наконец так: «Сжигаю свои корабли! Если параграф устава, вполне гарантирующий самостоятельность директора в учебной, воспитательной и художественной частях, не будет изложен без всяких уверток и недомолвок, если прокурору не будет совершенно категорично воспрещено путаться не в свое дело, – нечего мне больше делать в этом заседании, и обещаю вам в день утверждения устава подать прошение об отставке. Ни один уважающий себя директор Синодального училища, то есть умный учитель и художник, не будет иметь возможности при своей бесправной ответственности и при безответственной власти прокурора вести свое дело успешно и достойно. Я говорю эти слова вполне твердо и безусловно, измученный двумя прокурорами, и не могу идти в этом вопросе на какие бы ни было уступки. Если вы все желаете доставить будущее Синодальному училищу – оберегите его от ненадобного и вредного начальства и доверьте все дело доверенному директору; если нельзя обойти прокурора – дайте ему место № 0 в областях, которые нечего и поручать ему, хотя бы и косвенно. Прокуроры были и будут чиновники, могли и могут даже не знать нот, – зачем же им давать в руки высшее руководство специальным делом?» Нетрудно представить лица моих собеседников, не ожидавших такой резкой категоричности. Начались уговоры, сопоставления, аналогии параграфов устава и всякие канцелярские увертки. Наконец, я встал... «Как вам будет угодно, господа, – сказал я. – Мне нечего более делать с вами, так как мое требование вполне безусловно». Простившись со всеми, я ушел из заседания в величайшем волнении и не спал всю ночь, обдумывал дальнейшие атаки, ибо предчувствовал, что все-таки меня обойдут мои оппоненты.
Так действительно и случилось. Заседание следующего дня было ведено Ш2 по рецепту ошельмования всего направления деятельности Синодального училища с помощью обычного у Ш2 умолчания о хорошем и искусного комбинирования всего неудачного. К полному моему огорчению и вполне для меня неожиданно, моим оппонентом, за которого укрылся князь Ш2, выступил В. С. Орлов. Правда, вид Орлова был довольно растерянный, и ему было стыдно говорить против меня... Тем не менее собранию надо было выслушать возражение и понятным всякому большинством голосов присоединиться к нему47. <...>
Душа моя заболела от огорчения. Любимое мое дело было ошельмовано, и о дальнейшем сопротивлении компании из Ш2, Нечаева и Саблера нечего было и думать.
Новый устав, утвержденный государем восьмого июня 1898 года, значительно все-таки сократил (к сожалению, лишь на бумаге) права прокурора, хотя и не размежевал области ведения его и директора. Хорошо было по крайней мере хоть то, что Синодальное училище получило права среднего учебного заведения, а преподаватели – права службы. Промахов – конечно, масса, что доказывается тем, что сейчас (1902 год) на практике уже существует множество отступлений от непрактичного устава. <...>
Между тем два года, предшествующие этому злополучному 1897 году и двум последующим, были временем высшего развития Синодального хора, поставленного моими же трудами совместно с Орловым, но толкуемого мне же в укор, как будто бы я же тормозил деятельность Орлова, и я же мешал «сохранению традиций». Мне прямо в лицо говорили упреки в увлечении старыми напевами, в увлечении новыми течениями мною же подбадриваемых Чеснокова, Кастальского и Гречанинова, в увлечении хора классической католической музыкою, одним словом, во всем я был виноват, даже в увлечении Орлова. «Помните, что вы все не более как самые простые певчие, – резко воскликнул однажды Саблер, – нам не нужны ни исторические концерты, ни новые веяния, ни ученые работы! Нам нужны хорошие певчие в Успенском соборе!» Что оставалось делать при таких натисках!
Между тем новые дороги уже были найдены, обдуманы и частью даже привычны. Я уже упоминал, как был выработан план развития Синодального хора и как была осторожно протоптана первая тропинка в приучении богомольцев Успенского собора. Несколько лет упорного и строгого последовательного труда сделали свое дело, так что направление окрепло, нападки же стали запоздалыми. Личная почва этих натисков вынуждала к личной обороне, в пылу которой натиски Ш2 и Саблера попадали только в меня, делу же собственно даже и не могли вредить очень сильно. Приходилось лавировать, пришлось дать два-три глупых концерта, пропеть пять-десять глупых обеден и тем дело покончилось, так как здоровая дорога уже была крепкою и надобною.
Главными моими сотрудниками в этом деле выяснились впоследствии Паша Чесноков, начавший писать еще бывши учеником Синодального училища, и Александр Дмитриевич Кастальский, менее других – Александр Тихонович Гречанинов. Начали было сотрудничать мои ученики в консерватории – Корещенко, Гольденвейзер, Рахманинов, Глиэр, Сахновский, но они не были певчими и не уловили характера, да и не были тверды в знании напева. Из них горячо было взялся Сергей Васильевич Рахманинов, написавший даже симфонию, затем Глиэр, принявший близко к сердцу церковные знаменные напевы и разработавший уже многое, затем Сергей Никифорович Василенко (в «Сказании о граде Китеже») и другие. Но пока толку из них для моего дела еще не вышло. Писали также С. Н. Кругликов, А. А. Ильинский, Ипполитов- Иванов, но без особого успеха48.
Паша Григорьевич Чесноков несомненно талантлив, знает хор, но школа его пошла немногим далее Синодального училища, а хлопоты мои двинуть его далее не удаются, да и меня к тому же вытащили из Москвы. Я считаю Пашу выше Кастальского по дарованию. Милейший Александр Дмитриевич Кастальский долго упирался, пока я не заставил его держать выпускной экзамен в Московской консерватории, который он и выдержал блестяще в качестве теоретика. Мои занятия с ним по истории церковного пения не шли далее консерваторского курса, но по окончании экзамена я ухитрился заставить Кастальского заняться композицией, и таким образом появились все его сочинения, из которых лучшие, то есть три свадебных концерта, он не решается печатать почему-то49. Некоторые строки удались Кастальскому удивительно. Гречанинов, также хорошо чувствующий русский напев, начал мудрить и злоупотреблять красками. Придет время – опростится и, Бог даст, запоет хорошо. Пока же «младая кровь играет». Мои птенцы, которых я перетащил в Капеллу, то есть Саша Чесноков (брат Павла младший), Паша Толстяков и Миша Климов, еще молоды. Очень было начали меня радовать ученики мои в консерватории Клечковский и Яворский50, но не надолго, ибо их увлечения склонились более на почву этнографии славянской.
Главные, вполне определенные мысли о значении для будущего и самих по себе древних русских напевов сложились у меня еще в Казани, при занятиях в библиотеке Соловецких рукописей. Приехав в Москву в год самого разгара моих занятий, сейчас же по напечатании мною Азбуки Мезенца, я невольно почувствовал себя сиротою и как без рук, не имея возможности работать по памятникам. Это лишение и было причиною того, что вскоре после приведения Синодального училища в порядок я начал понемногу собирать рукописи для Синодального училища. Мои лекции в консерватории понуждали меня в надобности иметь под рукою полный подбор подлинных памятников. Три удачи навели меня на мысль о возможности для меня в Москве собрать хорошую библиотеку, а неожиданно явившиеся рукописи хорового пения XVII– XVIII веков открыли мне вполне новые горизонты, так как мои бывшие до того сведения именно по этой части были недостаточны и даже не точны. Эти три удачи и новости сильно подбодрили меня, и я взялся за собирание рукописей со всею своей энергией.
Первая удача была в том, что мой бывший товарищ, законоучитель Казанской учительской семинарии отец Никифор Тимофеевич Каменский, ставший Никанором, епископом Архангельским, вдруг вспомнил обо мне и прислал мне для определения достоинства с десяток прелестных рукописей из какого-то дальнего монастыря. Я ухватился за случай и упросил Никанора циркулярно предписать по епархии выслать, что найдется, к нему, а его – передать все в Синодальное училище. Следствием моих горячих писем к Никанору явилось прибытие нескольких тюков с рукописями. Упоенный прибывшим богатством, в котором нашлось несколько самых восхитительных экземпляров, я кинулся по московским монастырям и по первому разу, прибыв в Новоспасский монастырь, просто отнял у добродушнейшего Нафанаила-старца, епископа, целую уйму хоровых рукописей, которую тут же и увез на двух-трех извозчиках. В этот же поход, явившись в Андрониев монастырь, я нашел ученого Сергия, архиепископа Владимирского, и горячо просил его собрать мне рукописи его епархии. «Бумажку позвольте с изложением дела», – сказал он, улыбаясь моей горячности. Оказалось, однако, что и он сам был не холоднее меня. Вследствие моей «бумажки» было дано предписание по епархии о доставлении в месячный срок в архиерейский дом всех рукописей, которые только найдутся. Через полтора-два месяца я ездил во Владимир и вернулся оттуда не только подавленный массой приобретенных рукописей, но еще более того невообразимой массой новостей самого выдающегося интереса. Я упросил Ш2 уступить мне комнату рядом со своей царскою по Никитской улице, уступить мне старые шкафы из Синодальной конторы, и таким образом библиотека рукописей, весьма уже внушительная по объему, более же того упоительная по содержанию, уставилась как-то сразу. Не помню, чтоб когда-либо в моей жизни я работал так одушевленно и так много, как в эту пору. Я вставал ежедневно в пять-шесть утра и работал буквально целый день. Своими расширенными знаниями древнего одноголосного и многоголосного пения я обязан работе именно этого времени, когда я тщательно разобрался в содержании всех рукописей и начал составлять каталоги. Новостей для науки в это время было констатировано множество.
Эта необыкновенная удача, однако, только раззадорила меня. Я принялся за московские монастыри, обокрал с помощью архиереев епархии Вологодскую, Олонецкую, Ярославскую, Тульскую и Полтавскую. Съездил сам в Тверь, в Новгород, в Ярославль, в Кострому, стащил везде все. Аппетиты мои так разгулялись, что я, наконец, стащил весь певческий отдел Московской епархиальной библиотеки. Огромное уже количество рукописей, их порядок и составляемые каталоги подоспели к времени перестройки училищного дома, и я убедил Ш2 сделать для библиотеки нынешнее ее помещение в том виде, в каком я передал библиотеку со всем моим трудом в собственность Синодального училища.
Эта каменная комната была и раньше в юго-восточном конце дома синодальных певчих. Она очень старой постройки и имела каменный свод. Я упросил Ш2 отдать эту комнату под библиотеку рукописей как стоявшую в углу здания, то есть до некоторой степени более изолированно. Ш2 предложил мне старые железные оконные ставни и такую же дверь, оставшиеся после ремонта Мироваренной палаты, затем в комнате был сделан пол из каменных плиток. Полки-шкафы были устроены мною, после чего по форматной системе были размещены рукописи. Сюда же я стащил старомоднейший диван со столом красного дерева, свой большой рабочий стол, гармониум и прибавил ко всему маленький умывальник. Помещение это было сухое, маленькое, но очень уютное, выглядывавшее даже красиво. После эта комната была еще дополнена витриной вдоль окон, чтобы демонстрировать более интересные рисунки и разные экземпляры для посетителей.
Неприятные мои отношения к Ш2 повели к тому, что мой дар был принят молча. <...> Мне не только не сказали «спасибо», хоть что ли, но даже назначили комиссию для поверки – все ли состоящее налицо внесено в каталоги и не записано ли мною в них чего-либо не существующего. Один остряк по поводу такого распоряжения Ш2 даже заметил, что, пожалуй, за неумелое в чем-либо ведение Ш2 отстранит меня от заведования библиотекою и назначит кого-либо с целью учесть меня за растрату, так как в самом деле имущество, переданное мною, уже стало казенным и я заведовал им без получения надобного от Ш2 разрешения. В последние годы моей жизни в Москве этот благодатный для меня уголок, в котором я забывал все, в котором я чувствовал себя вполне свободным и отдыхал душою, был для меня сущею отрадою. Масса богатейших материалов, особенно же по части хорового пения XVII и XVIII веков, доставила мне возможность каталогизировать совершенно новые страницы в истории церковного пения. Общий облик библиотеки и общий очерк ее научного значения был мною напечатан в «Русской музыкальной газете» (1899 год) в виде «Краткого предварительного сообщения»51.
Эту статью я, сколько помнится, начал писать после своеобразного моего торжества в полном одиночестве 18 июня 1898 года: записывая в каталог новые получения, я дошел до номера 1000. Меня вдруг охватило непонятное и чрезвычайно сильное волнение. Надобно было записать номер 1001, но я буквально не мог, руки дрожали, сам я почему-то начал ходить по библиотеке и даже благословил ее, высказывая ей добрые пожелания всякого успеха в руках будущих работников. После этого я написал письмо к К. П. Победоносцеву, приглашая его разделить мою радость. Судьбе угодно было, чтобы в этот день около меня решительно никого не было, даже ученики ушли в загородное гулянье со всей прислугой.
Я озаглавил так эту статью потому, что, по правде сказать, мне и в голову не приходила мысль, что я мог когда-либо расстаться с Синодальным училищем; я предполагал написать по готовым уже материалам большое сообщение с приложением тематического лексикона и всей суммы моих наблюдений над множеством рукописей, часть которых по своему содержанию даже и не была в виду ранее по совершенной их прежней неизвестности. Судьба, как и с соловецкими рукописями, устроила мое преждевременное удаление и на этот раз. Я выехал из Москвы, так же, как и из Казани, все приготовив, все сделав, но не напечатав своей работы. <...>
Тем не менее при первом же получении хоровых сборников я задался мыслью, имея в виду и сборники Епархиальной московской библиотеки, что в Петровском монастыре, утилизировать немедленно новые страницы из истории русского церковного пения и преподнести их вниманию публики в виде серии исторических концертов. Я проиграл с учениками моими (то есть смычками вместо горл) по хоровым партиям массу вещей и, наконец, составил программу шести Исторических концертов. Это было осенью 1894 года. Смерть Александра III помешала дать их, почему историческая часть была значительно сокращена, и вместо шести мы дали три концерта (3 февраля, 3 и 20 марта 1895 года). К этим концертам была мною написана брошюра под заглавием «Обзор Исторических концертов», в которой между строк было напичкано мною множество всяких намеков во все стороны52.
Я очень увлекался мыслью о том, что Исторические концерты должны составить прототип всех концертов Синодального училища на много лет вперед, и, признаться, очень подробно обдумывал как программы, так и объяснительные к ним тексты. Подобно первой брошюре об Исторических концертах 1895 года, мною тогда же была заблаговременно написана вторая, для концертов 1896 года, но... Ш2 нашел, что он не занимает в Исторических концертах первого места, что он только прокурор, хотя и «управляющий» Синодальным училищем и хором. Масса рукописных хоровых сочинений была так разнообразна и содержательна, что концерты 1896 года вырисовывались еще интереснее, чем 1895 года. Мне помнится, что я намечал для них «Стихотворный календарь» Симеона Полоцкого53, несколько кантов и псальм Василия Титова, двенадцатиголосную обедню Рачинского («киевского»), «Тебе Бога хвалим» с оркестром сочинения Сарти, заимствования из сочинений немецких классиков, глупые сочинения русских extra-итальянцев и, наконец, после Львова, Бахметева – нашу московскую новизну... Но мы уехали в Петербург и, вернувшись, давали зачем-то пустопорожние концерты, оказавшиеся столь неудачными, что после четырех-пяти сам Ш2 догадался прекратить их.
Исторические концерты Синодального хора были первым серьезным дебютом хора, так как в этих концертах были показаны и способность хора исполнять сочинения всякого стиля, всякого времени, и вместе с тем вся уже весьма внушительная хоровая техника, так как некоторые сочинения были включены в программу ввиду именно легкости победы хора над любыми техническими трудностями. Приготовлены эти концерты были вполне великолепно, и я помню, что некоторые труднейшие места, например, в концерте Маурера, были выучены прямо удивительно.
Техника Синодального хора, умение петь с листа в это время (то есть в 1894 году) были уже очень внушительны. Я припоминаю, что я познакомился в это время с Архангельским, который с первого раза удивил меня техникою своего хора, распевавшего очень хорошо старых немцев и итальянцев. Обедая у меня, Архангельский не без удивления услыхал, что и Синодальный хор поет с листа все что угодно. Когда на лице Архангельского высказалось какое-то недоверие к моим словам, я сказал ему, что для него нет ничего легче, как изобличить меня в преувеличении. «Приглашая вас завтра утром на спевку, я прошу вас принести с собой все, что вы выберете сами, предполагая, конечно, что-либо трудное и незнакомое Синодальному хору». Архангельский принес наутро свою новую вещь, затем взял от Юргенсона только что напечатанные партии ораторий Генделя «Иевфай» и «Иосиф в Египте». Конечно, все эти вещи были исполнены Синодальным хором тут же без всякого затруднения, с листа, прямо со словами и с оттенками54.
Быстрые пассажи в концерте Веделя «На реках Вавилонских», труднейшие по интонации переходы Эсаулова были в это время уже нипочем Синодальному хору. Нетрудно представить поэтому и успех хора, и быстро потому поднявшуюся его репутацию. Концерты были осмыслены, кроме моей брошюры о них, еще и выставкой весьма значительного количества старых рукописей, снабженных объяснительными записками, по которым был виден порядок всех главных художественных движений в области церковного пения, как крюкового и нотного одноголосного, так и хорового в XVII и XVIII веках. Единственное, однако, огорчение, которое я, признаться, и ожидал, состояло в том, что пение итальянцев (Сарти, Галуппи, Сапиенцы), сочинения итальянцев из русских (Дегтярева, etc.) понравились публике всего более и, как звучные и сладкие, произвели впечатление не отталкивающее по своему виртуозному пустомыслию, а чарующее от превосходного исполнения. Мне было, впрочем, досадно повторение этого впечатления, когда Историческими концертами заинтересовался московский генерал-губернатор великий князь Сергий Александрович и слушал концерт, данный специально для него с великою княгиней и для их приближенных, как и для высшего московского общества. Наибольшее впечатление произвели Сарти, Галуппи, Виктор, Ведель, Дегтярев и тому подобный вздор. Эту досаду я испытал при первом случае, когда их высочества удостоили вниманием Синодальный хор и посетили училище. Впоследствии оказалось, однако, что впечатления были так сильны, что такие посещения стали ежегодными и внимание великого князя стало высказываться при всяком удобном случае, что, конечно, было очень выгодно для Синодального хора и впоследствии косвенно отразилось даже и на мне, так как помогло в деле перемещения меня в Придворную капеллу. С другой стороны, Исторические концерты возбудили интерес к Синодальному хору в Петербурге, и только этим можно объяснить поездку хора для концерта в зале Победоносцева, бывшего 7 марта 1896 года.
Между этими событиями техника Синодального хора стала подниматься еще более, так как мы, осилив весь сборник «Musicasacra», выучили знаменитую палестриновскую «Мессу папы Марчелло», открывшую всем нам глаза на очень многое, так как мы уже привыкли петь по партитурам. Для меня эта месса была сущим откровением, и по ней я убедился, что за разница между ученьем таких вещей за фортепиано и ученьем по партитуре, проследив каждый номер раз 15–20. Только тут я понял, как велик Палестрина и как недосягаемо его восхитительное мастерство, полное вдохновения, встречаемое разве только у Баха. Синодальный хор после выучки такой мессы вырос в первоклассного хорового артиста, и техника такого хора, сколько я помню себя, стала выше всего, что только мне приходилось слышать в моей жизни. В хоре появилось благороднейшее сознание своего мастерства, ничего не имевшее общего с самомнением, но, наоборот, развивавшее в хоре ту скромность, которая присуща хорошему артисту, – появились удивительно тонкая дисциплина и, кстати сказать, вполне неожиданное улучшение жизни самих певчих, улучшение их поведения вообще и отношения к службе. Певчие (то есть взрослые) поняли, что они участвуют в хорошем, выдающемся деле и оценили это дело вполне по его достоинству. Они оценили и музыку серьезную, и своего регента Орлова, положившего в них весь свой прилежный труд. Нетрудно понять, как быстро продвинулась после такой подготовки техника и начитанность Синодального хора.
Но это же исполнение мессы Палестрины, которое я понимал для музыкальной Москвы как редкий случай, когда можно было бы услышать такое сочинение, дало мне урок вполне неожиданного содержания; Я заготовил для вечера 10 октября 1896 года изрядное число лишних наших литографированных партитур этой мессы, предполагая дать их слушателям-музыкантам. Приглашения мои, адресованные директору консерватории Сафонову и наиболее видным музыкантам Филармонии, были встречены вполне недружелюбно. Сафонов попросту спрятал мое приглашение под сукно и не оповестил о нем ни учеников-теоретиков (бывших, однако, всем классом с С. И. Танеевым), ни преподавателей, а музикусы Филармонии, не желая встретиться с В. И. Сафоновым, поголовно блистали отсутствием... Характернее всего то, что Сафонов грубо высказал мысль, что «не идти же консерватории учиться у Синодального хора», а князь Ш2 истолковал мне отсутствие музыкантов как самое убедительное доказательство полной нелепости моего направления... <...> Достойно упоминания и то, что на одну из репетиций я пригласил великого писателя графа Льва Толстого, живо интересовавшегося палестриновской музыкой, которой он никогда не слыхал. Старца я, конечно, принял под великим секретом у святых отцов, но он совершенно не понял Палестрину. «Это что-то дикое, инквизиторское, – что- то странное, непонятное, – какая-то музыкальная пытка», – был отзыв моего гостя... Конечно, этот гость был в грязной блузе, в высоких валяных сапогах, волосы его были нечесаны... но глаза! Боже мой, что за глаза, что за блеск этих глаз под густою тенью нависших бровей!
В связи с ходом хора вперед стоит поездка Синодального хора в Петербург. Мысль об этой поездке не нравилась Победоносцеву, но очень улыбалась Ш2, которому хотелось рекламировать хор, уже достаточно заявивший о себе в Москве. Ш2 принялся за Екатерину Александровну Победоносцеву, посулил ей выручку с ее концерта в пользу ее школы, и дело тут же уладилось. Поездка наша, дружеская, товарищеская, обратилась в какую-то живую поэму идиллического свойства. Я живо помню, как Ш2, уже очень не ладивший со мною, был удивлен дисциплиной моей школы, в которой не было ни крика, ни наказаний, но был дружный и точный, вполне благодушный, веселый порядок и наиполнейшее повиновение. В нашу компанию увязался милейший Сергей Андреевич Комаров, очень украсивший всю поездку своим неудержимым весельем. Поездка эта в сущности была обставлена в самые невозможные условия, отягчившиеся к тому же невообразимо скверной погодой. Достаточно сказать, что мы, никогда не ездившие, волнующиеся от новых впечатлений и от концерта в незнакомой зале, перед незнакомой публикою, должны были дать этот ответственный концерт в день приезда, не отдохнув от бессонной ночи. Общее состояние духа, однако, было очень энергичное, так как, кроме уверенности в себе, мы порешили еще в Москве, что ездить в Петербург с целью дать заурядный концерт было бы бессмысленно; что поэтому если уже петь в Петербурге, то надо так объединиться в дружном желании петь отлично, чтобы удача вышла сама собою. В беседе о таком объединении, о взаимопомощи и о взаимном контроле во всем прошло у нас минуты три-четыре, когда мы собрались в залу училища перед самым отъездом. Нетрудно представить, как была усердна наша молитва после бывшего сейчас же взаимного обещания. Молебен в путь шествующим был пропет энергично, и мы, полные энергии, отправились на железную дорогу. В вагонах уже, по месту расположения, учредилась своя администрация, и веселье забило ключом. Я помню из этого путешествия, как очаровательны были в детском вагоне наши вечерние, утренние молитвы, вполне семейные, вполне искренние и высоко благоговейные. Само собою разумеется, что во все путешествие не было ни малейшего случая нарушения дисциплины. Общее дело, общее благодушие и веселье береглись всеми с самою строжайшею тщательностью.
Мы остановились в Петербургской духовной семинарии и вскоре после завтрака, по указанию ректора, собрались в зале и, так сказать, проверили сохранность своих голосов, пропев изящное скерцо из концерта Полуэктова «Слуху моему даси радость и веселие», «Господи, помилуй» Львовского (то есть поемое при Воздвижении Креста, с большими crescendo и diminuendo) и «Свыше пророцы» Балакирева. Замер дух у семинаристов, и мы сами чувствовали, что поется отлично... «Пропали у меня теперь все занятия! – воскликнул о. ректор. – Что это такое? И не слыхивали мы ничего подобного! Посмотрите сами на лица семинаристов!» И действительно – лица эти были очень возбуждены, жесты наших слушателей, только что проаплодировавших нам со всею горячностью молодого восторга, были сильны, энергичны и показывали, что семинаристы совсем не ожидали такой степени художественного совершенства. Гул голосов, горячо делившихся полученными впечатлениями, ясно указывал силу возбуждения наших слушателей.
Но концерт вечером этого дня едва не погиб от впечатлений совершенно неожиданных. 7 марта под вечер была самая невозможная сырая, ветреная погода. По темным загородным улицам, по невозможнейшей ломовой, рытвиной снежной дороге поплелись мы из духовной семинарии в дом Победоносцева на Литейной. Наши кучера оказались пьянее вина, один кучер задел что-то, и объяснения с полицией задержали фургон, другой заехал в такую яму, что все должны были вылезти и выпачкаться, у третьего фургона сломалась ось и т. д. Все мы иззябли, изнервничались, опоздали, явившись не вовремя, не успели передохнуть перед выходом на эстраду, не успели заблаговременно до концерта, так сказать, прицелиться к акустике зала... В довершение нашего смущения зал оказался зачем-то натопленным, душным, и едва мы вышли на эстраду и начали устанавливаться, как вдруг потухло электричество и все очутилось в полных потемках... «Tous les mauvais auguresl» – сказал кто- то около меня, и, по правде сказать, суеверный страх охватил и меня. Тот же, скоро узнанный мною голос продолжил мне в темноте: «Поделом, поделом этому изменнику – у меня хорошо служил, а потом взял, да и ушел не простившись, поделом, так и надо!» Конечно, несмотря на темноту, я узнал, что такие речи говорил столь благосклонный ко мне Иван Давыдович Делянов (то есть тогдашний министр народного просвещения), случайно очутившийся около меня и узнавший меня.
Но, несмотря на все эти неудачи, хор вздохнул, собрался с духом и дружно грянул ff «исполла эти деспота» благословившему нас митрополиту, едва только опять зажглось электрическое освещение. Достаточно было этой краткой песни, чтобы вернулось присутствие духа и концерт прошел вполне удачно, при самом полном впечатлении на наших слушателей.
Живо припоминаю, как нервно читались на другой и третий день рецензии о нашем дебюте в Петербурге. Возбуждение было общее. Мы хорошо понимали, что концерт был удачен по-нашему, но боялись, что пение могло быть не во вкусах петербургской публики. Благоприятные отзывы в газетах, так сказать, окрылили нас. С утра, однако, пришлось пережить множество впечатлений, вполне для нас необычных, и как для москвичей, и как для приезжих, и как для певчих. План дня был таков: панихида на могиле Чайковского, панихида у могилы Александра III в Петропавловском соборе, посещение Монетного двора, Придворной капеллы, второй концерт в зале у Победоносцева в два часа дня и гулянье по Петербургу в виде отдыха после понесенных трудов. Погода 8 марта была еще хуже, чем 7-го. Поэтому мы, приложившись к мощам Александра Невского в Лавре и пройдя к могиле Петра Ильича, только пропели у его могилы «Со святыми упокой» и «Вечную память». Дождь прямо лил на нас, и я приказал даже не снимать шапок, почему мы только приподняли их. После панихиды в Петропавловском соборе мы подивились множеству новостей для нас в устройстве всяких операций на Монетном дворе – действительно интересных. Посещение Придворной капеллы ожидалось всеми с самим страстным нетерпением и с глубоким интересом. Имя Капеллы давно окружено ореолом недосягаемого для других совершенства, и только со времени ее директора – бездарнейшего Бахметева, заполонившего ее репертуар своими неграмотными писаниями, после потери Капеллою такого даровитого регента, как Рожнов, блестящая репутация Капеллы начала тускнеть. Я слышал Капеллу за год перед визитом в нее Синодального хора и, конечно, понимал, что услышат в ней мои птенцы55. Поэтому я уговорил всех моих вести себя сколь возможно предупредительно, похваливать все и держать себя с самою безусловною скромностью. Мы действительно были очень неприятно удивлены тем, что услышали и увидели в Придворной певческой капелле. Сдавленные голоса детей, хрип октав, недостаточная чистота интонации и недостаточная гамма всякого рода нюансов удивили нас не менее неприятно, как и выслушанные нами «Господи воззвах» первого гласа, несколько ирмосов, кажется, пятого гласа, «Отче наш» обычного напева из чередования аккордов тоники и доминанты, равно как и слушание таких заурядных вещей, как Бортнянского «Ныне силы небесныя» и «Достойно есть», Херувимская Львова № 1. Мы были в некотором недоумении и полагали, что Капелла, державшая себя чрезвычайно высокомерно и вицмундирно, просто не пожелала дать себя послушать в чем-либо более интересном. Я, конечно, молчал о том, что репертуар Капеллы именно и состоял из этих вещей и что Капелла в своей лени, в своем чванстве и в бездарности своих учителей отстала от всего и опустилась непозволительно. Мне было на руку то, что в Капелле были готовы для Инвалидного концерта хоры Кюи (из них два детских), и эти хоры были исполнены действительно превосходно. По окончании такой экспозиции нас стали просить показать свое искусство, и мы, глубоко волнующиеся, вошли на эстраду... Общий вид Синодального хора (нас было только шестьдесят), вставшего кучкой около Орлова, много проигрывал после развернутого фронта Капеллы почти в 100 певцов. Растерявшиеся было мои певцы пропели очень стройно «Тебе поем» Полуэктова, потом, ободрившись, – Херувимскую Музыческу и, наконец, очень уверенно и выразительно «Верую» Чайковского. Конечно, как мы в начале усердно хлопали Капелле, так и хозяева снисходительно аплодировали потом своим гостям, и я заметил, стоя у задней стены, что к нам относились весьма высокомерно, не вникая в достоинства нашего звука, нашей дисциплины. Только некоторые чины Капеллы, как кажется, поняли, как пели московские гости, и недоуменно иногда почесывали свои затылки. Тем не менее мы, торопившиеся к исполнению целого концерта, назначенного в два часа дня, сошли с эстрады со смутным представлением о значении случившегося, о бывшей как бы дуэли, кончившейся взаимным непризнанием и выстрелами в стороны... Конечно, нам были высказаны взаимные любезности, оказано было всякого рода взаимное внимание, но наивных моих ребятишек, альтов и дискантов, провести на этой мякине было нельзя, и после, как оказалось, эти бесхитростные, простые умишки обличили наш «такт» и наше вполне ненадобное добровольное унижение перед Капеллою. Эти мальчуганы, но уже в Москве, высказали мне, как бы можно было обставить появление Синодального хора в Капелле и прямо выиграть состязание с более глубоким тактом... «Ведь вы знали, что они будут нам петь? – говорили мне малыши Потоцкий, Теремецкий, Зайцев, Клипин, Климов и другие, прямо нападая на меня за мой, Орлова и Ш2 «такт». – Чего стоило пропеть им десять номеров таких, чтобы они прикусили языки? Пропеть бы им «Credo» или номер из «Stabat Mater»4 Палестрины, либо «Кугіе»4 из Реквиема Моцарта, либо даже концерт Львова «Приклони, Господи» – куда бы они девались?» и т. п.
В 1902 году я как-то завел разговор об этом посещении с мальчиками Капеллы и был отчасти удивлен, отчасти и раздосадован теми их суждениями, которые, очевидно, были внушены им тогда же о пении Капеллы и о пении Синодального хора. Этим мальчикам теперь уже по 17–18–19 лет, почему, если предположить некоторую долю личных их воспоминаний об этом состязании, то следует все же признать, что общее вполне одинаковое ими изложение их впечатлений было, должно быть, вложено в них весьма крепко. Даже до сегодня, когда Капелла уже слишком развенчана мною и когда с нее уже очень сбита спесь, еще сильная, однако, до сих пор, – даже до сих пор эти юноши никак не могут вообразить себе, чтобы на свете могло быть что-либо выше Капеллы, что ученье в понимаемом мною смысле совсем не надобно и что было какое-то странное появление в Капелле Синодального хора, осмелившегося о себе думать что-то и затем блистательно провалившегося на безумной попытке сопоставить свое пение с искусством Капеллы. Юноши меня пресерьезно уверяли, что они отчетливо помнят, как Синодальный хор, исполняя на эстраде Капеллы Херувимскую Музыческу, ухитрился спуститься на один тон и даже едва ли не более, как мы пели какие-то «неграмотные регентские сочинения» и т. п.
Второй концерт был еще удачнее первого, и я был глубоко удовлетворен, увидав, как во время пения «Вечери Твоея» заплакал великий князь Константин Константинович... Вечером же в этот день, после трогательнейших оваций расходившихся семинаристов, временами принимавших довольно бурный характер в виде неистовых и многократных «качаний», мы выехали домой. Ликование и удовольствие наше от удачи было просто безгранично – это был сущий праздник. Насколько все подтянулись до часа отъезда от дома обер-прокурора после последнего концерта, настолько же все развернулись, и началось такое веселье, такое одушевление, что я счел за лучшее отпустить мою команду на самую полную свободу. Поэтому я остался в Петербурге. Я воспользовался и тем, что остался здесь же и Ш2, которого я вызвал наконец на объяснения по поводу всяких его шпилек... Несмотря на мою вполне откровенную беседу с ним и по поводу наших прелиминарных споров о проекте устава училища, несмотря на все мои доводы и уговаривания, Ш2 не сдавался, и недавнее мое ликование от удачи концерта выродилось в глубокое уныние.
Самое трогательное, однако, ожидало нас впереди. Оказалось, что мы, так волновавшиеся в Петербурге, забыли жен и товарищей в Москве. Никто из нас не собрался не только написать, но даже и телеграфировать о наших успехах. Такое отсутствие сведений обеспокоило, а потом привело всех в сущее волнение... Оказалось, что всего более волновались наши старшие ученики; они бегали к Иверской, ставили свечи, служили молебны, совершенно бросили учиться и прибежали заблаговременно на вокзал, чтобы встретить нас первыми. Первые прибывшие в училище мальчуганы побежали прежде всего к моей жене и сообщили ей, что «в Капелле дисканты не умеют [переходить] с грудного регистра на фальцетный, что в семинарии все время их кормили по три блюда, была отличная рыба, а последнее было сладкое, и всего давали понемногу». ...Нет надобности упоминать о том, что ученье в этот день было невозможно! Всех отпустили к родным, и, таким образом, вместе с подоспевшими петербургскими газетами, были разнесены по Москве известия о первом в Петербурге успехе Синодального хора. Позднее в память этого события в Синодальном училище была поставлена мраморная доска с соответствующею надписью.
Последовавшая вскоре после того коронация принесла нам, вместе с массой разных новых впечатлений, и массу разного рода волнений и огорчений56. Огромный репертуар Синодального хора (до 100 пьес), техника хора и отличное пение с листа и оттого возможность приготовить какую угодно пьесу в одну-две репетиции привели Ш2 к политике «чего изволите? когда прикажете? слушаюсь», с помощью которой он, в качестве «управляющего», легко мог выдвигаться на нас, безжалостно заставляя давать чуть не ежедневные концерты для одного или двух-трех приезжих знатных слушателей, заставляя нас петь то всякий сладко-итальянский вздор, вроде «Отче наш» Сарти, то «Душе моя» Виктора или Херувимскую № 7 Бахметева, обезличивая нас, оскорбляя нас до самой последней степени. <...>
<...> Зима 1897/98 года, в смысле отсутствия всякого рода резких стычек, была несравненно спокойнее, чем можно было думать по ее началу. В эту же пору случилось событие, оказавшее, как выяснилось впоследствии, решительное влияние на мою судьбу. Я получил от графа Сергея Дмитриевича Шереметева предложение устроить пение на свадьбе его дочери, выходившей замуж за графа Рибопьера57. При личном свидании с графом Сергеем Дмитриевичем еще задолго до этой свадьбы я решился в свою очередь предложить ему, как вполне русскому человеку, устроить пение на свадьбе его дочери также русское, православное, и поэтому просил его пожаловать в Синодальное училище, чтобы прослушать свадебные концерты Кастальского, тропарь венчания, прокимен и ектении. Граф приехал в тот же день и был совершенно удивлен и очарован; заметив такое благоприятное впечатление, я затащил графа в библиотеку рукописей, и здесь мы провели с ним в самой оживленной беседе гораздо большее время, чем предполагалось заранее. Свадьбу эту мы пропели так удачно, что Шереметев в письме ко мне охарактеризовал впечатление от нее как «потрясающее», а от разговоров библиотечных возникла напечатанная потом моя статья «О древнерусских певческих нотациях». Оба эти обстоятельства, как оказалось впоследствии, привели меня в Придворную капеллу, так как Синодальный хор успел в то же время обратить на себя внимание государя. Он был в Москве на открытии памятника Александру II, прослушал обедню и на другой день пожелал еще раз слушать Синодальный хор при посещении им Патриаршей ризницы58. Здесь, подойдя к хору, государь сказал: «Не могу пожелать усовершенствования этому хору, так как в художественном отношении, кажется, некуда идти далее; вы поете превосходно, и я желаю вам остаться такими, каковы сейчас». Помог тут и великий князь Владимир Александрович, сказав: «Вы поете вполне удивительно! У нас в Петербурге совсем не поют того, что вы поете, да признаться, и не умеют петь так хорошо». Не думал я, чтобы эти события были также ступенью к моему переходу из Москвы в Петербург. Мои мысли более были склонны к тому, что, получив такие одобрения и заручившись кроме того общим признанием о хорошем состоянии моей школы и неизмеримой к лучшему разнице между ее бывшим и настоящим, я почувствовал себя более вправе стоять за свое дело. Я надумал просить К. П. Победоносцева избавить меня от Ш2 как человека для нас прямо вредного, мучающего нас, не понимающего нашего дела, мстительного и упрямо-настойчивого в своих иногда нелепых воздействиях. Я полагал, что его, Ширинского- Шихматова, как карьериста и уже сидевшего шесть-семь лет на одном месте, можно было бы весьма благовидно повысить по службе, убрав его из Москвы. Оказалось, однако, что обо мне уже составилось заботами Ш2 представление как о человеке неуживчивом, непокорном, неспокойном и т. п., что успехи хора приписаны исключительно Орлову, не знающему будто бы, как бы ему от меня отделаться, и что для преуспеяния училища при новом директоре надобно именно оставление Ш2 в Москве, чтобы не производить ломки в порядках, насилу-то уставленных тем же Ш2.
А между тем Синодальный хор все-таки сильно шел вперед. А. А. Ильинский написал на текст «Всякое дыхание да хвалит Господа» труднейший мотет с самыми запутанными по мелодической трудности темами, с самыми сложными фигурированными изложениями, и Синодальный хор, к полному удивлению автора, пропел это сочинение довольно удовлетворительно к концу первой же спевки. Кастальский, Гречанинов и Чесноков написали в этот год много вещей, значительно раздвинувших репертуар концертов, и, наконец, была начата изучением знаменитая h moll ная месса.
Александр Александрович Ильинский, профессор свободного сочинения Филармонического училища – милейший человек, необычайно добрый и простой, отличный музыкант, небольшого творческого дарования, но хороший техник, немец насквозь.
Александр Тихонович Гречанинов – более даровитый, но менее техник, знает русскую песню и владеет хорошо хоровыми массами, недурной мелодист. Добр, но мелочен и самолюбив до невозможности. Мои приятельские с ним отношения дали мне привычку говорить ему правду в глаза. Оттого мы спорим и ссоримся постоянно, хотя и очень любим друг друга, но говорим взаимно немало всяких вещей. Теперь Гречанинову 36–37 лет, а мне 55 – остальное понятно.
Павел Григорьевич Чесноков, мой ученик, очень даровит, но мало учился, пройдя курс Синодального училища и занимаясь потом с Ипполитовым-Ивановым. Отлично знает хор, умен, скромен, но совершенно не воспитан, почему, несмотря на всю свою добрую душу, все-таки груб и самомненен по молодости своих лет. Некоторые его хоровые вещи написаны очень живо и умно.
В этот год случилось самое знаменательное событие при мне в жизни Синодального хора – поездка в Вену для участия в освящении посольской церкви и концерте в зале Венского Музыкального общества. Мысль об этой поездке впервые блеснула в одном из январских моих разговоров с Победоносцевым в Петербурге, и я тут же горячо упросил его устроить это дело, обещая приложить все старания к тому, чтобы Синодальный хор произвел в Вене наилучшее впечатление, особенно же если удастся дать в Вене один или два концерта. Победоносцеву понравилась эта мысль, и он обещал подумать, так как от этой заманчивой поездки могли не отказаться и петербургские певчие, тем более что заграничные церкви находятся в ведении митрополита Петербургского. Оказалось потом, что это дело было трудно устроить, и понадобилось высочайшее повеление относительно командирования Синодального хора. Но оказалось потом, что еще труднее было устроить дело в Москве, так как это предприятие застало меня в самый разгар наиболее обостренных моих отношений с Ш2. Я только что уличил его во лжи и занес все его проделки в протокол заседания Правления училища, а протокол отправил к нему же на утверждение. <...> Прежние предположения о командировании всего сполна Синодального хора в Вену были отринуты за дороговизною и за невозможностью будто бы пригласить на одно воскресенье в Успенский собор хотя бы певчих Чудовского хора. Затем над программою концертов в Вене, втихомолку уже обдуманною мною с Орловым, была проделана целая комедия, в которой Ш2, прикрываясь полученными будто бы от Победоносцева и Саблера точными указаньями, наставил всякого вздора.
<...> Случайный приезд в Москву известного венского дирижера Ганса Рихтера оказал нашему предприятию самое незаменимое и сильное, авторитетное подспорье. Рихтер, пользующийся в Вене общею любовью и уважением, был у нас в училище, слышал Синодальный хор и совершенно оторопел от полученных им впечатлений. Он и плакал, и изумлялся, и говорил нескладные слова, и в конце концов подарил меня таким восторженным отзывом, какой он потом пропечатал в Вене перед нашим туда приездом в виде письма к своему другу (доктор Ватка в Пресбурге – городской глава, приезжавший вместе с Рихтером и бывший вместе же в училище)59.
Нетрудно представить, какую рекламу для нашего концерта составило появление такого отзыва от уважаемого и авторитетного Рихтера. Письмо это было сейчас же перепечатано во всех других газетах и доставило нам в огромном зале Венской консерватории совершенно полный сбор публики. Я с моей стороны уполномочил Гутмана разослать билеты решительно всем более известным артистам Вены, приглашая их быть нашими гостями... Но я отвлекся. Устройство нашего путешествия из Москвы до Варшавы и обратно отлично удалось благодаря любезному содействию начальника Брестской железной дороги г. Чаплина, предоставившего в наше распоряжение огромный новый вагон третьего класса, в котором мы разместились все с полным удобством. Мы взяли с собою всякой провизии, всякую необходимую рухлядь для чаепития, спанья, чтения, детских забав, и таким образом устроили все довольно удобно и достаточно. Гораздо менее удобно было путешествие от Варшавы, еще хуже от Границы до Вены. Нас ехало четырнадцать дискантов, восемь альтов, восемь теноров и десять басов; с певчими поехали: дядька – друг моих детей Егор Евстратович-Андреянов, делопроизводитель Н. П. Попов – в качестве распорядителя и казначея, частью же и в качестве «сих дел мастера» от Ш2, В. С. Орлов и я – всего сорок четыре человека. Стыдно вспомнить, как мне не хотели давать на поездку более трех тысяч рублей, как я простым расчетом цен доказывал князю, что на три тысячи рублей на сорок четыре человека, то есть на шестьдесят девять рублей, нельзя сделать одиннадцати дневное путешествие от Москвы до Вены и обратно, что нельзя заставить меня и Орлова ехать при наших заботах и волнениях, при нашей ответственности в третьем классе и без запасных денег при таком числе людей, что нельзя рисковать и скупиться без всякой нужды в таком исключительном и важном для Синодального хора предприятии, исполняемом притом по Высочайшему повелению. С трудом сдался Ш2, и поездка наша была оценена в четыре тысячи с разрешением раздать часть чистой выручки от концерта в награду певчим и Орлову, с разрешением мне, в случае экстренной надобности, распорядиться всею свободною выручкою от концерта. Как бы ни было, несмотря на все мои просьбы поберечь силы хора, Ш2 заставил нас в Москве, накануне отъезда, 28 марта, дать концерт60 и измученных, тревожных, не успевших толком подготовиться к венскому концерту, отпустил 29 марта 1899 года с пассажирским поездом. Время было распределено так: 29–30-го – путь до Варшавы, 30–31-го – до Вены с приездом туда первого апреля утром; 1 апреля – спевка в венской церкви, 2-го – то же и репетиция в зале концерта, 3-го – большая всенощная накануне освящения храма (Саблер своими требованиями исполнения устава ухитрился растянуть эту всенощную почти до четырех часов), 4-го – освящение храма, обедня, молебен, 5-го – концерт в зале Консерватории, 6-го – литургия, 7-го – сбор в обратный путь и 8-го утром – отъезд, чтобы поспеть к 11-му на службу в Москву к Вербному Воскресенью, а то так и к обедне 10-го, то есть к Лазаревой Субботе. Тщетно просил я отменить хотя бы литургию 6-го апреля или позволить всем нам пробыть в Вене хотя бы два-три свободных дня и дать возможность хотя бы немного посмотреть город и его окрестности, доехать хотя бы до Земмеринга, повидать красоту горной природы, – нам было отказано под предлогом надобности петь в Успенском соборе. Безжалостный Саблер, желая угодить посланнице графине Капнист, заставил нас, совершенно утомленных, все-таки дать домашний прощальный концерт высшему венскому обществу, на котором мы едва вытянули из себя 12 номеров перед болтавшими без умолку слушателями. Было больно и обидно за такое истязание хора-художника, только что с честью отличившегося и тут же водворенного по формуле: «Помните, что вы – не более как певчие».
Тем не менее в моих впечатлениях от венской поездки успех концерта 5/17 апреля превзошел все самые смелые ожидания и был действительно кульминационным пунктом всего нашего путешествия61. Я не сумею достаточно живо описать этот успех и меру наших волнений. Это был такой особый, возбужденный, полный веры в свои силы, очаровательный концерт, полный самых восхитительных воспоминаний, полный каким-то упоением, каким-то небывалым восторженным вдохновением, полный сознанием и гордою радостью, что за нами стоит русское имя и что мы вполне достойные представители русского искусства, изумляющие и восхищающие самую избранную, самую музыкальную публику, восхищающие родных нам славян... Перед выходом на эстраду мы перекрестились трижды, я благословил хор, и мы вышли на подвиг, на завоевание, на оправдание рекомендации, данной нам Рихтером, на взятие приза № 1. Я не помню, чтобы Синодальный хор в половинном составе пел когда-либо так восхитительно, звучно, стройно и с такою массой удивительных оттенков, с таким одушевлением и с такою необыкновенной по точности интонацией. Это пение было какою-то упоительною поэмою, какою-то радостью, какою-то небесною красотою, которая получалась сама собою от величайшего счастливого вдохновения и от превосходной дисциплины и техники хора. В этом концерте не было ни одной малейшей ошибки, ни одного малейшего невнимания, никакого недостатка. Все ff звучали полно, сильно, ясно, а ррр достигали выразительности и подвижности, удивлявшей самих певчих.
Понятен после этого гром рукоплесканий и одобрительный рев шести-семитысячной толпы, не слышанный никем из нас до этого случая – вполне исключительного. В первый раз в моей жизни я заплакал, заплакал Орлов, заплакали и певчие под впечатлением опьяняющей силы восторга слушателей, слушателей чужих нам по языку, племени и вере, но ставших своими, завоеванных нами в какие-нибудь два часа. В Вене только хлопают артистам, мы же слышали оглушительно дружные аплодисменты, рев толпы... Уже в конце отделения, во время исполнения «Господи помилуй» Львовского с артистическим diminuendo, какой- то немец не вытерпел и во время ррр тихо, но слышно для всей затаившей дыхание залы сказал: «Kolossal!» Я сам видел потом выражения полнейшего восторга на лицах слушателей, когда после этого ррр началось не менее артистическое крещендо, выросшее в великолепное fff. Оглушительный взрыв аплодисментов и оглушительное требование повторения «непревзойденного шедевра, который вызвал у взволнованных поклонников музыки безграничное удивление и восхищение»62, показали нам, что впечатление было произведено очень сильное, и нас сразу признали «за абсолютно своеобразное явление», так как «уже своим первым хором «Царю небесный» певцы привели слушателей в изумление и напряжение»63.
Второе отделение концерта началось после того, как мы едва пришли в себя от толкотни в артистической комнате, наполнившейся всякими рецензентами, репортерами, музыкантами, с удивлением рассматривавшими наши костюмы, расспрашивавшими через переводчиков о всяких интересующих их вещах, глядевшими даже, как «русские» пили кофе, как обращаются друг с другом и т. п. Один рецензент даже пропечатал обо мне после этого антракта: «Было интересно наблюдать, как по-отечески директор Смоленский заботился обо всех, особенно о юных сопрано и альтах»64, что удивляло его бесконечно, так как наша дисциплина и выучка в интонировании представлялись ему «достижимыми только в стране кнута и славянского долготерпения»65. Другой рецензент нашел, что мы вполне русские, так как красны во всем, начиная с наших костюмов, продолжая красными пультами, красными щеками мальчиков и взрослых и т. д. Забавно было потом читать, как все без исключения рецензенты подробно описали певческие костюмы, мой и Орлова мундиры, даже наши шпаги, упомянули, что вместо «дирижерской палочки»66 у нас употребляется «камертон»67, что певчие не кланялись на аплодисменты, а вместо них кланялся только Орлов, и то «едва заметно», что Орлов дирижирует всего менее руками, удивительно показывая разные нюансы глазами и производя «внутренний контакт», причем он «проговаривал все слова, и поэтому певцы не сводили глаз с его рта»68. Один из рецензентов ухитрился даже объяснить, что архиепископ Иероним, благословивший хор перед началом пения из своей ложи, «отбивал такт» (вероятно на 4/4) и «хор пел ему восхваление»69, то есть «исполла эти деспота». Другой пришел к непониманию, каким образом мы могли выучить детей петь так правильно, и, упоминая вместе о мундирном одеянии, пишет: «Это удивительная тайна господина Стефана фон Смоленского, директора Синодального хора, и господина дирижера Орлова, одетого по-военному и украшенного шпагой, – как им удалось добиться от этих мальчиков и усатых взрослых мужчин с феноменальными тенорами и басами, достигающими невероятно низких тонов, такого чистого слияния голосов. Снимем шляпу перед этой тайной. Таких тонких динамических переходов мы еще никогда не слышали, не говоря уже о точности, глубине, ритме, безукоризненной чистоте интонации»70. Заметили немцы даже, что «всемирно известные русские басы» доходили у нас до соль контроктавы, «и не подобно кабацкому рычанию, а с колокольно чистым, подобным органу, звуком»71.
Достаточно этих небольших выписок, чтобы утвердить отзыв, что «совершенство этого пения a cappella произвело на слушателей огромное впечатление и помогло русским победить в столице музыки»72. Нетрудно представить себе, в каком восторженно-спокойном состоянии духа мы вышли на эстраду для исполнения второго отделения концерта. Это отделение было исполнено еще лучше первого, и слушатели, разогретые впечатлениями, уверовавшие в достоинство нашего исполнения, слушали нас с самым напряженным вниманием. Это был центр сильнейшего впечатления на венскую публику. Я помню, что после бешеных, восторженных рукоплесканий мы едва-едва добрались до артистической комнаты. Здесь мне представилась какая-то депутация, пригласившая меня в ложу, в которую были собраны все выдающиеся музыкальные силы Вены. Ложа эта находилась, глядя от публики на эстраду, на левой стороне хора и имела большой около ложи зал. Меня встретили аплодисменты, после которых все выстроились в полукруг и какой-то глубокий старец, оказавшийся композитором Гольдмарком, приветствовал меня такой примерно речью: «Милостивый государь, я, как видите, глубокий старик; мне приятно заявить вам перед лицом всех господ артистов Вены, что я не только не слыхал пения, подобного тому, каким мы наслаждаемся, слушая несравненное пение Синодального хора, но я даже не думал, чтобы люди могли так петь! Вы поете вполне изумительно! Браво! Браво! Браво!» – заключил он, начав аплодировать. Легко представить себе, что должен был я почувствовать после такой речи. Я собрал все остатки когда-то бывшей у меня свободной немецкой речи и ответил как Гольдмарку, так и окружающим его артистам выражениями глубокой признательности за такое внимание к Синодальному хору. Мне было трудно говорить от охватившего меня волнения, но меня выручили вновь раздавшиеся аплодисменты и звонок, возвещавший конец антракта.
Третье отделение концерта было так же удачно, как и первые два, но хор уже устал от духоты, нервного напряжения и неожиданных сильных впечатлений. Мы даже пропустили среднюю часть концерта Бортнянского («Господи, силою Твоею»), чтобы скорее кончить концерт. Целая буря прощальных аплодисментов, крики, махания платками были наградою нам за доставленное слушателям удовольствие. Орлов и певцы собрали последние силы и вышли вновь, пропев грациозное «Достойно» сербского роспева в быстром темпе и чрезвычайно изящно. Только после концерта за этот номер и за пропетое ранее «Тебе одеющагося» болгарского роспева мы поняли, как ударили по сердцам сербов и болгар родные им звуки! Только вернувшись поздно домой, я узнал, как оживленно вели себя депутации от славянских студентов, явившихся чествовать нас в отель «Бельведер», где мы жили и где закипел пир горой.
Орлов вместе со мною принял приглашение Рихтера «скромно поужинать». С этой «скромности» мы вернулись, признаться, немного нескромными, чуть ли не в три часа ночи... Войдя в отель, я не верил своим глазам, глядя на свою паству до малышей включительно. Мне бросились рассказывать про множество бывших гостей, говоривших на непонятных языках благодарственные приветствия, из которых наши певцы только и понимали слова: «Цар», «Москау», Синодалъ хор», «Музик» и т. п. Было шампанское, «ура» и прочее в такой степени, что администрация гостиницы убедилась в бесполезности каких-либо увещаний для водворения спокойствия. Она было обратилась к менее возбужденным из приехавших депутаций, но встретила такой отпор, что опустила руки. Певчие кстати вспомнили австрийский народный гимн «Gott, erhalte Franz den Kaiser», затем пропели «Боже, Царя храни», и ликование началось самое неудержимое. Наше прибытие возобновило общий энтузиазм. Мы послали пространные депеши в Петербург и родную Москву, и затем в превеликим трудом я упросил всех лечь спать часов около четырех утра. Большие певчие заявили мне, что они не могут спать, почему и просили моего согласия на их прогулку по городу, обещая быть вполне степенными, так как, собственно говоря, возлияний винных у нас почти не было, но нервы у всех без исключения ходили ходуном. Уложив мальчишек спать, я сам увидел, что певчие были правы... Несмотря на все усилия заснуть, начавшееся весеннее теплое утро и не проходившее возбуждение заставили меня встать и приняться за писание писем. Первое из них на нескольких листах было к К. П. Победоносцеву, где я, благодаря его за случай, приведший нас к такому счастливейшему и незабвенному дню, описал ему в общих чертах венский концерт. После писем к Анюте и Рачинскому я почувствовал, что письма меня только волнуют и что благоразумнее всего последовать примеру певчих, то есть отправиться на прогулку. Здесь один, сидя в Stadtpark, затем забравшись на могилы (бывшие) Бетховена и Шуберта в Wahringer- friedhof, я несколько пришел в себя. На меня напало сентиментальное настроение. Заливаясь слезами, я пропел у могилы Бетховена множество его тем из столь любимых мною его последних квартетов и фортепианных сонат, из 9-й симфонии, а у Шуберта – «Standchen» и «Wanderer»73, d moll ного квартета и т. п., – набрал цветочков и только затем почувствовал меру моего утомления. Кажется, я попал домой что-то около 11 часов утра, едва ли не выспавшись по дороге в экипаже, так как от кладбища до отеля, через всю почти Вену, пришлось проехать добрых 7–8 верст; что- то припоминается, что я даже не попал к какой-то службе. <...>
Признаться, зло меня взяло, и я, когда каждому из нас раздали на память по бронзовой медали, выбитой по случаю освящения венской церкви, заявил графу Капнисту так: «На нашей товарищеской беседе решено в память такого исключительного случая, как поездка хора на освящение церкви в Вене, и в память нашего первого в Вене и столь удачного русского духовного концерта, – поставить в зале Московского Синодального училища и хора мраморную доску с надлежащею надписью и украсить ее медалью»... Граф Капнист, конечно, догадался сразу, в чем дело, и сказал так: «Прибытие Синодального хора на освящение церкви так украсило наше торжество, а концерт так удивил Вену, что я считаю справедливым принять участие в постановке памятной доски в Москве; в память освящения храма выбита только одна золотая медаль для государя, но я обещаю вам похлопотать, чтобы была изготовлена другая такая же и передана на память Синодальному хору». Спустя некоторое время эта медаль была мною получена. С согласия Ш2 и с согласия хора я поднес эту медаль В. С. Орлову, так как именно ему мы обязаны силою успеха в Вене, а в мраморной доске, не без расчета на воров, поместили лишь густо вызолоченную бронзовую. <...>
Но судьбе угодно было дать мне в зиму 1899/1900 года новое утешение в виде внимания государя к Синодальному хору. Правда, эта же радость очень парализовалась тем же Ш2, но я уже так привык к его выходкам и приписыванию всего самому себе, к его распоряжениям только по одному его усмотрению, к его грубой настойчивости и упрямству, что во мне выработалось какое-то равнодушие к происходящему; выработалось также и не тревожное более ожидание чего-либо нового и оригинального, кроме уже достаточно пережитого как мною, так и моими товарищами. Прибытие государя в Москву на Страстную и Пасху неожиданно затянулось гораздо более и привело к возвращению придворных певчих в Петербург ранее срока, а нас – к пению в присутствии государя 11 раз подряд. В первую же обедню (Вербное Воскресенье, 2 апреля 1900 года) государь, прикладываясь к мощам после службы, шел мимо правого клироса и, остановившись, милостиво похвалил пение в самых лестных выражениях, бывших еще более ценными по полной их неожиданности. Затем, в Великую Пятницу, к заутрене в полтретьего ночи вдруг в собор, полный народом, пришли государь с государыней и великий князь Сергий Александрович с великой княгиней Елизаветой Федоровной. Появление их было так неожиданно, что негде было постлать им, за теснотой, ковер – жена Орлова стояла всю службу чуть не рядом с императрицей и впереди ее, а государь зажег свою потухшую свечу у портного Емельянова, стоявшего рядом с ним. Цари простояли до конца всю службу, усердно молились, обошли в торжественнейшем в Московском Кремле крестном ходе вокруг собора с плащаницею и запросто ушли из собора через малое крыльцо, что против дверей Успенского собора.
На второй или третий день мы внезапно услыхали, что придворные певчие уезжают домой и что нам, синодальным, будут случаи петь у государя. Действительно же внимание государя выразилось в словах рескрипта митрополиту еще в первый день Пасхи. Немного было нелогично мотивировать награду митрополита нашим хорошим пением, но мы были счастливы и этим вниманием государя. Митрополиту косвенно поставлена в заслугу «величавая красота древних напевов в умилительном исполнении Синодального хора»...74 <...>
Случай 12 апреля, при котором Синодальный хор впервые за это время пел у великого князя Сергия Александровича, был совсем особенный. Между разными увеселениями высшего московского общества надумали устроить во дворце великого князя «историческую карусель» – нечто вроде маскарада с танцами якобы из «Владимирова цикла» ... Музыкальным иллюстратором этой затеи явился услужливый музикус Симон, составивший винегретное попурри, в котором были и Глинка, и Куликов, и Римский-Корсаков, и многое другое. Под звуки «былины», гармонизованной и петой Синодальным хором, московские артисты танцевали (! – это былины-то!), покорно подчиняясь режиссерству господ Симона и какого-то балетмейстера из театра... У меня не хватило духа пойти посмотреть на такое оригинальное сочетание всего перечисленного, тем более что певчие и Орлов, оскорбляемые и униженные пришедшею на их долю позорною партией в такой дикой затее, – рвали и метали от ярости и стыда... На мои протесты Ш2, без удержу участвовавшему в этом «чего изволите», – «Не правда ли, как мило, как переносит это в трогательную старину», «Очень счастлив угодить ...», «Синодальный хор гордится тем, что и он не без участия в таком празднестве», и т. п., – Ш2 успокаивал меня тем, что уже поздно, что все налажено, что в газеты не попадет ни одна строка об участии Синодального хора, только что отмеченного за «умилительное пение древних роспевов» и сейчас же занявшего место только что увеселявших в Дворянском собрании на «завтраке» цыган и балалаечников, отличавшихся всего только вчера, 11 апреля... Действительно, только наш «управляющий» мог забыть о бывшей несколько дней назад чудной симфонии великих для верующих дней Страстной и Пасхи, – только он и мог направить нас к участию в такой «карусели». Ведь и сам он был в ней «ряженый» участник... Характерно то, что 13-го, 14-го, 15-го мы же, ничтоже сумняшеся, пели печальные панихиды по только что скончавшейся в Киеве «инокине Анастасии», то есть великой княгине Александре Петровне, и Ш2 был очень озабочен, как бы безнадежная к выздоровлению не вздумала умереть не вовремя и помещать тому, что стоило стольких трудов, заботы, денег... Как и следовало ожидать, мои певцы наслушались в этот памятный им вечер всяких окриков Симона, балетмейстера, выражений неудовольствия за недостаточно быстрый для танца темп былины, за ненадобные оттенки и т. п.
Но довольно об этой печальнейшей забаве! Мы получили вскоре несравненное удовольствие в том, что государь пожелал вновь послушать всю обедню, слышанную им 2 апреля (Вербное Воскресенье), конечно, с теми изменениями, какие требуются уставом пасхальной службы. Нечего и говорить, что 60 певцов великолепно пропели 16 апреля эту службу, в которой для государя было новостью решительно все, от начала до конца. Это были мои ектении, прокимны и «Аллилуйя» по Римскому-Корсакову, Херувимская на «Радуйся» Чеснокова, «Милость мира» Кастальского, мои стихиры Пасхи и «Буди имя Господне». Эта служба была у Спаса за Золотой решеткой. После нее государь очень похвалил певчих, а за завтраком имел большой разговор с Ш2, сообщившим о том нам бумагою. Но сущим экзаменом для хора был неожиданно назначенный у великого князя Сергия Александровича концерт вечером 21 апреля. К счастью нашему, удалось как-то легко составить для этого экспромта хорошую программу из звучных и хорошо знакомых номеров, почему после одной спевки мы пошли вполне спокойными и уверенными. Перед началом концерта великий князь представил меня государю, наговорившему мне после деловых расспросов много любезного о впечатлениях, им полученных ранее от пения Синодального хора. По окончании первого отделения вдруг кому-то вспомнилось, что когда-то в одном из концертов Капеллы государю понравился хор Чайковского «Был у Христа младенца сад» и что как было бы интересно послушать эту пьесу в исполнении Синодального хора... «Пожалуйста, пожалуйста, поскорее торопитесь, пошлите домой за нотами» ... Последние мои волосы стали дыбом, когда побелевший от ужаса Орлов, подойдя ко мне, сказал: «Что делать? Лет 6–7 уже не пели этого хора, никто из мальчиков не знает, из старших же певчих, может быть, хорошо помнят это сочинение человек 12–15!» Я ответил Орлову, что попрошу великого князя как-нибудь занять внимание государя минуты на три- четыре, чтобы успеть пробежать разок слова и ноты. Тем временем принесли ноты, великий князь предложил государю выкурить папиросу, «пока раздают ноты». В эти три-четыре минуты мы успели с зажатыми ртами пробежать разок всем хором почти три четверти сочинения. Вдруг государь вошел и предложил начать. От нервного ли внимания или вообще от волнения – я не умею решить того, – но только Синодальный хор отлично исполнил сочинение Чайковского прямо с оттенками. Конечно, сочинение было бы еще законченнее, если бы удалось пробежать хор раза два-три, конечно, не могло не быть заметным различие между только что исполненными знакомыми вещами и сочинением Чайковского, не могло укрыться от глаз наше общее возбуждение. Этот казус был, однако, большим tour de force, и я помню, как у меня точно гора с плеч [свалилась], полегчало на душе, когда кончилось памятное теперь сочинение «Был у Христа младенца сад»! Последнее наше пение перед государем было 23 апреля, когда мы вновь пели обедню только древними роспевами. Так кончилась эта трехнедельная эпопея, из которой, как оказалось потом, многое пригодилось мне в Петербурге. Конечно, к бывшему утомлению подбавилось немало новых недомоганий, от которых, тем не менее, можно было получить облегчение вследствие продолжавшихся неладов, или лучше сказать, прекращения сношений с Ш2.
Окончание моей службы в Синодальном училище было решено мною 6 сентября 1900 года, когда, после долгих размышлений и соображений о возможно безбедном житье последних моих лет, я отписал Победоносцеву, что я решил лучше прожить беднее и свободнее, записать все новости мои по рукописной части, прожить в каком-нибудь покое, чем в переживавшейся мною тревожной и непрерывной травле от Ш2. Милая, сердечная помощь товарищей, всячески бодрившая мой утомленный дух, сочинившая второй, весьма произвольный юбилей, то есть празднование зачем-то десятилетия моего директорства и опять с демонстративным адресом, – не могли уже поднять мое исстрадавшееся сердце. Я прямо болел, видя, как систематично рушится мое дело и как бесцеремонно и бессердечно оскорбляют во мне и в моем деле решительно все75. Поэтому я решил выйти в отставку и посвятить себя библиотеке рукописей. Но на мое письмо Победоносцев ответил уклончиво, а Ш2 задумал тем временем добить меня окончательно ревизией училища с помощью такого флюгера, как П. И. Нечаев. Не зная за собой никаких грехов, я принял бумагу с известием о назначении ревизии вполне равнодушно, но появление г. Нечаева с Ш2 через 20 минут по получении бумаги почему-то показалось мне новым предательством и возмутило меня до самой последней степени. Я заявил, что чувствую себя несколько нездоровым и возбужденным, почему и прошу производить ревизию в мое отсутствие. Несколько времени спустя Ш2 уехал, и Нечаев явился ко мне с вопросами или заявлениями, которые я имел бы сделать ему «как ревизору». Я заявил ему, что мною уже писано обер-прокурору о моем намерении покончить службу в Синодальном хоре и училище; что вместе с тем я заявляю г. Нечаеву по службе, как ревизору, что я могу остаться на службе в Синодальном училище только при условии немедленного удаления отсюда Ш2 каким угодно способом, как чиновника, безусловно вредного для нашего дела и надоевшего нам всем своим высокомерием, фальшью и непониманием дела, при упрямом желании руководить нами, мешая нам работать успешно свое дело, интригуя между нами и недостойно мстя неподдающимся его влияниям. <...>
Окраска отчета Нечаева так возмутила меня мерою неблагодарности к моему труду представителя высшей власти, что я порешил немедленно выйти в отставку, чтобы не оставаться в духовном ведомстве ни единого лишнего дня76. Я явился к Победоносцеву и заявил ему, что ввиду отчета ревизора Нечаева и отсутствия протеста его высокопревосходительства я не хочу быть более на службе и прошу сделать, хотя бы из уважения нашего более чем двадцатилетнего знакомства, ему доклад о размере возможной для меня пенсии, так как состояния у меня нет, а работать для науки я еще могу. Я упирал на то, что Синод, обманувший меня обещаниями, должен же оценить меня хоть сколько-нибудь за бесплатное десятилетнее цензорство духовно-музыкальных произведений, за массу бесплатно же исполненных особых поручений в области моей науки и искусства, за пожертвование библиотеки, в которую я положил столько труда.
Это негласное десятилетнее цензорство состояло в том, что Наблюдательный совет при Синодальном училище, в числе обязанностей которого была и цензурная экспертиза духовно-музыкальных сочинений, оказался неспособным даже к появлению на свет, несмотря на учреждение его, утвержденное при первом преобразовании Синодального училища в 1886 году. Как обходился Св. Синод с цензурою до меня – не знаю, ибо мой предместник Добровольский был совсем не музыкант и не певец. С моим приездом в Москву на меня обрушилась неожиданная обязанность эксперта всех духовно-музыкальных сочинений, представлявшихся с просьбами о разрешении к напечатанию. Рассмотрение нескольких тысяч таких бумагомараний познакомило меня по крайней мере с именами курьезнейших неучей-регентов и с уровнем развития этого рода художников.
Конечно, я твердо помнил оба «послания к цензору» Пушкина и разобрался в правовом, так сказать, надобном порядке своего отношения к этому делу и в мере надобной в нем свободы и ненавязывания авторам какого-либо стеснения. Огромный круг авторов (я думаю, свыше 200–300 человек) поражал меня полным неумением писать хоть сколько-нибудь грамотно для хора, удивлял забавною склонностью к воровству и к области давно забытых певческих тетрадей, <...> возмущал своим пустомыслием и бездарностью, главное же – огорчал самым полным отсутствием участия в этом деле вполне серьезных и образованных музыкантов. <...>
Отдельную часть в этой армии авторов составляли архиерейские регенты, монахи, увлекавшиеся вошедшим в моду стремлением вернуться к «древним напевам» и к снабжению их «гармонизацией в духе древних ладов». Нетрудно представить, что приходилось мне прочитывать у таких того или другого сорта усердных и плодовитых авторов. <...> Немудрено, что при всей терпимости, при всем моем стремлении к большему простору всякой свободы и я не пропускал 95% всякого вздора, который истязанием от его прочтения вразумил меня на многое. С поручением этого бывшего в моих руках цензурного дела Наблюдательному совету при Синодальном училище правка последнего стала предметом горестных противоречий. Это освобождение меня от тяжелых и неприятных обязанностей, к тому же и добровольных, но не снимавшихся с меня, произошло сейчас же после введения устава 1898 года, когда Ш2 открыл Наблюдательный совет. В пустословии заседаний этого курьезнейшего заведения мне удалось, однако, с первого же раза устроить нечто вроде порядка, то есть устроить размежевание цензурного труда по ряду сочинений между членами, более склонными по своим занятиям к той или другой области своего ведения. Таким образом, С. Н. Кругликов и В. П. Войденов взяли на себя оригинальные композиции, В. С. Орлов и А. Д. Кастальский – переложения древних роспевов, Василий Федорович Комаров (так называемый «Же дур») – педагогические сочинения и я с о. Василием Михайловичем Металловым – археологические сочинения. Мы уговорились относительно полной свободы мнения и возможностей для большего беспристрастия и взаимной передачи сочинений еще до доклада. Но после первого заседания обнаружилось, что мы ставимся в положение людей безгласных и полная свобода мнений допускается Ш2 лишь в виде нашей «болтовни» и «не идущих к делу рассуждений музыкально-теоретического или археологического содержания»; оказалось возможным, что оставшийся при отдельном мнении был смерен глазами с головы до ног, а протокол с подписями всех членов без надписи утверждения прокурором есть не более как исписанный лист бумаги, за который господам членам был сделан очень прозрачный намек на желательное в будущем «единомыслие».
Одна из функций Наблюдательного совета, к сожалению, не удалась совершенно. Член Совета, «заведующий надзором за частными хорами Москвы» В. П. Войденов, как и все мы, скоро был поставлен Ш2 в положение деятеля, обязанного работать в пределах, указываемых и обязанного (неполучением будущей санкции) воздерживаться от самостоятельных или неуказываемых действий. А сколько бы можно было сделать тут благодеяний певческой детской армии Москвы, безжалостно эксплуатируемой всякими «содержателями хоров». <...>
Совет не задумался над таким подвигом: были вытребованы все без исключения издания Юргенсона и начали баллотировать сочинения (!), придерживаясь, по Металлову, рубрик: рекомендовать, одобрить, запретить – то есть то, что давным-давно было напечатано и о чем мнения Совета никто не спрашивал. Получились сцены такого рода: приносят кучу сочинений разных авторов на букву А (при мне только ее и «рассмотрели»); начинается разбор:
Аллеманов – Стихира на Рождество Христово. Голоса: «В третью категорию, ибо стихира должна петься на глас».
[Аллеманов] – Канон на Благовещение: «Опять в третью категорию по той же причине».
[Аллеманов] – Херувимская: «Не одобряется по той же причине».
Я: «Господа! Что мы делаем? Кому нужны такие определения? Правы ли мы в предъявлении таких требований? Что мы будем делать, когда дойдем до буквы Б, на которую имеется лишь имя Бортнянского? Ведь, чтобы быть последовательным, надо будет «запретить» все сочинения Бортнянского, ибо они полны хроматизмов и более чем часто написаны на гласовые тексты. Например, вы должны будете запретить и Херувимскую № 7 по наличности в ней квинт, и «Ангел вопияше» по обязательному роспеву «Светися» на первый глас?»
Ш2: «Конечно, я не специалист! Одобряет Совет».
Я: «Но что нас заставляет заниматься таким сортированием духовно-музыкальных произведений? Ведь Синод не спрашивает нас, и Цензурный комитет также, так что же мы стараемся?»
Нетрудно угадать, что Ш2 только и оставалось прекратить это глупое занятие. Но он все-таки подвел Совет под неприятность, то есть когда понадобилось Придворной капелле издать чуть не пятое-шестое издание Ломакина, Совет «запретил», мотивируя наличностью хроматизмов. Хорошо, что хватились в Синоде и не послушались Наблюдательного совета, уведомив его, однако, что сочинения Ломакина разрешены Синодом. После такого казуса я перестал бывать в этих глупых заседаниях...
Я объяснил Победоносцеву, что, разговаривая с Нечаевым, я узнал, что по закону мне за 28 лет моей службы могут дать лишь 280 рублей в год и что смешно говорить о таком применении закона по отношению ко мне. Победоносцев сказал тут же, что о пенсии в 280 рублей не будет и речи, что он живо помнит и ценит мою «бывшую службу», что он не в силах, да и не желает убрать Ш2 из Москвы как человека вполне необходимого и даже незаменимого для управления имуществами и распустившимися монастырями и такими законниками, как пресловутые консистории.
– Я выхлопочу вам пенсию до 2.000 рублей – будете ли вы довольны?
– Вполне и сердечно благодарю ваше высокопревосходительство, особенно же, если мне будет по-прежнему предоставлена в заведование библиотека рукописей Синодального училища. С 2.000 в год с женой могу прожить в Москве, не тратя сил на посторонний заработок и предавшись любимому труду, который, конечно, более всего будет полезен Синодальному училищу.
– В таком случае вот что: сегодня четверг, и я успею заняться этим делом, зайдите ко мне в субботу или в понедельник, и тогда я дам окончательный ответ.
Разговор этот был 25 января; 26-го я читал реферат, после которого Шереметев «за чаепитием» шепнул мне: «Я могу Вам сообщить хорошие новости, о которых в этом многолюдстве говорить неудобно; зайдите ко мне завтра утром пораньше, часов в 9–10». Наутро я действительно узнал, что дело о перемещении меня в Капеллу государем решено окончательно. В связи с таким известием я спросил Шереметева: «Как мне быть с Победоносцевым?» – «Поезжайте сейчас к нему, передайте по секрету о вашем будущем назначении и просите дать вам продолжительный отпуск, хотя бы по болезни». Я так и сделал. Конечно, отпуск по приезде в Петербург был мне сейчас же дан, но... на две недели. Оказалось, что Победоносцев не поверил в возможность моего назначения, а Ш2 пустил в ход через Озеровых в Аничковом дворце решительно все, чтобы затормозить дело. Мне писал о том С. А. Рачинский, бывший в это время в Петербурге и лично слышавший про меня такие чудесные вещи (вроде того, что я стар и дряхл, что я пьяница, что я неблагонадежен, плохой музыкант даже и в области церковного пения, что бью детей и т. п.). Но Рачинский и Шереметев сочли надобным вступиться за меня. Между тем, несмотря на мое молчание, в Москве заговорили о моем переходе в Капеллу сначала глухо, потом уже и прямо мне в глаза. Пришлось открыться товарищам, пришлось назначить последнюю лекцию в консерватории и подумать о начале полной ликвидации моей жизни в Москве, прощальных визитах, о перевозке вещей, о продаже всякого домашнего скарба, о сдаче должности, о своем здоровье и жены и т. п.
Осталось теперь пережить в Москве расставание с Синодальным училищем и хором. Я чувствовал, что я всем своим существом слился с ними и люблю их горячо, но я не предчувствовал меры боли этой разлуки, меры моей привязанности к Москве, к ее Кремлю, к ее музыкальному миру, вдруг объявившихся резко, мучительно, скорбно. Я не мог ходить по Синодальному училищу, и особенно в кучке с мальчиками, чтобы слезы не навертывались на глаза; я перестал слушать Синодальный хор, я перестал ходить в библиотеку рукописей, так как мои нервы не выносили и мысль о предстоящей разлуке просто терзала меня. И раньше, живо представляя себе картину бы л ого-давнего, я испытывал драмы, проходя по Красной площади и кругом Кремля; в нервные дни даже примелькавшаяся глазам местность Кремлевских соборов волновала меня, теперь же я прямо начал бояться вида на Замоскворечье от решетки над Тайницкими воротами... Сердечно жалел я и консерваторию, в которой мои лекции были, так сказать, продухом моих занятий наукою, живейшим общением с некоторыми моими слушателями; наконец, я расстался со столь любимым мною многоуважаемым С. И. Танеевым, дружбой которого ко мне я всегда радовался и даже гордился.
Нечего рассказать о трогательнейших проводах, которых я удостоился в Москве. Меня глубоко взволновала овация моих учеников в консерватории, которые, собравшись в группу слушателей за все 12 лет, предложили мне сняться вместе с ними. Краткая надпись на детском альбоме Синодального училища «директору-отцу» и такая же почти надпись на складне с Васнецовской Богоматерью от сложившихся, списавшихся между собой бывших учеников Синодального училища были достаточно выразительны. Меня наградили подарками на память и товарищи-сослуживцы, и взрослые певчие, даже дамы, даже и прислуга училища. Верхом удовлетворения было заочное празднование моих именин 28 октября в Москве. Грустно закончить перечень этих трогательных оваций замечанием, что в кабинете Ш2 велась им запись и проделывалась в свою очередь система возмездия. Не имея возможности уберечь от расплаты Ш2 некоторых коренных москвичей из моих бывших сослуживцев (о. Арбеков, о. Цветков, В. С. Тютюнник, Н. И. Соболевский и другие), я удовлетворился тем, что перетащил к себе А. К. Смирнова, Н. П. Румянцева и А. В. Преображенского. Моя переписка с товарищами да объяснит будущим ученикам Синодального училища горький смысл переживаемого им теперь времени. Пропадающий сейчас горемычный В. С. Орлов, которого я горячо убеждал не брать место директора, тяжело поплатился уже за свою и Ш2 ошибку. Мне говорили, что сознался в ней, наконец, и Ш2, сказав: «Да, я вижу теперь сам, что мы потеряли и регента, и директора и не приобрели ни того, ни другого». А еще застряли в Москве милейший «Кузька» – А. Д. Кастальский и даровитый Паша Чесноков, взывающие мне сюда на тему: «Изведи из темницы душу мою!» Как вытащить их – пока не могу придумать.
[1902 год]77
С утра 3 ноября по приезде в родную моему сердцу Москву начался ряд самых упоительных впечатлений, глубоко растрогавших меня и приведших в такое расположение духа, при котором я забыл даже о моей печени. Множество новых и красивых домов украсило этот чудный город. Я прошел из Большой Московской гостиницы утром кругом Василия Блаженного, Спасскими воротами мимо памятника Александру II, любовался на чудесный вид Замоскворечья и пошел в Успенский собор. Меня так и охватило роем многолетних воспоминаний, любовью моей к этому храму, ласковым приветом, который я получил чуть не десять раз, только идя до левого свечного ящика, где я всего чаще стоял в прошлые годы за службами. Я заметил, как встрепенулись певчие под управлением Паши Чеснокова, издали увидев меня. Родные мне звуки моих ектений показали мне с первого раза, что меня еще помнят в Успенском соборе. Херувимская Паши Чеснокова на «Радуйся», при мне еще написанная, была что-то глубоко прочувствованное, истиннорусское, чрезвычайно совпадавшее с обстановкой собора. Пение «Милости мира» А. Д. Кастальского с его неподражаемым «Тебе поем» (А dur, с речитативом у альта) и «Достойно» – его же на роспев «Царя Феодора» начали, впрочем, еще с Херувимской так волновать меня, что я заплакал и, признаться, не мог остановить слез моих до причастного стиха. Мой милый ученик [П. Чесноков] пел прекрасно и прекрасные вещи. Все это выросло на моих глазах! Во время проповеди я прошел сначала на левый клирос, потом в алтарь, потом на правый клирос, поздоровался со всеми и был очень растроган общими мне сердечными приветствиями.
После обедни я был в Синодальном училище у В. С. Орлова, Кастальского и И. И. Серебреницкого, ходил с ними по училищу, вновь видел всех учеников в столовой, видел мой портрет, поставленный в библиотеке рукописей (сердце мое сильно билось, когда я обошел каждый шкап с бесконечно милыми мне книгами! Как много раз я был истинно счастлив и свободен в этой чудесной комнате! Как много и как упоительно работалось в ней среди сущих сокровищ для будущего искусства!). Я был глубоко удовлетворен и тем, что из библиотеки рукописей я попал на заседание общества педагогов, в котором мне в свое время удалось зажечь хороший огонек в этом помещении. Заседания эти перенесены теперь в учительскую комнату, бывшую при мне ученической библиотекой. Тут я и увиделся со всеми самыми энергичными членами кружка78.
Потом я попал на юбилей несравненного «Московского трио» в Большом зале консерватории и прослушал [трио] Шуберта В dur и [трио] Чайковского a moll. Видел все овации таким достойным артистам, как Шор, Крейн и Эрлих, поздравил их и вспомнил с ними время, когда и мне пришлось быть им полезным, облегчая и утверждая возможность их концертов в Синодальном училище. Играли отлично, местами же прямо превосходно. Здесь я встретил С. С. Волкову, передал ей свой билет на вечер в Синодальном училище, так как мне был приготовлен почетный билет79. После концерта у Шора и К0, в котором я встретил многих своих знакомых, я был опять в заседании общества педагогов, где наша беседа была и оживленна, и дружественна. Потом я был у Тютюнника и Алексинских, где беседа в кругу моих приятелей была также оживленною и полною воспоминаний о прошлом.
Концерт Синодального хора не произвел на меня того чарующего впечатления, какое я получал прежде. Конечно, хор пел очень хорошо, стройно, но как-то издерганно, нервно, неспокойно – в неприятной мере деланно; из исполнения хора исчез прежний хороший, здоровый, увлекательный, ровный звук, одушевленное пение, появилось же что-то совсем придавленное, не живое, а несмелое, немолитвенное. Стремление к безукоризненной чистоте в быстром следовании сложных гармоний и прежде достигалось В. С. Орловым в надобных местах отчеканиванием таких мест, теперь же я видел сплошь такую манеру, отчасти производившую иногда впечатление, как от механических пьянино, – сухота, безжизненность, чистота, нехудожественность и крайне прямо неприятная деланность... Техника хора по-прежнему великолепна, и В. С. Орлов лепит с помощью ее все, что ему придет в голову. Но сам Василий Сергеевич уже далеко не тот бывший возвышенный и восторженный певец-регент, а безнадежно больной и неприятно вычурный. Его дирижирование теперь полно нервных гримас, нервных резких и беспокойных движений, произведших на меня несколько раз впечатление прямо страдальческое. Хор очевидно делал все, повинуясь ему в таких мелочах, как внезапно придуманные им оттенки, неожиданные для хора подчеркивания, столь мне знакомые по прошлым годам. Но души, величия, свободы, молитвы – уже не было. В хоре мне особенно понравились дисканты, дававшие чудесный звук из своих, умело поставленных Тютюнником горлышек и местами, мимо Орлова, фразировавшие прямо очаровательно. В программе – масса впечатлений: отличные от Комарова и Самарина (№ 4/1), крайне жалкие от Аренского и Копылова, недоумение пока от Кастальского, грустные по деланности от Чайковского и № З/П Ипполитова-Иванова, также и № 5 Гречанинова, – крайне вычурные от №№ 4 и 6/П, очень порадовало меня «Славословие» Паши Чеснокова, но и тут много зеленого и внешне рассчитанного, забивавшего общее хорошее, теплое настроение80.
<...> После концерта я опять был у Василия Сергеевича, и мы пробеседовали с ним, вспоминая мирное былое, до полуночи. Тут я вгляделся в лицо бывшего художника, столь жестоко изуродованного без меня алкоголем... Мне уже сказали ранее, что приговором врачей сердце Василия Сергеевича признано недолговечным и, в случае продолжения пьянства и возобновления появившихся припадков астмы, имеющим прожить не далее предстоящей весны... Дарование его, как мне показалось, уже почти испарилось и выражается ныне вместо бывшего высокого парения какими-то музыкальными судорогами, выдаваемыми им за сильное чувствование. Прежде этого у Орлова безусловно не было. Техника Орлова, пожалуй, стала еще сильнее по уменью держать все в руках; но мысли прямо обеднели, вдохновение – прямо исчезло... Внешний вид Орлова-человека – одна жалость! Очевидно, он исстрадался, попав на неподходящее и непосильное его самолюбию и развитию директорство, и крепко болеет, не умея переносить гнет Ш2. Его самозабвение в вине, конечно, только добивает его здоровье и жестоко укорачивает его жизнь. Он вполне расстроен нервами, как кажется, до полной безнадежности. Мне было очень тяжело глядеть на бывшего моего сотрудника в таком его виде81.
Комментарии
Публикуемые в настоящем томе Воспоминания С. В. Смоленского – это часть посвященной московскому периоду седьмой главы его обширных мемуаров. Воспоминания создавались в Петербурге, судя по датам в рукописи – с 28 июля 1902 года по 31 января 1903 года и состоят из девяти развернутых глав: первые шесть посвящены детству, юности, Казанскому университету и деятельности Смоленского в Казани; после весьма масштабной московской главы, главное содержание которой связано с Синодальным училищем и хором, следуют главы «С. А. Рачинский и Татево» и «Придворная капелла». При жизни Смоленский издал лишь основанную на тексте казанских глав брошюру «Из воспоминаний о Казани и Казанском университете в 60-х и 70-х годах» (Казань, 1904). В наше время в журнальной публикации появился сокращенный вариант восьмой главы – «С. А. Рачинский и Татево» (журнал «Домовой»,
Тверь, 1995, № 9); несколько страниц из седьмой главы напечатала «Российская музыкальная газета» (Москва, 1996, №№ 5–6).
Данная публикация выполнена по автографу «Воспоминаний», хранящемуся в Музее-квартире Н. С. Голованова (филиал ГЦММК, № 528). Рукопись Смоленского представляет собой два толстых тома в твердых переплетах (275 и 279 листов). Седьмая глава занимает лл. 236–275 первого и лл. 1–130 второго тома. Оба тома до отказа заполнены четким, убористым почерком Смоленского и писаны его любимым гусиным пером и черными чернилами. В некоторых местах в рукопись вклеены оттиски публикаций в периодике Смоленского и других авторов, афиши концертов, фотографии героев повествования. Как уже говорилось, машинописный вариант «Воспоминаний» (без последней главы) хранится в Рукописном отделе петербургской РГБ (ф. 1141, № 465). Отдельные главы, переписанные рукой Екатерины Амандовны Смоленской, родственницы Степана Васильевича, а также машинописный вариант первого тома, находятся в РГАЛИ, в фонде С. С. Волковой (ф. 723). Рукописные варианты казанских глав разбросаны по разным хранилищам.
Публикуемый текст поделен Смоленским на три очерка: «Прокурор А. Н. Шишков», «Прокурор князь А. А. Ширинский-Шихматов» и находящийся между ними очерк без заглавия, посвященный Синодальному хору.
Работая над седьмой главой, автор опирался на свои подробные «Дневники» 1889–1901 годов (два тома объемом по 300 листов каждый; ныне хранятся в РГИА, ф. 1119, on. 1, №№ 7:8). Этот источник широко привлекается нами при комментировании основного текста. В комментариях использованы также предшествующие главы «Воспоминаний». В двух случаях фрагменты из «Дневников» включены в основной текст (это оговорено в комментариях): имеются в виду описание посещения Синодального училища Чайковским и замыкающая публикацию запись Смоленского о посещении Синодального училища через полтора года после переезда Степана Васильевича в Петербург. Смоленский имел обыкновение, перечитывая написанный фрагмент текста, делать к нему дополнения, которые иногда носят характер примечаний, но чаще являются по смыслу вставками в основной текст; при этом тип оформления один и тот же: крестик в скобках с указанием листа, на котором надо искать вставку. В подобных случаях дополнения Смоленского безоговорочно вводятся нами в основной текст.
А. В. Преображенский К кончине С. В. Смоленского
Степан Васильевич Смоленский... Всегда бодрый, энергичный, он, кажется, прожил бы еще не один десяток лет; крепкого телосложения, мало подверженный заболеваниям, он никому не внушал опасений относительно своего здоровья. Полный надежд на будущее, со множеством планов и уже начатых работ в любимой сфере церковного пения, – он и думать не мог о приближении конца. За несколько недель до смерти, правда, он говорил о своем недомогании, о наступающей старости, и всем было заметно, что он не особенно здоров, но о таком скором конце никто не помышлял. Во время Съезда хоровых деятелей и после него на Регентских курсах Степан Васильевич работал обычно: мы видели его на заседаниях, лекциях и в частных беседах. Всем он говорил, что ему «надо отдохнуть», что он «устал», что едет в родную и любимую Казань на лето. Он и поехал, но на половине пути – в Васильсурске – должен был остановиться: запущенная простуда легких, обыкновенный плеврит заставил его слечь в постель. Врачи успокаивали его скорым выздоровлением, и Степан Васильевич собирался уже возвратиться в Петербург, чтобы основательно полечиться... но час приближался, силы слабели и наконец иссякли совершенно в борьбе с недугом – Степана Васильевича не стало.
В церковно-певческом мире это был большой человек. Не в краткой заметке вести речь о деятельности его, но хотелось бы и теперь вспомнить о его жизни и деятельности хотя в самых кратких чертах.
Формуляр Степана Васильевича несложен. Родился в 1848 году в Казани, окончил университет по юридическому факультету в 1872 году. Три года числился кандидатом на служебные должности, преподавая в то же время пение в инородческой Учительской семинарии. В 1875 году определен в ту же семинарию учителем географии, продолжая преподавать и пение. В 1889 году приглашен профессором по кафедре истории церковного пения в Московскую консерваторию и директором Синодального певческого хора и училища церковного пения. В этой должности пробыл 12 лет; в 1901 году переведен управляющим Придворной капеллой, а в 1903-м уволен в отставку.
Если и можно над чем остановиться в этой официальной биографии, то разве только над несколько необычным превращением учителя пения казанской Учительской семинарии в профессора консерватории, директора Синодального хора и, наконец, управляющего Придворной капеллой. Однако неофициальная биография дает нам ясное и определенное оправдание этого превращения.
В самом деле. Школьные годы Степана Васильевича прошли в постоянном соприкосновении с музыкой и церковным пением. Знакомство с семьей Леонида Федоровича Львова, участие в музыкальных исполнительских собраниях там в качестве скрипача открыли доступ к серьезной музыке. «В музыкальном отношении я был настолько развит, – говорил Степан Васильевич, – что понимал еще тогда всю пустоту губернских музыкантов, щеголявших «новейшей» полькой или «последним» вальсом». О церковном пении и говорить нечего: прилежный к церкви, знающий хитрую музыкальную науку, он еще тогда же выступает в роли регента гимназического хора, а по окончании университета управляет с большим успехом хором учительской семинарии. Здесь именно установилась завидная репутация Степана Васильевича как учителя пения. Он, действительно, отдавался своему делу всецело и за шесть-семь лет преподавания создал самостоятельную систему, легшую в основание выпущенного им вскоре в свет «Курса хорового пения» по цифирной методе. Напечатанный сначала литографским способом для семинарии, – теперь он имеет шесть изданий и пользуется особым распространением в народных школах.
Инородческий состав учеников семинарии не только не помешал Степану Васильевичу поставить образцово дело преподавания, но скорее вызвал его на особое отношение к ученью. Сам Степан Васильевича выражается об этом: «Все русские, слышавшие инородческое пение, бывали поражены тою искренней трогательной задушевностью, простотой, молитвенностью, которые, к сожалению, так редко можно встретить в русских церквах. Этот характер исполнения, происходящий несомненно от самого сердца, самой теплой, искренней веры, от радости петь на своем языке, от умиления слышать родную речь в церкви, – эти дорогие условия души инородцев, – есть та почва, на которой должны быть посеяны самые лучшие зерна». В этих словах сказывается далеко не заурядный учитель пения: здесь налицо человек, почувствовавший в пении народную душу, связавший со звуками внешними их глубокое внутреннее содержание и значение. Таков всегда был Степан Васильевич, таково же было всегдашнее его отношение к русскому церковному пению. Это понимание пения как выражения народной души проходит красной нитью чрез все дальнейшие, даже чисто археологические, работы Степана Васильевича. Оно сообщает им всюду не частный только музыкальный или музыкально-этнографический интерес, но делает их психологическими этюдами, картинами народной жизни и искусства.
Стоит привести поэтому еще несколько строк из воспоминаний Степана Васильевича.
«Когда я был помоложе, со мной «случилось два случая»: однажды я попал на панихиду и потом был за литургией и отпеванием моего товарища (по гимназии) – старообрядца. Напевы церковные, слышанные мною в эти службы, были исполнены грубо, нестройно, но удивили меня своим музыкальным содержанием. Я удивился еще и тому, что, живя душа в душу с покойным другом, я не удосужился вдуматься в то, что он – раскольник. Другой раз я задумался на пиру моей свадьбы. Страстно любя русские народные песни, я вдруг вспомнил, что на моей свадьбе не было и не могло быть пропето из них ни одной, так как никто из бывших на этом пиру не имел о русской песне наималейшего понятия, хотя все присутствовавшие были, несомненно, русские люди».
Эти два случая весьма характерны для Степана Васильевича. Церковное пение, древнерусское, в наиболее точно сохраняющем его старообрядческом изложении, и русская народная песня – вот два предмета, изучению и пропаганде которых Степан Васильевич отдал всю свою жизнь. Его потянуло к тем древним напевам, которые слышал он у старообрядцев. Возможность изучить это пение в Казани, где в библиотеке Академии находится несколько сот так называемых соловецких рукописей, была превосходно использована Степаном Васильевичем, а живое общение со старообрядческими певцами давало ему настоящий ключ к проникновению в тайны крюкового старого письма.
Вскоре после составления описания соловецких рукописей (напечатана лишь часть) Степан Васильевич издает капитальный труд «Извещение о согласнейших пометах», или так называемую «Азбуку Александра Мезенца» – ученое издание, сразу поставившее автора в ряд лучших исследователей старинного церковного пения. И неудивительно, если единственный тогда знаток этого дела – профессор Д. В. Разумовский – перед своей смертью высказывает пожелание, чтобы его преемником по Московской консерватории был не кто иной, как учитель пения инородческой семинарии Смоленский.
Но в Москве Степану Васильевичу предстояла не столько карьера ученого, сколько директорство в Синодальном хоре и училище церковного пения. Этому учреждению суждено было иметь Степана Васильевича во главе в течение двенадцати лет, и эти годы – лучшие годы жизни и деятельности Степана Васильевича. Здесь нашли свое надлежащее применение и педагогические способности, и музыкально-народнические наклонности Смоленского. Если сейчас не время останавливаться на подробностях этой «службы» Степана Васильевича, то сейчас время сказать, что Синодальный хор и училище обязаны ему той известностью, какая упрочила за ними не только репутацию первоклассного хора и образцового церковно-музыкального училища, но и репутацию учреждения, в сфере которого воспитывалось новое «московское» направление нашего церковного пения. Нисколько не умаляя значения каждого другого имени, связанного с этим возвышением училища и хора, равно и с самым «направлением», следует признать, что Степан Васильевич своей любовью к старине церковного пения, своим личным влиянием и помощью оказал существенные услуги развитию нового направления и для него имел самое благотворное значение.
Училище приобрело в Смоленском превосходного руководителя. Нам, вероятно, в недалеком будущем выпадет на долю поделиться с читателями настоящего журнала частью переписки Степана Васильевича со своими учениками. Мы увидим воочию, насколько близко входил этот «директор училища» в интересы своих учеников, как он умел направлять их волю на самое необходимое в ученическом возрасте, как близко к сердцу он принимал личную жизнь каждого и умел помогать в нужную минуту. Состав преподавателей, воспитателей подбирался Степаном Васильевичем весьма тщательно, и Синодальное училище в лучшие годы директорства Смоленского жило полной жизнью образцового учебного заведения.
Тогда же Степан Васильевич сумел собрать библиотеку церковнопевческих рукописей при училище, имеющую в настоящее время свыше двух тысяч номеров, то есть устроить такое специальное собрание, равного которому в этой области не существует. Если, как верится, будущее нашего церковного пения в своих лучших проявлениях целиком основывается или – должно быть основываемо на прошедшем, то справедливы слова покойного, что этой библиотеке рукописей суждено вписать совершенно новые страницы в историю нашего церковного пения.
В Москве была спета лебединая песня Степана Васильевича; здесь, в Петербурге, ему пришлось жить скорее прошедшим. Незадавшееся управление Придворной капеллой отодвигает Степана Васильевича от официальной церковно-певческой жизни; он избирает скромную роль члена Общества любителей древней письменности и, тем не менее, успевает создать целый ряд работ, докладов, лекций, изданий, в высшей степени ценных по своему значению, а в 1906 году устраивает экспедицию на Афон с целью исследования коренного вопроса русской церковно-певческой археологии.
Только в самые последние годы опять оживает педагогическая деятельность Степана Васильевича в учрежденных им в 1907 году Регентском училище и Музыкальной школе. Это были уже последние его «работы» ... Они принесли ему много забот, тревог и огорчений, но в них он оживал душой, весь отдавался любимому делу. И опять здесь, как когда-то в Синодальном училище, зарождались те теплые, сердечные отношения между директором и учащимися, без которых для Степана Васильевича не мыслимо было никакое живое дело. Опять возникала уверенность в надобности труда Степана Васильевича, его своевременности и пользе.
Смерть отняла Степана Васильевича от любимого им дела, когда оно еще не успело вполне окрепнуть. Но его уверенность в святости дела, в правильном понимании задач времени, его готовность идти дальше – остаются непоколебимыми и после его смерти, и дай Бог продолжателям его дела осуществить хотя отчасти его конечные пожелания и любимые чаяния. А ему, дорогому Степану Васильевичу, да будет от нас и от всех деятелей русского церковного пения, которому он служил, вечная память...
Комментарии
Выдающийся исследователь русских и византийских музыкальных древностей А. В. Преображенский родился 16 февраля 1870 года в Сызрани в семье священника. По окончании Екатеринославской духовной семинарии, а затем Казанской духовной академии (1894) он преподавал Закон Божий в начальных училищах и женской гимназии Таганрога. В августе 1895 года Преображенский был переведен в Бахмут на должность учителя греческого языка в местном духовном училище, а в ноябре 1897 года назначен также заведующим бесплатной городской библиотекой-читальней. Возможно, подобное назначение обусловливалось тем, что молодой человек зарекомендовал себя как автор ряда печатных работ: опубликованного в 1896 году в Москве «Словаря русского церковного пения», «Указателя книг, брошюр, журнальных статей и рукописей по церковному пению» (Екатеринослав, 1897), статьи «Реформа богослужебного пения в католической церкви» (СПб., 1897). В сентябре 1898 года по ходатайству Смоленского Преображенский был переведен в Москву на должность учителя русского языка и литературы в Синодальном училище. В ходатайстве Преображенский характеризовался как «опытный педагог и серьезный научный работник, стремящийся в Синодальное училище ради возможности работать с помощью его библиотеки». (Письмо Смоленского к А. А. Ширинскому- Шихматову // РГАДА, ф. 9, ч. 1, № 64.)
Новый преподаватель принял самое деятельное участие в пополнении Научно-музыкальной библиотеки рукописей и за четыре года пребывания в Москве стал квалифицированным медиевистом. Упрочилось и его служебное положение: кроме уроков русского языка в певческом отделении и русской словесности и истории русской литературы в регентском, он начал читать педагогику и дидактику ученикам двух старших классов. Уезжая в Петербург, Смоленский поручил Преображенскому рукописную библиотеку. 6 июня 1901 года на него было возложено общее наблюдение за постановкой общеобразовательных предметов в училище; 20 августа того же года последовало назначение на должность старшего воспитателя. Не исключено, что именно в Преображенском видел Смоленский своего преемника на посту директора училища. Однако обстоятельства сложились иначе, и 21 августа 1902 года Преображенский вслед за Степаном Васильевичем перебрался в Петербург на должность библиотекаря и преподавателя Придворной капеллы.
Петербургский период ознаменовался расцветом научной деятельности ученого и появлением его основных трудов: «О сходстве русского музыкального письма с греческим в певческих рукописях XI–XII веков» (СПб., 1909), «Краткий очерк истории церковного пения в России» (СПб., 1910), «С. В. Смоленский в его историко-археологических работах по церковному пению» (Хоровое и регентское дело, 1912, № 7–8), «Культовая музыка в России» (Л., 1924), «Греко-русские певческие параллели XII–XIII веков» (De Musica, вып. 2. Л., 1926). Вместе со Смоленским он принял участие в научно-музыкальной экспедиции на Афон.
Антонин Викторович был, по всей видимости, самым преданным учеником Смоленского. Именно Преображенский стал инициатором составления сборника воспоминаний о Смоленском (план не был осуществлен), опубликовал после кончины Смоленского ряд его статей. Именно Преображенскому Смоленский завещал распоряжение своим личным архивом с условием необнародования его содержания в течение десяти лет. По истечении этого срока в 1919 году, Преображенский передал огромное собрание документов и материалов в Петроградский исторический архив (РГИА, ф. 1119).
Антонин Викторович пережил своего учителя на двадцать лет, и его деятельность стала связующим звеном между разными поколениями музыкантов-медиевистов: в 1920 году он был приглашен для чтения курса истории церковной музыки в Петроградскую консерваторию, и среди его учеников оказался Максим Викторович Бражников, впоследствии крупнейший исследователь древнерусского певческого искусства, основатель целой школы.
17 февраля 1929 года Преображенский скончался, не достигнув шестидесятилетнего возраста.
Данная статья публикуется по тексту из журнала «Хоровое и регентское дело» (1909, № 7/8).
А. В. Никольский. С. В. Смоленский и его роль в новом направлении русской церковной музыки
Еще со времен Бортнянского русские духовные композиторы ясно сознавали то огромное значение и ту художественную ценность, какие присущи нашим древним роспевам – подлинно церковным как по своему происхождению, так и по силе веками освященной традиции, и вследствие этого добрая половина их творчества приходится на долю так называемых «переложений». При этом не только композиторы среднего таланта, обладавшие к тому же и сравнительно слабой техникой письма, но и такие величины, как Чайковский и Римский-Корсаков, сходились на основном принципе работы: их переложения не шли далее простой гармонизации, в которой древний роспев принимался как данная мелодия, а сопровождающие последнюю голоса назначались для образования аккордов в такой связи одного с другим, какая диктуется правилами и законами общеупотребительной гармонии. Остроумие и вкус, проявленные в таком подборе гармонического выражения к данному напеву, при наличности большой или меньшей строгости стиля, обусловливали интерес и достоинство переложений. Огромное большинство таких работ, однако не находило для себя применения в певческой практике; клирос чуждался этой литературы, находя ее слишком сухой и скучной и явно предпочитая ей сочинения оригинальные. Конечно, клирос был в значительной степени прав: гармонизация, за малым исключением, оказывалась бессильной вскрыть и сделать ощутимыми красоты подлинных роспевов. Этот курс к разработке древне-церковных мелодий был ложным, и работникам церковной музыки надлежало изыскивать новые пути.
Покойный Степан Васильевич Смоленский был одним из убежденнейших поклонников древних роспевов, от надлежащей разработки которых он ожидал коренного преобразования нашего церковного пения, истинного расцвета его. «Блуждание русской певческой мысли по иноземным путям» служило для Степана Васильевича предметом глубокого огорчения; он горячо мечтал о том времени, когда это «шатание» прекратится и наше пение станет самобытным, покоящимся на русско- народных основаниях, выделив всю их чарующую красоту и силу. Рассуждая о переложениях древних роспевов, Степан Васильевич заявлял не раз, что гармоническая основа для этих роспевов не приложима по существу. Гармония, выросшая на европейской почве, Европой разработанная и привитая музыкальному сознанию людей, состоит в органическом противоречии с сущностью и духом наших древнецерковных мелодий. Как и русская народная песня, церковная мелодия построена на своеобразном основании, ничего общего не имеющем с европейским мажором и минором. Поэтому гармонизовать церковные мелодии – значит облачать их «в шубу с чужого плеча», искажать и обесцвечивать их подлинный смысл и образ. Обработка русской народной песни мало- помалу выбилась на свою собственную дорогу. Песенным мелодиям уже не навязывают гармонических приемов, а ищут выражений, вытекающих из духа самой песни, и действительно находят формы безусловно свежие и не заимствованные из ходовой иноземной гармонии. Современная обработка народных песен, строго говоря, имеет очень мало сходства с гармонизацией в собственном смысле этого слова, так как в ней тщательно избегают установленных правилами гармоний, каденций и оборотов, напоминающих последние, что, как известно, является самым характерным приемом при гармонизации, а равно и пользуются настоящими аккордами далеко не в той мере, как свободными сочетаниями в виде двоезвучий, унисона и т. п. Если в разработке народных песен почва гармонии, с явным успехом для дела, оставлена решительно и бесповоротно, то и в области переложений церковных мелодий необходим тот же путь. Сближение песни с древне-церковными роспева- ми нельзя считать насильственным, а тем более шокирующим, ибо несомненно, что в обоих видах русской музыки сказался один и тот же народный дух, а, следовательно, и тождественность первооснов музыкального мышления.
Отвергая законность гармонизации в области переложения церковных мелодий, Степан Васильевич столь же определенно высказывался и против приложения в данном отношении начал европейского контрапункта. Дело в том, что такое течение в пользу контрапункта в девяностых годах прошлого столетия, да и ранее того, существовало. Говорилось, что церковными попевками – характерными и яркими – можно и даже должно пользоваться в качестве cantus firmus’a для написания сочинений в формах строгого контрапункта. Этим имелось в виду, с одной стороны, обеспечить строгость стиля церковной музыки, с другой – сообщить сочинениям («обработкам») больший интерес, какого лишены простые гармонизации. Расценивая эту мысль, Степан Васильевич указывал, что европейский контрапункт создался исторически на основе григорианских cantus firmus’oe, сходство которых с нашими церковными роспевами более, чем сомнительно. Русским нужен контрапункт, как нужна и гармония, но и тот и другая должны быть своеобразными, органически возросшими на родной почве. Степан Васильевич крепко верил в силу русского творческого гения, а равно и в то, что русская церковная музыка дождется своего «Глинки», который укажет новый путь, могущий привести к полному торжеству русских начал. Будущее, и притом ближайшее будущее, рисовалось его уму таким, когда духовные русские композиторы найдут в себе силы отрешиться от рабства пред иноземщиной и будут русскими не только по духу, но и в формах своего творчества.
Эти взгляды и мысли Степан Васильевич высказывал в 90-х годах в тесном кругу работников и учеников Синодального хора и училища. Благодаря постоянным разговорам и работе создалась вокруг него атмосфера великой жажды к отысканию «новых берегов», горячей готовности приблизиться к осуществлению тех начал, которые он так убедительно выражал и поддерживал. Огромную роль в этом деле сыграла и работа Синодального хора по разучиванию обширной программы намеченного Степаном Васильевичем цикла Исторических духовных концертов (в 1895 году), представивших собою небывалый случай проследить весь ход постепенного движения русской церковной музыки со всеми ее направлениями – здоровыми и нездоровыми. Под влиянием слышанного сознание значительно прояснилось, окрепло и оформилось. Тогда появились и первые опыты в новом направлении.
Движение открыл А. Д. Кастальский, выступив с переложениями сербских «Милость мира» и «Достойно». Неяркие (особенно по сравнению с последующими) первые работы г. Кастальского, хотя и встречены были хором с некоторым недоверием, дали, однако, возможность подметить в авторе и талант, и уменье, и многообещающую новизну письма. Горячо поддержанный сочувствием С. В. Смоленского, В. С. Орлова (регента Синодального хора), А. Д. Кастальский вскоре дал уже настоящие образцы сочинения, явно показавшие, что в нем есть и вера в целесообразность основного принципа, и уверенность в своих силах, и смелость, и широта замысла. Начала, доселе только проповедуемые, попали на здоровую почву. А. Д. Кастальский «нашел себя». В его сочинениях русская церковная музыка сделала крупный шаг вперед по пути новых завоеваний в духе самобытности и вековой церковности.
Почти одновременно выступил А. Т. Гречанинов. В Синодальном хоре он дебютировал своей Литургией № 1, которая по настоянию Степана Васильевича была разучена хором по рукописи и затем исполнена в закрытом концерте для приглашенных лиц. Несомненно, в период репетирования у автора происходили частые разговоры и со Степаном Васильевичем, и с В. С. Орловым, А. Д. Кастальским и другими. В чем они состояли, нетрудно догадаться, так как вслед за Литургией, написанной на началах строгой гармонии, появились в программе Синодального хора и «Воскликните», и «Свете тихий», и «Хвалите», и прочее из первых духовных композиций г. Гречанинова. Известно, что эти сочинения с начала до конца русские, в них «Русью пахнет»; сверх того в них слышатся отголоски древних напевов в свободной, смелой и интереснейшей обработке82. Успех сочинений Кастальского и Гречанинова был не только успехом исполнительского таланта В. С. Орлова, но и торжеством идей Степана Васильевича. «Глинка» церковной музыки переставал быть мечтой, начав воплощаться в действительности... За Кастальским и Гречаниновым не замедлил вырасти П. Г. Чесноков. Его сочинения, написанные частью еще на ученической скамье, встречались с особым вниманием со стороны Степана Васильевича; он берег и всячески лелеял нарождающийся талант. Без своих критических замечаний и указаний Степан Васильевич не оставил ни строчки из написанного в ту пору П. Г. Чесноковым. Эти «трое» дали бытие новому направлению в церковной композиции, породив немало подражателей и последователей.
В сочинениях этого направления мы не находим уже прежнего господства гармонии и ее законов; не встречаем и стереотипных имитационных форм – наследия западного контрапункта. Взамен этого мы можем усмотреть такие особенности письма и изложения, которыми характеризуется русская народная песня, а также и древнецерковные напевы. Эти особенности, взятые вместе, в общей сложности дают право говорить о зарождении того, что Степан Васильевич называл «русской контрапунктикой». «Контрапунктика» (термин, правду сказать, не из удачных) – это смешение элементов гармонии и собственно контрапункта, причем как гармония, так и контрапункт являются в форме обновленных и пересозданных. Разбирая сочинения новой школы с технической стороны, мы действительно можем проследить такое смешение элементов, а равно и присутствие черт народной музыки. На самом деле, в редком сочинении не применяются запрещенные западной гармонией параллельные ходы октавами и даже квинтами. Это «новшество» тем не менее чувствуется как музыкальное выражение, вполне законное в русском сочинении, и слуха ничуть не оскорбляет. Затем бросается в глаза постоянная смена четырехголосия сочетаниями двух- и трехголосными, где, следовательно, гармония поступается своими правами в пользу трех- и двухголосного контрапункта. Откуда взят такой прием? Очевидно, из народной манеры распевать песни хором, где унисон и многоголосие равноправны и то и дело встречаются одно за другим. Еще нередко целые фразы пропеваются каким-либо голосом на фоне выдержанного тона, одного или двух (в октаву или квинту). Это византийский «исон», своеобразно использованный русскими композиторами в области церковного пения. Самая форма многих духовных композиций новой школы изменилась в направлении большего соответствия духу и характеру церковного устава. Например, прежние «концерты» с их «пропорциями» теперь заменены псалмами в свободной форме, зависящей только от текста. В построении предложений и периодов уже не наблюдается прежней «квадратности» (4 + 4 такта и т. п.); конструирование фраз поставлено в теснейшую связь с текстом же.
Новое направление – русское по настроению и по манере письма – далеко еще не сказало своего последнего слова, но оно зародилось, и в этом – факт великой важности. «Брешь пробита». Русские духовные композиторы и деятели почувствовали возможность быть в храме Божием не итальянцами или немцами, а русскими, верными церковной традиции. Повторяем, это важно.
Степан Васильевич Смоленский был одним из идеологов нового направления, имевшим мужество, наперекор господствующим вкусам и взглядам, доказывать и всячески поддерживать необходимость возрождения древне-церковных напевов на началах, заимствованных из духа и существа этих напевов. В данном отношении он проявил особое творчество мысли и имел счастие видеть первые опыты по ее осуществлению в работе своих сотрудников, товарищей и учеников. Человек, способный оценить значительность этой мысли, не может не сказать «великое спасибо!» покойному Степану Васильевичу, признавая его выдающуюся роль в отыскании новых берегов
А. В. Никольский С. В. Смоленский и его последнее учительство
Это «последнее учительство» покойного профессора выпало на долю московских Регентско-учительских курсов летом текущего года. Оно связано с такими характерными, а больше того – с трогательными подробностями, что невольно просится быть записанным и отмеченным как интересная и дорогая страничка из жизни этого человека...
С большим чувством смущения и неловкости писал я – по долгу заведующего курсами – предложение Степану Васильевичу взять на себя чтение истории церковного пения в России. Это смущение было вызвано тем, что гонорар за труд мог быть дан поистине «грошовый». И кому же? Нетрудно понять, что чувство неловкости было резонным и вполне естественным. Приходило в голову опасение получить отказ со стороны Степана Васильевича также и по другим причинам, в числе которых его недомогания и усталость от постоянных работ могли считаться не последними. Но со следующей же почтой Степан Васильевич отвечал, что предложение охотно принимает, невзирая ни на что... Это значило, что он согласен приехать в Москву на 7–8 дней, прочесть не менее 18-ти часов, потратиться на дорогу и проживание и прочее, а получить – 54 рубля. Тут же им было обещано составить для курсов подробный конспект будущих лекций, отпечатать их с тем, чтобы раздать затем господам слушателям. За этим первым письмом последовал ряд других, где Степан Васильевич обнаруживал такую великую заинтересованность устройством курсов, точно речь шла, как говорится, о жизни и смерти его самого...
Свой приезд на курсы Степан Васильевич приурочил ко времени второго съезда. Явился он в Москву полубольной, только что слегка оправившись от инфлюэнцы, которая не покидала его почти всю последнюю зиму. Жаловался на глухоту, на общую слабость. Проговаривался и о том, что он боится не суметь заинтересовать своим чтением курсистов, – вообще нервничал. Говоря по правде, было жестокостью радоваться его приезду: он – слов нет – был желанным для курсов, но для самого Степана Васильевича предстоящий труд был просто подвигом, на который не многие решились бы. Но на это Степан Васильевич отвечал одно: «Я должен работать, ибо еще могу, хочу и рвусь работать» ...
Первая лекция должна была состояться утром 22 июня. Лекция эта не состоялась, так как за день до того Степан Васильевич простудился и слег. Извещая об этом, он просил наведать его. Когда я пришел к нему, меня прямо испугал вид больного: он был слаб и бледен, как умирающий. Начался разговор, и невзирая на мою уклончивость, речь шла не о чем другом, как о курсах и о том, как послезавтра он, Степан Васильевич, начнет читать свои лекции. Через три дня я снова был у него. Степан Васильевич, кряхтя и отчаянно кашляя, поднялся с постели и перешел в гостиную, чтобы условиться со мной о подробностях завтрашней лекции. Я протестовал, но совершенно безуспешно.
На следующий день, в 12 часов, Степан Васильевич действительно приехал на курсы; с помощью швейцара и моей, одетый в теплое пальто и в шляпе, с великим трудом и медленностью поднялся он в зал, 10 минут отдыхал, а затем побрел на кафедру. Слушатели были прямо подавлены его страдальческим видом и тихо-тихо заняли свои места. Было жутко... Степан Васильевич, слабым голосом, начал с признания, что он яви лея-де узнать и испытать свои силы, читать самого курса сегодня не предполагает, а ограничится небольшим вступлением в него... Лицо было неподвижно и бледно, голос тихий, к тому же часто прерываемый удушливым кашлем.
«Вступление» оказалось довольно длинным. Вдруг Степан Васильевич повеселевшим тоном заявляет, что после десятиминутного перерыва он продолжит чтение, и именно чтение курса. Превращение было так неожиданно, и в то же время так явно и решительно, что пришлось согласиться, хотя и шевелилась мысль, что «напрасно это, не следовало» ... Во второй половине своей лекции Степан Васильевич удивил контрастом между тем, что и как он говорил, и тем, каким оставался его внешний вид. Мертвенно-бледное лицо, кашель – прежние, но речь и мысли – вполне здорового, сильного человека. Аудитория, встретившая Степана Васильевича в почтительной тишине, полной сочувствия и жалости к его болезненному состоянию, – теперь заразилась бодростью лектора, а порою даже разражалась дружным смехом на меткий юмор некоторых выражений Степана Васильевича. Час прошел незаметно. Лекция окончена; все уходят, оживленно разговаривая, а Степан Васильевич – теперь уже в третий раз изменившись, обессиленный, шепотом просит дать ему отдохнуть пред возвращением на квартиру. Наутро – та же картина приезда и входа в зал, но, с первого же слова, живая речь, пересыпанная анекдотами и шутливо-меткими замечаниями, вызывающими неудержимый хохот. И так – изо дня в день, всю неделю...
Во всех этих превращениях ярко бросалась в глаза черта «прирожденного» профессора: он, как боевой конь, заслышав клич, сразу воспрянув духом, рвался в дело, обнаруживая всем своим существом, что годы и болезнь для него не существуют, раз речь идет о том, чем дышал и жил он каждый миг своего бытия. Слушая Степана Васильевича, нельзя было не забывать порою о его состоянии: весь склад его речи и самый предмет ее увлекали и захватывали невольно. С сожалением думалось, почему он, Степан Васильевич, доселе не издал своих лекций по истории русского пения? Это большая, невыразимая потеря для певческого и музыкального мира! Его беседы по истории были интересны прежде всего в том отношении, что они были лишены сухости и протокольности исторического материала. Каждая мелочь церковного искусства у Степана Васильевича была связана с предварительной характеристикой целой эпохи во всех ее подробностях; былая жизнь вставала пред глазами, как живая, а Степан Васильевич умел показать и доказать, как вся эта жизнь клала свой отпечаток на наше искусство, отражаясь в нем, как в зеркале. За какой-нибудь «фитой громогласной» виделась фигура певца, обстановка древнерусских храмов и прочее, – и седая старина начинала казаться близкой и ясной в своей поэтической дымке. Картины, образы, характеры отжившей поры в обрисовке Степана Васильевича приобретали свойство привлекать к себе все наше внимание и сочувствие, а вместе с тем росла и любовь к тому художественному творчеству, в котором отлилась эта пора с ее неуловимыми для слова деталями.
Вовремя вставленный исторический анекдот, образная передача какой-либо сцены, вскрытие того процесса мыслей, который сопровождал то или иное изобретение в нашей церковно-певческой мудрости, – все это сообщало лекции Степана Васильевича необыкновенную яркость, силу и увлекательность. Становилось ясно для каждого, что в нашей церковной музыке скрыта душа народа, что это – не простой набор мелодий, от которого наше время уже ушло далеко, не просто «любопытное» для историка наследство, не реликвия, утратившая значение и свою приложимость к живой потребности. Нет! Вся масса знаменных роспевов – это поэма души народной, скрижаль дум, чувств и превыспренних хотений этого народа, и притом народа своеобразного, по-своему глубокого, крайне даровитого, хотя и неразвитого.
Далее Степан Васильевич показывал, что все эти черты отнюдь не отжили, не исчезли, – наоборот, они, будучи доселе неиспользованными, сохранили всю свою живучесть и способны дать самый пышный росток, если их суметь должным образом посеять и взлелеять. Слушая эти речи, дышащие глубочайшей убежденностью и продуманностью, невольно верилось, что все это – великая правда. И зарождалась в тайне души решимость – вложить впредь и свою лепту в дело возрождения дорогого наследства русского песнотворчества. Думалось также и то, что этого песнотворчества не понять без истории; кропотливый теоретический анализ – недостаточен для того, ибо он сух и односторонен, а главное – лишен жизненного нерва, ключ к которому только в руках истории. И становилось ясно, что изучать ее надо, знать ее необходимо, если и вправду хочешь считать себя работником на поприще церковно-певческого дела.
А заключительным аккордом всех этих мыслей и переживаний явилось чувство самой теплой благодарности и признательности к тому человеку, который всколыхнул все эти мысли, дал им толчок, пищу и содержание. Это последнее чувство волной охватывало все существо, и явно больного лектора жаль было отпускать, хотелось, чтобы он продолжал говорить... Так невольно, по «вине» дивного Степана Васильевича слушатель его, сам того не сознавая, эгоистично пил его последние соки...
Комментарии
Александр Васильевич Никольский, крупный композитор Нового направления, исследователь и публицист, в прошлом – певчий Синодального хора (а в будущем – педагог Синодального училища), одним из первых откликнулся на известие о внезапной кончине Смоленского 20 июля/2 августа 1909 года. В июльско-августовском номере журнала «Хоровое и регентское дело» сразу же появилась заметка Никольского «К кончине С. В. Смоленского»; в октябрьском номере того же журнала была опубликована заметка «С. В. Смоленский и регентские курсы»; в декабрьском – воспоминания «С. В. Смоленский и его последнее учительство». В февральском номере «Хорового и регентского дела» за следующий, 1910 год напечатана рецензия Никольского на состоявшийся 24 января концерт Синодального хора памяти Смоленского. Наконец, в октябрьском номере журнала за 1913 год Никольский выступил с развернутой аналитической статьей «С. В. Смоленский и его роль в Новом направлении русской церковной музыки».
Для настоящей публикации отобраны два наиболее, на наш взгляд, содержательных материала. Автографы их не обнаружены, и публикация осуществлена по журнальным текстам.
Подробнее об А. В. Никольском см. в посвященном ему разделе сборника.
Василий Сергеевич Орлов
Василий Сергеевич Орлов вошел в историю русской культуры как крупнейший мастер хорового искусства. Судьба связала его имя с одним из старейших певческих коллективов России – Синодальным хором, и годы работы с ним Орлова (1886–1907) стали временем расцвета хора, когда он приобрел славу лучшего в России и в Европе. Личность Орлова определила новый стиль исполнительства, который отразился и в дирижерской манере, и в интерпретациях различных произведений, особенно современных авторов. В 1901–1907 годах Орлов, сохранив за собой руководство хором, принял также должность директора Синодального училища, но по ряду причин его административная деятельность оказалась гораздо менее удачной, нежели исполнительская.
Об Орлове ходило множество легенд, однако до сих пор не создано монографии о нем. Единственной книгой, посвященной этому художнику, является сборник «Памяти В. С. Орлова», выпущенный в 1907 году – в год смерти Василия Сергеевича и состоящий главным образом из «воспоминательных» очерков о нем. Поэтому нам представляется необходимым уточнить или изложить заново основные факты биографии Орлова – конечно, по необходимости кратко (дополнительную информацию читатель найдет в комментариях к публикуемым ниже воспоминаниям). Главное же, собранные в этом разделе факты творческой жизни музыканта помогают понять, почему современники считали его непревзойденным русским регентом.
Василий Сергеевич Орлов родился 25 января 1857 года в селе Ржавки Московского уезда Московской губернии – оно находилось в 32 верстах от Москвы по Петербургскому шоссе. Его отец Сергей Афиногенович, сельский дьячок, был человеком болезненным, неравнодушным к вину, и содержать большую семью ему было не под силу. Музыкально одаренные дети испытали бедность и нужду, однако отца чтили и старались помогать ему. Василия как самого способного отец определил в Московское Заиконоспасское духовное училище, однако был вынужден забрать мальчика из второго класса – нечем было платить за ученье. Одиннадцатилетний Василий попал в певчие, и годы, проведенные в частных духовно-певческих хорах Котова и Постникова, стали для мальчика тяжелым испытанием.
В дальнейшей судьбе Орлова определяющую роль сыграл его дядя – дьячок московской церкви Космы и Дамиана что в Старых Панех. Этот порядочный человек взял на себя заботу о племянниках и в июле 1870 года привел Василия и его старшего брата Александра в хор синодальных певчих и состоявшее при нем училище. Позже здесь учились также младшие братья Орловы – Платон и Иван. Прилично содержавшееся заботами инспектора И. Д. Бердникова и прокурора Синодальной конторы А. Н. Потемкина четырехклассное училище мало чем отличалось от духовных училищ епархиального ведомства. Здесь тоже преподавались Закон Божий, пространный катехизис, священная история Ветхого и Нового Заветов, объяснение богослужений с церковным уставом, русский, церковнославянский, латинский и греческий языки, география и арифметика. Поскольку училище существовало при Синодальном хоре (это положение закрепил штат 1868 года), в нем учили также церковному обиходному и нотному пению, теории музыки и скрипке (для желающих). Пение в Синодальном хоре приносило малолетним певчим, с одной стороны, пользу, обеспечивая их музыкальное развитие, но с другой, мешало учебному процессу. Помимо утренних часовых репетиций с регентом В. Зверевым или его помощником П. Михайловским, обязательных служб в Успенском соборе Кремля, хор вынужден был принимать участие в частных службах, поддерживая вырученными деньгами существование училища и певчих. Правда, из частных доходов хора ежемесячно делались отчисления на банковские счета мальчиков-певчих, так что за годы их участия в хоре скапливалась приличная сумма, которой они могли распоряжаться при контроле со стороны начальства. Например, Василий Орлов периодически брал деньги на поездки к родным, на помощь отцу, на лечение сестры, на приобретение и ремонт скрипки и т. д.
Учащимися были в основном дети неимущих родителей духовного звания из ближайших к Москве губерний, и содержались малолетние певчие в большинстве своем на казенный счет. В училище Орлов был принят во второй класс и за четыре года прошел полный курс наук. Помимо общеобразовательных дисциплин он изучал все четыре года церковное и нотное пение с помощником регента П. Михайловским и певчим П. Липеровским, два года – теорию музыки с профессором консерватории Н. Кашкиным и три года – игру на скрипке с артистом императорских театров У. Полем. Инспектор училища Бердников не раз отмечал Орлова как одного из самых талантливых, серьезных и прилежных учеников. О том же говорит и свидетельство об окончании училища, полученное Орловым в мае 1874 года.
Желание всесторонне изучить музыкальное искусство привело юношу в Московскую консерваторию. Как не имевшему средств платить за обучение ему пришлось поступить в класс фагота, поскольку обучение на духовом инструменте освобождало от платы; кроме того, предоставлялись казенный инструмент, стипендия и некоторые учебные пособия. Орлов стал стипендиатом Московского отделения ИРМО. Вынужденная специализация (он учился в классе профессора К. Эзера) стала причиной заболевания легкого. Правда, ученик-фаготист был нужен оркестровому классу, с которым интересно работал Н. Г. Рубинштейн. Орлов принимал участие в исполнении опер, симфонических сочинений, западноевропейской духовной музыки; особый след в его душе оставили репетиции и премьера «Евгения Онегина» Чайковского в марте 1879 года.
Орлов серьезно изучал музыкальную теорию, посещая как обязательные, так и специальные классы. Первый курс гармонии он проходил у Чайковского в течение двух лет (вместо положенного года), и Петр Ильич не мог не запомнить усердного студента, работы которого удостаивались его похвалы. Равным образом Орлов два года – на пятом и шестом курсах – посещал класс инструментовки С. И. Танеева вместе с теоретиками и композиторами. У Э. Л. Лангера он изучал элементарную теорию, у Н. А. Губерта проходил второй курс сольфеджио, второй курс гармонии, второй курс теории музыки и энциклопедию. Использовав дополнительный шестой год для сдачи экзамена на получение диплома, Орлов прослушал вместе с теоретиками и композиторами лекции Н. Д. Кашкина по истории музыки и Д. В. Разумовского по истории церковного пения. В течение пяти лет он занимался фортепиано с П. А. Шостаковским и П. Т. Коневым. Окончил консерваторию Орлов в 23 года, получив в мае 1880 года диплом свободного художника.
Вскоре Орлова пригласили занять место регента в одном известном церковном хоре. Этот хор, существовавший на средства Н. А. Смирнова, имел свою историю и традиции и считался одним из лучших в Москве в 1860-х —1880—х годах. В ноябре 1882 года, после смерти прежнего владельца, хор в неполном, ослабленном составе вошел в Русское хоровое общество, руководители которого преобразовали смирновский хор в духовную певческую капеллу (мужские и детские голоса). Совет старшин РХО привлекала идея пропаганды духовной музыки в хорошем исполнении. С этим коллективом Орлов работал с осени 1882 по весну 1886 года. Капелла постоянно испытывала материальные затруднения, и в конце концов, когда долг по капелле в 1885 году достиг восемнадцати тысяч рублей, ее вывели из РХО, а еще через три года от нее вовсе отказались. При этом службы и концерты капеллы собирали массу любителей церковного пения, желавших послушать в талантливом исполнении сочинения Бортнянского, Березовского, Дегтярева, Давыдова, Турчанинова, Феофана, Львова, Львовского, Танеева и др. В отчете за первое десятилетие существования РХО (1878–1888) говорится, что благодаря энергии и способностям Орлова капелла весьма усовершенствовалась, а после блестяще проведенного духовного концерта 18 марта 1884 года за ней установилась слава лучшего хора Москвы. Музыкальный критик И. В. Липаев вспоминал, что когда в зале Биржи капелла РХО выступала вместе с другими церковными хорами, ей не было равных. В 1885 году, в самый критический момент, капеллу взял под свое покровительство Чайковский. Вместе с Орловым он составил программу духовного концерта 17 февраля 1886 года и пригласил на него множество музыкантов, друзей и знакомых. В качестве новинки в программе стояли четыре произведения самого Чайковского: Херувимская (F dur), «Да исправится», «Тебе поем» (С dur) и «Блажени, яже избрал», а также хоры Азеева, Римского-Корсакова, Вейхенталя, Танеева, Рубинштейна и западноевропейская музыка – Лотти, Скарлатти, Моцарт, Сарти. Этот концерт состоялся незадолго до назначения Орлова на должность регента Синодального хора.
В связи с возникшей в царствование Александра III общей тенденцией к утверждению национальных начал Синод разработал ряд мер, направленных на упорядочение богослужебного пения в России, и одно из главных мест здесь отводилось Москве с ее старейшим хором и училищем, отделившимся от хора и в июле 1886 года преобразованном в среднее специальное музыкальное учебное заведение. Именно с этого времени оно стало называться «Синодальное училище церковного пения», и ему была поручена подготовка образованных регентов и учителей церковного пения. Преобразования коснулись и Синодального хора: Синод желал иметь в Успенском соборе – главном храме страны – образцовое пение. Состав хора был увеличен до 80 человек, и певчим повысили оклады. Орлов подал прошение на вакантное место регента Синодального хора 8 марта 1886 года; Чайковский же, хорошо понимая важность момента, направил блестящие письменные отзывы об Орлове петербургскому и московскому начальству, то есть обер-прокурору Победоносцеву и управляющему Синодальной типографией Шишкову. Авторитетное мнение композитора, по-видимому, сыграло решающую роль при назначении нового регента.
Двадцатилетний период работы Орлова в Синодальном хоре может быть поделен на несколько этапов. В 1886–1889 годах регент преодолевал отрицательные последствия старой практики хора и в то же время начинал проводить свои принципы в отношении дисциплины, отбора голосов, хорового ансамбля. Трудность заключалась в том, что Орлов не находил поддержки и понимания со стороны своего непосредственного начальства и, во всем завися от него, не имел даже свободы в выборе репертуара. Поддержку Орлов нашел в лице преподавателя училища и композитора А. Полуэктова, сделавшего специально для духовных концертов Синодального хора несколько новых гармонизаций и переложений древних роспевов, которые исполнялись, в частности, в апреле 1888 года, при сопровождении лекции протоиерея Разумовского. Тогда же в концертных программах появились сочинения Чайковского.
Следующий этап, 1889–1899, был отмечен резким скачком в исполнительском мастерстве хора и несколькими особенно яркими событиями. Во многом это обусловливалось приходом в училище и хор нового директора – Смоленского. По его инициативе появились музыкально-теоретические курсы для взрослых певчих, открытые в ноябре 1889 года и продолжавшиеся до 1899-го; при Смоленском хор перешел к пению не по партитурам, а по партиям, и в его репетиционную работу стали включаться полифонические произведения старых западноевропейских мастеров – Палестрины, Лассо, Лотти, Депре, Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена. Из хора были удалены потерявшие голос певчие, для малолетних певцов введены занятия по постановке голоса с артистом Большого театра Тютюнником. Вся практическая работа с хором сосредоточилась в руках Орлова, которому Смоленский создал прекрасные условия для творчества. Новые художественные задачи требовали значительного напряжения сил и от хора, и прежде всего от дирижера. Огромный труд, мастерство, беспримерная преданность делу создали за несколько лет новый хоровой организм. Орлов, безусловно, являл собой иной тип руководителя хора: он дирижировал по-новому, выработав свою манеру для передачи художественного содержания произведения; чутко и предельно требовательно относился к строю и ансамблю; создавал незабываемые для слушателей интерпретации сочинений старых и новых авторов. Репертуар обновлялся более всего за счет современных композиторов. Сколько за это время было разучено и исполнено сочинений, причем иногда только для единственного концерта! Сколько спето с листа! Как много дано духовных концертов! В них прозвучали сочинения Бортнянского и Дегтярева, Веделя и Есаулова, Турчанинова и Львова, Ломакина и Львовского, Архангельского и Полуэктова, Азеева и Копылова, Виноградова и Смоленского, Чайковского и Танеева, Римского-Корсакова и Балакирева, Аренского и Рахманинова; исполнялись хоры славянских композиторов – Талапковича, Музыческу, Станковича, а также светские произведения. Постепенно, начиная с 1896 года, около Синодального хора собиралась группа молодых московских авторов – будущих представителей Нового направления. Сочинения Кастальского, Чеснокова, Гречанинова хор в это время начал исполнять не только в концертах, но и в Успенском соборе. Синодальный хор был открыт для экспериментов, для общения со слушателями и композиторами, для учебы заинтересованных лиц из Москвы и провинции. На репетициях присутствовали в качестве гостей высокопоставленные лица, специалисты хорового дела, композиторы, учащаяся молодежь.
Во второй половине 1890-х годов Синодальный хор предпринял ряд ответственейших выступлений, после которых репутация коллектива достигла наивысших пределов: это Исторические концерты в 1895 году, два концерта в Петербурге в доме обер-прокурора Победоносцева в 1896 году и выезд в Вену на освящение храма и концерт в 1899 году. После венской поездки в Европе заговорили о новом русском чуде – Синодальном хоре.
Последний период деятельности Орлова, 1899–1907, отмечен дальнейшим совершенствованием искусства хора и утверждением высокохудожественного, подлинно национального репертуара. Появились сочинения Ипполитова-Иванова, Виктора Калинникова, Панченко, Никольского, Черепнина, Сахновского, Яичкова, Николая Толстякова, Константина Шведова. Службы и многочисленные концерты хора с разнообразными программами привлекали массу слушателей, обращали на себя внимание музыкантов, в том числе критиков. Одной из новых форм деятельности стали ежегодные концерты в Манеже, где под управлением Орлова певческие силы Москвы объединялись в коллектив, насчитывавший до двух тысяч исполнителей. При Орлове появились и работали с ним дирижеры нового поколения – Павел Чесноков, Николай Данилин, Петр Власов, Николай Толстяков. Орлов оказывал большое влияние на своих учеников – и на тех, кто пел в Синодальном хоре, и на тех, кто готовился стать регентом и учителем пения. Все учились на примере Орлова, а потому можно говорить о синодальной регентской школе, во главе которой Василий Сергеевич стоял до конца своих дней.
Столь же значительна была роль Орлова в деятельности Синодального училища. По существу, он преподавал самые важные для певческого и регентского воспитания дисциплины – сольфеджио и церковное пение в младшем отделении, чтение хоровой партитуры, совместную игру и контрапункт строгого стиля в старшем отделении. Смоленский недаром хвалился, что Орлова и Кастальского можно считать в числе лучших контрапунктистов России.
Назначение Орлова на пост директора училища и хора в мае 1901 года имело свою предысторию. Еще в октябре 1896 года, когда Смоленский вел тяжелую борьбу с синодальными чиновниками за будущее училища – быть ли ему высшим учебным заведением или сделаться чисто регентской школой, Орлов невольно стал оппонентом Степана Васильевича. Он высказал свою точку зрения на профессиональное обучение, которая не совпадала с концепцией Смоленского. В декабре 1900 года Орлов выступил с программной запиской на ту же тему. Эта программа импонировала Ширинскому-Шихматову, и он, добившись смещения Смоленского с поста директора, задался целью во что бы то ни стало поставить на это место Орлова. Тот долго колебался, но давление прокурора пересилило. В течение первых пяти лет новое руководство пыталось плавно ввести программу Орлова, однако первые же шаги внесли сумятицу в учебный процесс. Изменения коснулись ряда предметов: совместная игра по классам была заменена коллективной игрой шестого-девятого классов, чтение хоровой партитуры из индивидуального предмета превратилось в коллективный, индивидуальные занятия по фортепиано и скрипке в певческом отделении были тоже заменены коллективными. Вскоре выяснилось, что формальный переход на новые позиции не принесет желаемого результата. Тогда Орлов предложил новый вариант, который учитывал сильные стороны обоих направлений – Смоленского и Орлова. С осени 1906 года началась дружная работа по составлению новых программ, проекта устава и штата училища и хора: она вдохновлялась общим желанием довести статус училища до статуса высшего музыкального учебного заведения, типа консерватории или академии. Ее оборвала смерть Орлова 10 ноября 1907 года.
Н. Д. Кашкин. Воспоминания о В. С. Орлове
Когда дорогой по своим душевным качествам и деятельности человек отходит в вечность, в среде знавших его является желание закрепить в памяти его образ, собирая всякие данные, относящиеся к нему лично и к его деятельности. Мне пришлось знать В. С. Орлова более тридцати пяти лет, то есть с его детских годов, и я хочу, хотя в беглых чертах, сделать обзор своих воспоминаний, относящихся к покойному.
Приблизительно в 1870 году Иван Дмитриевич Бердников, бывший тогда инспектором малолетних певчих Синодального хора, обратился ко мне с просьбой взять на себя преподавание элементарных начал теории музыки как малолетним певчим, так и тем взрослым, какие пожелают этим заниматься. Хотя я раньше не знал И. Д. Бердникова, но он произвел на меня очень хорошее впечатление своими предложениями о том, как лучше устроить судьбу малолетних певчих и дать им по возможности хорошее развитие, как общее, так и музыкальное83. В результате я согласился взять на себя предложенные занятия и начал их вскоре после того, быть может, в 1870 или в 1871 году, но едва ли позже84. Здесь на самых первых порах мое особое внимание привлекли несколько мальчиков-певчих, и в числе их едва ли не более всех Орлов, бывший альтом-солистом хора85. Мальчик этот отличался чрезвычайной серьезностью и осмысленностью в своих занятиях и, видимо, пользовался авторитетом между своими сотоварищами-однолетками86. Хотя в то время мальчикам хора трудно было заниматься сколько-нибудь аккуратно, ибо хор, кроме обязательных для него служб в кремлевских соборах, ходил и по частным службам, а также по свадьбам, похоронам и т. д., несмотря на эти неблагоприятные условия, некоторые из мальчиков очень успешно осваивались с основными началами музыкального знания. И едва ли не самым аккуратным в исполнении всех задач был альтист Орлов. Теперь я не могу припомнить хорошенько, сколько времени занимался в классах Синодального училища и что проходил со своими учениками маленькими и взрослыми87, но кажется, что Орлов в скором времени выделился в одну группу с некоторыми из старших певчих, посещавших мои классы88. Когда я прекратил свои занятия в училище, то мы все-таки, помнится, продолжали иногда видеться с Орловым, который, между прочим, уже спал с голоса, а вместе с тем и окончил курс в тогда уже сформировавшемся четырехклассном училище для малолетних певчих.
В 1873 году В. С. Орлов решил поступить в консерваторию89, но так как он решительно не имел возможности платить за свое обучение, то ему пришлось подвергнуться конкурсному экзамену для занятия одной из бесплатных вакансий, открытых для обучавшихся игре на одном из духовых оркестровых инструментов. На этом приемном испытании я, конечно, с полной уверенностью мог рекомендовать Орлова как талантливого и прилежного ученика, известного мне по моим личным с ним занятиям. Хотя он, конечно, выказал присущие ему серьезные качества и во время самого экзамена. Для таких учащихся Н. Г. Рубинштейн, бывший директором консерватории, сам избирал тот оркестровый инструмент, который должен был составлять специальность каждого из них, и Орлову достался таким образом фагот. В настоящее время я не могу припомнить, пришлось ли ему быть учеником по какому-либо из предметов, какие я преподавал в консерватории90, но я знаю, что не терял из виду его как ученика и всегда имел хорошие отзывы о нем от всех преподавателей, с которыми ему пришлось иметь дело. Ближе всех из этих преподавателей я был с Чайковским и помню, что Орлов пользовался большим его расположением за деловитую серьезность, с какой он относился к своим занятиям. В те времена учеников консерватории было не так много, как теперь, и все они были, так сказать, на виду у наиболее интересовавшихся общим ходом консерваторского преподавания. Мы нередко беседовали между собой о том, чего можно ждать в дальнейшем от тех или других из учеников, и у нас тогда же установился взгляд, что фаготисту Орлову настоящая дорога должна быть, главным образом, в преподавании хорового пения, в особенности церковного. Впрочем, относительно последнего консерватория не давала своим ученикам никаких прав, и некоторые из учеников впоследствии держали экзамен в Придворной капелле на получение диплома регента91.
Когда В. С. Орлов был еще учеником в консерватории, мне пришлось однажды доставить ему занятия, правда, очень скудно вознаграждавшиеся, в приходском училище для мальчиков, помещавшемся, если не ошибаюсь, в одном из домов Калашного переулка92. Один раз меня позвали в это училище проверить результаты занятий рекомендованного мною еще молодого учителя, и я мог только отозваться с большими похвалами о той твердой дисциплине и разумном ходе преподавания, какие мне пришлось увидеть. Вероятно, и об этом приходилось говорить Н. Г. Рубинштейну, чрезвычайно интересовавшемуся всем что только касалось учеников консерватории. Вообще между нами, преподавателями консерватории, установилось совершенно определенное воззрение на В. С. Орлова как на дельного музыканта, которому смело можно поручить всякое занятие, в особенности по той специальности, которая была ему близко знакома от самых ранних детских лет.
Не помню, в котором году Н. Г. Рубинштейн рекомендовал ученика консерватории Орлова в типографию А. И. Мамонтова, из рабочих которой был сформирован хор для церковного пения; здесь молодой учитель достиг положительно блистательных результатов, несмотря на то, что рабочие типографии, конечно, не могли уделять много времени на занятия церковным пением. В 1879 году Чайковский написал Литургию, рассчитанную на средства исполнения первоклассного хора93. В. С. Орлов, относившийся с благоговейным уважением к своему учителю гармонии, решился выучить со своим хором это сложное и трудное произведение. Если бы он спросил в этом случае совета или мнения кого-нибудь из опытных музыкантов, то всякий, конечно, сказал бы ему, что подобное предприятие было положительно невыполнимо со средствами хора, находившегося в его распоряжении; но В. С. Орлов никого не спрашивал, а просто выучил Литургию Чайковского, и нам пришлось только слушать и удивляться результатам его занятий, ибо, действительно, все было спето вполне удовлетворительно94. В особенности был доволен этим Н. Г. Рубинштейн и, желая как-нибудь на деле выразить свое удовольствие ученику консерватории, кончавшему тогда курс, сделал ему от себя небольшой денежный подарок, кажется, в 25 рублей, ибо Н. Г. Рубинштейн хорошо знал, что помимо большого нравственного удовлетворения, такой подарок окажется совсем не лишним для ученика по тогдашним материальным условиям его существования.
Главным результатом этого подвига было, впрочем, то, что с этого времени в глазах музыкантов В. С. Орлов получил значение человека вполне способного и готового стать во главе какого угодно церковного хора.
В 1878 году было основано, по инициативе К. К. Альбрехта, Русское хоровое общество95. В самом начале восьмидесятых годов оно имело свой церковный хор, бывший раньше частным хором Смирнова. К. К. Альбрехт, бывший главным руководителем Хорового общества, повлиял на то, чтобы В. С. Орлов был приглашен регентом хора, и здесь еще лучше можно было оценить все его превосходные качества, не только в качестве хорошего музыканта, но и человека, умеющего установить правильное, нормальное отношение к подведомственным ему членам хора96. Он имел дар подчинять себе людей, решительно не прибегая ни к каким внешним приемам начальственности, и едва ли в этом случае не действовало, главным образом, то, что все певчие ценили его честное, строгое отношение к делу и невольно подчинялись его влиянию. Русское хоровое общество всегда близко стояло к консерватории, и Чайковский был, конечно, вполне хорошо осведомлен о том, как ведет там свое дело его бывший ученик97. Сам Чайковский в это время сильно интересовался церковной музыкой и сделался, между прочим, членом Наблюдательного совета при Синодальном училище98. В 1886 году освободилась вакансия регента Синодального хора, и претендентами на это место явились несколько кандидатов, в том числе и В. С. Орлов, успевший уже снискать известность отличного регента. Чайковский ближе, нежели многие другие, мог оценить художественную серьезность его отношения к делу, и поэтому он написал от себя самые горячие рекомендации, быть может, отчасти послужившие к тому, что В. С. Орлов с 25 апреля 1886 года был назначен регентом Синодального хора99.
Вернувшись таким образом к тому месту, где он получил свое первоначальное музыкальное образование и провел свои годы детства и ранней юности, В. С. Орлов почти с самого начала очень серьезно взялся за поднятие уровня исполнения в превосходном по составу хоре, какой вверен был его руководству. Всегда скромный и недоверчивый к себе, он в это время часто обращался за советами и мнениями музыкантов, которым доверял, и в скором времени Синодальный хор быстро пошел вперед по пути художественного совершенствования. Между прочим, хор достиг удивительной дисциплинированности в исполнении, и здесь, по-видимому, главное значение имело строгое отношение В. С. Орлова к своим обязанностям, позволявшее требовать того же и от других, но не столько в виде подчинения начальству, сколько из уважения к тому высокому художественному делу, которому призван служить весь хор, начиная от регента и до последнего мальчика. В. С. Орлов, таким образом, воспитывал хор и достиг того, что он занял решительно первое место между всеми церковными хорами в России, не исключая и хора Придворной певческой капеллы100. Весь этот блестящий результат нужно приписать, главным образом, тому духовному подъему уровня исполнителей, какой вызван был его личным влиянием как религиозного человека и художника.
Доведя хор до высокой степени совершенства в исполнении, В. С. Орлов оказал этим большое влияние на новейшее развитие церковной музыки, ибо раньше никто бы, пожалуй, не взялся исполнять тех произведений, какие появились в последнее время благодаря главным образом Синодальному хору101.
В 1901 году В. С. Орлов назначен был директором Синодального училища. Нужно сказать, что он принял это место с большими колебаниями, ибо его влекло к себе главным образом близко знакомое и любимое дело регента. Покойного пришлось уговаривать не отказываться от этого места во имя дальнейших успехов дела и того влияния, какое он мог иметь на музыкальное преподавание в Синодальном училище. Однако, и принявши место директора, В. С. Орлов сохранил за собой главное руководительство хором и являлся во главе его во всех духовных концертах хора, упрочивших авторитет и известность последнего102. Что касается до директорской должности, то он не переставал тяготиться ею до самого последнего времени, хотя выполнял свое дело со всей присущей ему серьезностью и добросовестностью103. Много раз он разговаривал, между прочим, и со мною о необходимости поставить выше уровень музыкального преподавания в училище и сделать его высшим по своей специальности. Год назад эта мысль начала близиться к осуществлению, и реформа учебного плана училища, одобренная в принципе, получила свое начало в подготовительных работах по пересмотру учебного плана и составлению новых программ преподавания. Этому делу В. С. Орлов отдавал всего себя и с неуклонной настойчивостью заботился о том, чтобы эти работы шли по возможности быстро. Помимо общих совещаний, он неоднократно советовался то о том, то о другом из своих предположений с различными лицами и еще в конце прошлого июля написал ко мне в Кисловодск, где я тогда был, длинное письмо об этом предмете. Он в то время находился уже совсем во власти той смертельной болезни, которая свела его в могилу104, но ни одним словом не упомянул о своем нездоровье, а говорил только о будущем училища и своем живейшем желании скорей довести до конца это дело. Приехавши в конце августа в Москву, я в один из первых дней отправился в Синодальное училище и тут только услышал жестокую весть о том, что его директор находится в безнадежном состоянии105.
Бог не судил покойному дожить до полного осуществления своих надежд и стремлений по отношению к учреждению, которому он был предан всей душой, но он успел сделать так много, что далее остается только окончательное приложение к делу всего им намеченного и подготовленного, ибо едва ли что-нибудь ускользнуло от его внимательного любящего взора при всех подготовительных работах прошлого года106.
Все последнее двадцатилетие, в продолжение которого В. С. Орлов стоял во главе Синодального хора, а потом и училища, должно быть отмечено как самая крупная эпоха существования этих учреждений, достигших, благодаря главным образом ему, высокой степени процветания. Теперь остается только продолжать начатое им дело и благодарно чтить память честного, высоко даровитого деятеля, крупными чертами записавшего свое имя не только в историю Синодального училища и хора, но и в историю русской церковной музыки, где он явился одним из самых крупных двигателей на новом национальном пути ее развития.
Комментарии
Николай Дмитриевич Кашкин был колоритной фигурой музыкальной Москвы второй половины XIX– начала XX века, очевидцем и участником многих и многих событий, которые наши отражение в его статьях, воспоминаниях, очерках, рецензиях и заметках. Его по праву называют летописцем музыкальной жизни Москвы. Стоявший у истоков Русского музыкального общества и Московской консерватории, бывший другом и соратником многих выдающихся музыкантов, Кашкин в течение полувека (с 1861 года) писал эту летопись на страницах московских газет и журналов – «Московских ведомостей», «Русских ведомостей», «Артиста», «Русского обозрения», «Московского листка», «Русского слова». Авторитетнейший критик, он откликался на разные темы, особенно активно – на появление и исполнение новых сочинений русских композиторов, на оперные постановки, на новые имена в исполнительском искусстве. Кумирами его были Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов. Обстоятельные и живые статьи Кашкина имели просветительскую направленность, привлекали читателей и приносили пользу и любителям, и профессионалам. Высоко ценятся его воспоминания о Чайковском, Н. Г. Рубинштейне, Балакиреве, Бородине, Танееве, Вас. С. Калинникове, Г. А. Лароше. Уделял внимание Кашкин и исполнению духовной музыки, ее истории и современным проблемам – больше, пожалуй, в первой половине 1900-х годов, в журнале «Душеполезное чтение» и в газете «Московские ведомости». Заметна его роль в Наблюдательном совете при Синодальном училище в 1902–1914 годах. Следует отметить, что Кашкин поддержал молодых авторов духовной музыки – А. В. Никольского и К. Н. Шведова. Наконец, нельзя не упомянуть о разносторонней деятельности Кашкина в Московской консерватории, с первых дней ее существования и до середины 1890-х годов: он был профессором фортепиано, истории музыки, теории музыки и гармонии, секретарем Художественного совета, инспектором и первым историографом консерватории. Кашкину принадлежит популярнейший учебник элементарной теории музыки (впервые издан в 1875 году). В 1900-х– 1910-х годах Кашкин неоднократно высказывался в прессе по вопросам реформы музыкального профессионального (в том числе и певческого) образования.
Публикуемые воспоминания написаны непосредственно после кончины В. С. Орлова и датированы 25 ноября 1907 года. По рассказам дочери Орлова, Кашкин пришел сразу после похорон к ним домой и получил от вдовы кое- какие материалы, которые увез с собой и более не возвращал.
Воспоминания публикуются по тексту из сборника «Памяти В. С. Орлова», напечатанного в Москве в типографии Ждановича в 1907 году. В сборник вошли: некролог и отчет о дне похорон; воспоминания Н. Д. Кашкина, В. М. Металлова, Н. Р. Кочетова, С. Н. Кругликова; речи С. Левитского, о. В. Металлова, о. П. Богословского, И. Строганова, о. И. Строганова, В. Орлова (племянника), о. И. Орлова, А. Гребнева, Т. Парфенова, А. Дубинина, о. К. Воскресенского; стихотворение М. Нагаева; телеграммы и письма с выражениями соболезнования.
В. М. Металлов. Воспоминания о В. С. Орлове
Василия Сергеевича Орлова я знаю с 1895 года, когда мне пришлось служить с ним в Синодальном училище, до последнего времени. Впервые я познакомился с ним во время исполнения последней серии духовных Исторических концертов107. Меня особенно поразило необыкновенно тонкое, художественное, выразительное исполнение им произведений Чайковского, особенно Херувимской. Василий Сергеевич вкладывал всю душу в это исполнение, и мне кажется, что я лучшего исполнения не слышал от него и впоследствии108. Когда в разговоре однажды я спросил его, почему он, пройдя основательно теорию композиции у таких специалистов, как Чайковский и Танеев109, не напишет что-нибудь для хора, то Василий Сергеевич, шутя и с улыбкой, отвечал: «Думаю, что я еще молод для этого»110. У Василия Сергеевича, по-видимому, осталось довольно неприятное воспоминание о своей специальности в консерватории – фаготе, и он иронически говорил, что единственной наградой его занятий на этом инструменте у него осталось расширение легкого, которое нередко беспокоило его. Слава выдающегося регента-художника достигалась им тяжелым, тернистым путем, стоившим ему громадной внутренней борьбы, сомнений, колебаний, в особенности при его строгости к себе и прирожденной скромности. Когда после Исторических концертов слава его стала быстро расти и в 1896 году решена была поездка для концертов в Петербург, то он посмотрел на это как на критический поворотный момент в жизни: или еще больший успех, или отставка – вот какова была его мысль, преследовавшая его до самого концерта, прошедшего, однако же, блестяще и успокоившего его душевные волнения и опасения. Все блестящие концерты Синодального хора стоили обыкновенно ему страшного нервного напряжения111, и в минуты откровенности он высказался, что охотно забылся бы на некоторое время, удалился бы в уединение и даже в монастырь – только бы не волноваться, отдохнуть112. И когда мной ему шутливо было замечено, что и в монастыре он не расстался бы с хоровым делом, не утерпел бы и снова втянулся бы в него, то он с усмешкой вполне согласился со мной113.
Василий Сергеевич любил древние напевы, интересовался крюками и уже директором ходил совершенствоваться в крюках на уроки IX класса. В последнее время он очень интересовался литературой и историей церковного пения и историей русской церковной древности, желая знать все выдающееся в этих областях114.
Комментарии
Василий Михайлович Металлов пришел в музыкальную науку как исследователь древнерусского певческого искусства и в духовную музыку как автор большого числа переложений исключительно благодаря самостоятельному изучению музыкальной теории, композиции, церковного пения, игры на скрипке и фортепиано. Увлечение музыкой началось еще в младших классах Саратовской духовной семинарии, которую Металлов окончил в 1882 году. Проучившись затем два года в Московской духовной академии, он вышел из нее и в 1884 году был рукоположен во священники. До переезда в Москву о. Василий служил в одном из сельских приходов Саратовской епархии и в 1891–1895 годах преподавал церковное пение в родной семинарии. Одновременно он продолжал свое главное дело – изучение истории и теории знаменного пения, крюковой нотации и древних роспевов. В 1888 году появилась первая статья молодого священника в «Саратовских епархиальных ведомостях» и вслед за ней первые опыты в гармонизации древних напевов (1890–1891), напечатанные тогда же Юргенсоном. Первая значительная работа «Очерк истории православного церковного пения в России», опубликованная в 1893 году, затем переиздавалась трижды на протяжении двадцати лет. Научные интересы привели Металлова к знакомству с Д. В. Разумовским и С. В. Смоленским. Последний в 1895 году пригласил Металлова в Синодальное училище, где тот до 1910 года преподавал историю церковного пения и дидактику в регентском отделении. За научные успехи молодого ученого в феврале 1899 года избрали в члены Наблюдательного совета, где он работал до закрытия училища (последние семь лет в качестве непременного члена). Вполне естественно, что после отъезда Смоленского Металлов наследовал его кафедру в Московской консерватории, а с открытием в 1907 году Археологического института вошел в состав профессоров по курсу русской семиографии. В 1914 году ему была присвоена ученая степень магистра богословия за труд «Богослужебное пение русской церкви в период домонгольский» (1908), его работы четыре раза удостаивались премии митрополита Макария. Металлов – автор работ по истории Синодального училища и хора: «Синодальные, бывшие патриаршие певчие» (1898–1901) и «Синодальное училище церковного пения в его прошлом и настоящем» (1911). Священническая деятельность о. Василия была связана с церковью Василия Кесарийского на Тверской, в которой он прослужил около десяти лет – со дня приезда в Москву, – и Казанским собором, куда он был переведен настоятелем-протоиереем во второй половине 1900-х годов. После революции ученый до последних дней продолжал свою деятельность в консерватории и в качестве действительного члена Государственной академии художественных наук.
В. М. Металлов имел большую семью, причем из пятерых его детей двое получили профессиональное музыкальное образование. По рассказам «синодалов», он, казалось, никогда не снимал своего священнического одеяния; запомнились его очки, красивая пышная шевелюра и измученный, нездоровый вид – словно какая-то болезнь подтачивала его силы.
Воспоминания об Орлове публикуются по тексту сборника «Памяти В. С. Орлова».
С. Н. Кругликов. Регент-мастер
Не хочу громких слов, не хочу элоквенции и хвалебной риторики. Художественный облик Василия Сергеевича Орлова так прост и ясен; так скромна, не велеречива, в себе самой заключена и замкнута вся природа этого прекрасного человека. Об Орлове надо говорить просто, без преувеличений. Не требует украшений то, что и без них хорошо.
Лучше будет, искреннее и ценнее, если, откинувши всякую осторожность, сказать о покинувшем нас все, как есть, как было.
Никакой упрек не сможет умалить значение Орлова. Пусть же, во имя правды, будет порою произнесен он без боязни: упреку суждено погибнуть; его насмерть затрет многое другое, от чего он отскочит, как пуля от несокрушимой брони.
Знал я В. С. Орлова много лет. Впервые столкнулись мы с ним гораздо раньше, чем образовалась связь моя с Синодальным училищем. Давно, значит, встречались мы как добрые знакомые. И впечатления всегда одни и те же. Неизменно – улыбка радушного привета; мягкая, чуждая болтливости речь; искренняя готовность откликнуться на чужое горе, так или иначе прийти на помощь тому, кто в этой помощи нуждался115.
Но, при всем том, так и не закрепилась между нами духовная близость. Что тому причиной, судить трудно. Во всяком случае, не виноваты здесь ни он, ни я. В ответе только характерный склад натуры Орлова, вообще не давший ему много истинно близких116.
Орлов мыслил здраво и глубоко. О том, что его занимало, у него сложились твердые, определенные, подчас оригинальные суждения. Но делиться ими он не любил, во всеуслышание тем более. Даже на заседаниях, имевших целью серьезные решения художественных и педагогических вопросов, Орлов отличался крайним лаконизмом, а иногда и к нему не прибегал, предпочитая разговору молчание и всякой речи письменно изложенный, обстоятельный доклад.
Орлов во всем, всегда являлся человеком дела в гораздо большей степени, чем человеком слова. Так в жизни, так и в сфере искусства.
Об Орлове не могу точнее выразиться: прекраснейшей души человек, редкий мастер своего дела.
И если душевные качества Орлова не сразу всем становились очевидны, потому что всегда почти оказывалась на затворе скорлупа, за которую его упрямо загоняли скромность и малая вера в себя, а может быть, и в других, то ослепительный эффект его дирижерской техники сразу и со всех сторон освещал Орлова как исключительно даровитого и мастерского главу церковного хора.
Сама скромность, мягкость и доброта в жизни, Орлов – властелин толпы, ее владыка, когда перед ним души в нем не чаявшая, подчинившаяся его авторитету, его магнетическому внушению, воспитанная им же, вышколенная группа отличных голосов, а сзади во множестве собравшиеся слушать, как хор Орлова – лучший в Москве, в России, где бы то ни было, хор – поет, поражая своею сплоченной звучностью, музыкальной точностью ритма, безупречной стройностью, чистотою аккорда, тонкостью отделки...117
Те, кто в стремлении заменить Орлова ограничатся подражанием внешним приемам его дирижерской манеры, не будут правы. Внешность церковного регентования – не то, чему надо подражать у Орлова. Его дирижерские жесты слишком широки и размашисты. В храме желательны движения регента более скромные и сдержанные, почти незаметные. При таланте и с такими добиться можно многого118.
Кроме того, сознаюсь: мне, скажем, не каждый оттенок исполнения нравился у Орлова вполне; с иным не хотелось соглашаться; понималось исполняемое сочинение иначе, не так, как понимал его Орлов. Но это уже – нашептывания вкуса. А он у каждого свой; всем нельзя угодить в одинаковой мере. Да и не так это важно.
Важнее другое. Орлов таинственно познал верный способ, как все им задуманное брать от хора полностью, как заставлять хор делать именно то, чего хотел от него дирижер. А в этом-то и подтверждение моих слов: Орлов – редкий мастер своего дела.
Слить хор в одно компактное целое, выровненное, выверенное, надежное, уверенное, может регент и средних достоинств, раз он не обделен талантом, слухом, уменьем. Но довести хор до такого совершенства, чтобы он безошибочно отзывался на всякое капризное желание дирижера, как бы оно ни было утонченно трудно, – в силах только регент-мастер, каким и был, по всей справедливости, оплакиваемый нами незаменимый Орлов – наша слава, наша гордость.
Комментарии
О Семене Николаевиче Кругликове см. далее, в посвященном ему разделе сборника. В течение шестнадцати лет он был связан с Синодальным училищем и хором: в 1894–1898 как преподаватель гармонии в училище и на курсах взрослых певчих, в 1898–1907 как непременный член Наблюдательного совета и, наконец, следующие три года как директор. В 1890-х– 1900-х годах Кругликов опубликовал в разных периодических изданиях ряд интереснейших рецензий на духовные концерты Синодального хора.
Воспоминания печатаются по тексту сборника «Памяти В. С. Орлова».
А. В. Никольский. Василий Сергеевич Орлов (регент и директор Синодального хора)
Известность, какою пользуется в настоящее время Московский Синодальный хор и у нас, в России, и за границей – несмотря на двухсотлетнее существование его119, – приобретена этим хором лишь в самое недавнее время. Ею хор обязан главным образом бывшему регенту и директору своему В. С. Орлову, который управлял им с 1886 года до дня смерти, последовавшей 10 ноября 1907 года. Эти 18–20 лет были для хора самыми лучшими годами, когда он рос и совершенствовался, завоевывая себе всеобщее признание и славу первоклассного, лучшего из духовных хоров России.
Личность, а также и чисто дирижерские способности Василия Сергеевича были настолько примечательны и интересны, что приходится удивляться, почему до сих пор специально хоровая печать лишена статей с характеристикой покойного, такого недюжинного артиста-человека, каким был Василий Сергеевич. Восполнить этот пробел, по мере сил и уменья, мы и решились в предлагаемой вниманию читателей «Хорового и регентского дела» статье.
В момент принятия на себя Василием Сергеевичем должности регента Синодального хора последний был среди прочих московских хоров отнюдь не выдающимся. Внимание любителей и знатоков церковного пения было всецело на стороне знаменитого со времен Багрецова Чудовского хора и еще двух-трех частных. Службы с их участием усердно посещались; концерты шли в переполненных публикой залах; разговоры и восторженные отзывы касались только этих хоров. Синодальные же певчие были в то время на втором плане; о них редко говорили, еще реже хвалили их120. Приглашение Василия Сергеевича в регенты Синодального хора и было вызвано желанием со стороны администрации поднять репутацию хора и усилить его исполнительскую правоспособность. Выбор был сделан по указанию П. И. Чайковского, давшего о Василии Сергеевиче блестящий отзыв в письме к прокурору Московской Синодальной конторы господину Шишкову. Года два спустя прежний директор училища и хора был заменен С. В. Смоленским, а само училище преобразовано из духовного при хоре в специальное регентско-певческое. За смертию, а отчасти выходом со службы прежних деятелей хора и училища появились новые лица, в числе коих и А. Д. Кастальский (преподаватель фортепиано, теории и помощник регента). Старый, достаточно затхлый дух вымирал, уступая место новым людям и новым веяниям. Училище и хор вступают на путь усиленной работы не только над собственным усовершенствованием, но и над освежением и пересмотром всего церковно-певческого вопроса. Задача предстояла чрезвычайно большая и трудная. Требовалось, во-первых, поднять самое исполнительское искусство хора, повысить музыкальную грамотность певцов, облагородить их вкусы и нравы, восстановить расшатавшуюся внутреннюю и внешнюю дисциплину и изгнать разрушительно на все и вся влиявший специфический «певческий дух», царивший в хоре. Кроме того, предстояла нелегкая борьба с публикой и ее привычками, взглядами и вкусами в области церковного пения, а также с явно отрицательным отношением ее к самому хору. Надо было рядом с перевоспитанием хора вести такое перевоспитание и самой публики. Сломить господствующие вкусы, приучить к иному направлению церковного пения, заставить признать правду этого направления и его преимущества перед отжившим – это было увлекательной, но и чудовищно тяжелой работой. Если идейная сторона новых веяний и находилась в таких надежных руках, как С. В. Смоленский и его ближайшие сотрудники, то осуществление их, проведение в жизнь хора, а при посредстве его и в сознание русского общества целиком выпало на долю В. С. Орлова как регента, от такта, умения и таланта которого зависел успех или неуспех всей предпринятой работы и борьбы.
В первые же 10–12 лет новой жизни хора и училища Василий Сергеевич показал, что задача, ему поставленная, им блестяще выполнена. Все, что зависело от него как регента, было им сделано безупречно: хор оказался на высоте, доселе небывалой, а как проводник новых веяний в церковном пении – вне конкуренции. В последовавшие затем годы, когда Василий Сергеевич работал не только в качестве регента, но и директора Синодального училища и хора, эти последние неизменно удерживались на занятой позиции, закрепляя свою славу и достигнутые результаты.
Переходя к описанию отдельных дирижерских черт Василия Сергеевича, начнем с характеристики его как человека. Среднего роста, довольно плотный по сложению, стремительный в походке и жестах Василий Сергеевич в обращении с людьми поражал своею любезностью, предупредительностью тона и манер, а еще более скромностью, граничившей порою с застенчивостью и конфузливостью. С кем бы и о чем бы ни беседовал Василий Сергеевич, во всей фигуре и выражении лица было столько обходительности, ласковости и внимания к собеседнику, а вместе с тем сам он держался так робко и растерянно, что приходилось лишь удивляться, потому что перед хором как регент этот человек был совершенно иным: его взгляд становился стальным, повелительным; лицо принимало выражение силы и власти; напряженная выпрямившаяся фигура, взмах руки – призывали к порядку, подчинению, взвинчивая внимание поющих до самой высшей меры напряжения и готовности выполнить все, что нужно ему, Орлову. Эта полная смена мягкости – требовательностью, ласковости взгляда – холодом и сталью глаз, приветливости – суровостью лица резко бросались на вид всем, близко знавшим Василия Сергеевича. Мягкий в жизни, он делался стальным на эстраде. Как боевой конь при сигнале к сражению, он положительно преображался и стоял перед хором весь – власть, сила, огонь. И еще одна подробность. Начиная первый номер концерта или ответственной церковной службы, Василий Сергеевич становился бледен, рука его дрожала, он нервно и глубоко дышал, обнаруживая величайшее волнение; но вместе с тем это не передавалось хору, не возбуждало в нем робости или страха, наоборот: взгляд Василия Сергеевича и вся фигура покоряли певцов каким-то необъяснимым путем, вызывая полное подчинение ему и великую боязнь лишним движением нарушить обостренное всеобщее внимание и тишину. Дисциплина и порядок в хоре были у Василия Сергеевича поразительны. Хор в целом казался каким-то монолитом, спаянность всех была гранитная; в момент исполнения ни один певец не смел перевести взгляда с лица регента, переминаться с одной ноги на другую; все стояли как вкопанные, затаив дыхание, как бы зачарованные своим вождем121. Достигал такой дисциплины Василий Сергеевич не окриками и замечаниями, а главным образом силою взгляда своих серых глаз, выражением лица и всей фигуры. Он был способен создавать вокруг себя атмосферу абсолютного порядка и совершенного подчинения той внутренней, как бы истекавшей из него силе, какая была ему прирождена. Он был двойствен искренно и непосредственно, и всякий певец знал его простым в жизни и полным власти – на клиросе и эстраде. Василий Сергеевич был дирижер-вождь Божиею милостию, родился им122.
Всякий дирижирующий знает по опыту, что в дисциплине кроется один из главных секретов хорошего исполнения. А Василий Сергеевич владел этим секретом в высшей мере. Вполне понятно, что изумительный порядок незаметно, но самым действенным образом воспитывал певцов Синодального хора, поселяя в нем дух благопристойности как во взаимных отношениях, так и в общем поведении. Среда певцов видимо очищалась и, так сказать, опорядочивалась: презрительная кличка «певчий» год от году все менее и менее могла относиться к членам Синодального хора. В этом сказалось влияние мягкой и деликатной натуры «простого» Василия Сергеевича123.
Спевки велись Василием Сергеевичем следующим образом. Обычно разучивались не отдельные номера к текущим службам, а или целые большие сочинения вроде литургий Чайковского, Гречанинова, Ипполитова-Иванова и других, а также пьес Палестрины, Бетховена, Баха, Моцарта ит. п., или же программы концертных исполнений (10–12 номеров). Разучивание длилось чаще всего около месяца при ежедневных двухчасовых репетициях. В методе Василия Сергеевича можно было видеть несколько фаз. Первая фаза в разучивании репертуара – это пропевание его ежедневно с начала до конца под рояль. Василий Сергеевич, подыгрывая хору, зорко следил не только за ошибками в чтении нот, но и за малейшим дефектом в интонации124. Таким образом, пение начерно шло рука об руку с тщательной настройкой хора. (Василий Сергеевич часто в шутку или с оттенком душевной горечи говорил о себе: «Я – просто настройщик хоровой»125.) Попутно хору делались указания и на оттенки исполнения, хотя эти последние ежедневно менялись. Чувствовалось, что Василий Сергеевич как бы нащупывает их, еще не устанавливая окончательно, и вместе с тем тренирует хор в самой технике их исполнения. Словом, в этой стадии разучивания достигались такие цели: 1) овладение нотами (до степени полной твердости и безошибочности), 2) стройность, 3) техническая ловкость в исполнении оттенков и различных градаций тона.
Во второй стадии разучивания Василий Сергеевич (все еще не оставляя игры на инструменте) начинал уже определенно устанавливать характер интерпретации каждого номера, в целом и в частностях. Здесь его придирчивость к чистоте интонации не знала пределов; малейшее уклонение от указанных оттенков исполнения вызывало бурю негодования (выражаемого, правда, лишь подергиваниями лица и нервным стуком руки по крышке рояля, но редко – криком); произнесение слов текста и самый характер выражения последнего были предметом усиленной выработки. В этой части занятий Василий Сергеевич был особенно интересен своим пониманием церковной музыки. Любопытно и крайне поучительно было следить, как он шаг за шагом – точно скульптор резцом по мрамору – выковывал пьесу и создавал ее характер. Из-за нот, оттенков и тонов вырисовывался яркий образ того, чем пьеса должна быть в хорошем исполнении. Эти образы подчас были такой силы, яркости, захватывающей красоты и выражения, какие выдавали в Василии Сергеевиче глубокого, чуткого и большого художника-музыканта. Это одинаково резко выявлялось как при передаче ходовых пьес, давно на разные лады толкованных другими регентами, так и при постановке совершенно новых вещей какого-либо нового автора. Василий Сергеевич создавал тип исполнения для огромного количества пьес – старых и новых, тип, подкупающий правдой выражения и вызывающий на подражание невольно, но властно.
Третий момент разучивания – пение а cappella (три-четыре спевки подряд). Это – пение уже набело. Обстановка, в какой происходила репетиция в это время, была такой, что посторонний выносил впечатление публичного исполнения: и хор и регент как бы забывали, что они еще не на глазах у публики, и все делали именно так, как на концерте, все – до малейшей черты. Напряжение хора бывало таким, что самый концерт казался уже делом сравнительно легким: работа – вся позади, и в концерте хор уже только наслаждается своим искусством, овладевши им на репетициях вполне.
Интересно отметить, как понимал Василий Сергеевич самую звучность хора. В этом отношении следует указать, во-первых, на его явную нелюбовь к «грустным» басам и «залетным» тенорам. От басов Василий Сергеевич требовал баритонального тембра и совершенной подвижности звука; всякая попытка басов сгущать тон вызывала с его стороны резкую отповедь. Басы Синодального хора напоминали своим звуком отчасти виолончель – по легкости и простоте тона. От теноров Василий Сергеевич требовал мягкости, а не силы; тембр теноровой партии приближался к фальцету, хотя далеко не был подлинным фальцетом. В общем, басы и тенора Синодального хора были довольно однородной партией, свободно и легко переходя от низкого регистра к высокому, наподобие той же виолончели. В свою очередь и альты были лишены метал личности и силы тона, а были довольно мягки и слабы, служа хорошим дополнением к тембру первых дискантов чрез вторых. Партия детских голосов Синодального хора может быть сравнена со скрипкой в смысле однородности их тембра126.
Таким образом, Синодальный хор своим общим звуком приближался к струнному квартету, где басы – виолончель, тенора тоже виолончель в ее среднем регистре, а дисканты и альты первая и вторая скрипки. Отсюда особливая прозрачность хорового ансамбля и легкость тона, которые были присущи Синодальному хору. Что касается вторых басов, а особенно октавистое, Василий Сергеевич добивался от них бархатистого звука, полного и сочного, но отнюдь не резкого; октависты, удваивая верхний бас, проводили как бы легкую тень к линии главного баса, вовсе не выделяясь из хора, на удивление миру. Петь октависты могли не сплошь всю партию баса, а только в местах, указанных автором или допущенных Василием Сергеевичем. Насколько Василий Сергеевич был строг и щепетилен в этом отношении, доказывает следующий случай. На одной из последних репетиций пред концертом хор, пропевая программу набело, исполнял едва ли не заключительный номер. И вдруг октависту зачем-то вздумалось «украсить» пение в одном из неуказанных мест, и он спел какой-то один слог в октаву. Тогда произошла незабываемая сцена. Василий Сергеевич, как ужаленный, резко ударил камертоном о край железного пульта, хор моментально остановился и.… замер: Василий Сергеевич, с искаженным от негодования лицом, уставился в глаза виновника и с минуту молча, при гробовой тишине всего хора, мерил его с головы до ног; потом, переведя глаза на партитуру, дрожащими руками открыл первую страницу первого номера и сдержанно скомандовал: «С начала!» Хор по-прежнему молча повиновался и, платясь за неисправность октависта, спел всю программу с первого номера до конца.
В отношении нюансов бросалось на вид пристрастие Василия Сергеевича к pianissimo. Звучало оно в Синодальном хоре обворожительно и порою доходило до nec plus ultra технического мастерства. Но сказать, что добивался этого оттенка Василий Сергеевич из-за страсти к эффекту – совершенно невозможно. Василий Сергеевич был вообще чужд стремлению к эффектам ради них самих. Он все умел обращать на пользу вящей выразительности, и его pianissimo не раз производило потрясающее впечатление именно благодаря уместности его, то есть полному соответствию данного средства с серьезностью цели127. Crescendo Синодального хора редко было ровным, не давая тона постепенно растущего и усиливающегося; чаще всего нарастание шло порывами, быстро переходя от piano к мощному forte. Точно так же и diminuendo отличалось в большинстве случаев не постепенностью затихания, а опять-таки довольно быстрой сменой forte на piano128. Делалось это, конечно, не потому, что Василий Сергеевич не мог приучить свой хор к постепенной градации в силе тона, а по более глубокой причине. Crescendo как выразитель подъема молитвенного настроения не должно и быть строго постепенным, ибо чувству чужда такая планомерность, оно стихийно. Поэтому строгое, выдержанное crescendo или diminuendo, будучи красивым по звуку, фальшиво и деланно в смысле передачи живого чувства. Это, видимо, отлично сознавал Василий Сергеевич и потому придавал указанным оттенкам описанный выше способ исполнения. Здесь можно видеть, насколько у Василия Сергеевича сильно было чувство меры и художественной правды, а также и его нелюбовь к эффекту ради самого эффекта. А что Синодальный хор, когда это требовалось, мог давать крайне выдержанный звук, без малейшего «узелка», тонкий и абсолютно ровный, как шелковинка, достаточно вспомнить хотя бы начальные такты Херувимских песней Глинки и Чайковского.
Василий Сергеевич требовал и добивался «чеканки» слов.
Окрик «короче!» постоянно сопровождал разучивание пьесы и относился к способу произнесения хором текста. Но не одна «холодная чеканка» слов ради их внятности была при этом целью. Неподдающимися описанию способами Василий Сергеевич умел достигать такого характера в чтении слов, какой надо было признать наилучшим в смысле его выразительности. Хор не безучастно скандировал слоги, а давал «живые» слова, полные мысли и чувства. Поэтому, между прочим, у Василия Сергеевича исполнение было не только технически совершенным или художественно правдивым, но и величавым, истинно религиозным и церковным. Тайна сего умерла вместе с ним...
В огромный плюс Василию Сергеевичу надо поставить его роль истолкователя произведений новейшей школы. В этих произведениях столько нового в смысле приемов письма и характера самой музыки, что требовался положительно особый исполнительский дар, чтобы явиться их истолкователем и дать им тот успех, какой выпал на их долю в русском обществе. Особенно это относится к сочинениям Кастальского, самого оригинального композитора по письму и содержанию музыки129. Василий Сергеевич первый из исполнителей сумел уловить характерные черты в творчестве смелых новаторов, своеобразно оценить их и показать в подкупающем виде. Исполнение каждой новинки было в сущности новым и новым успехом Василия Сергеевича как музыканта-регента и лишним доказательством его недюжинной даровитости. Со своей способностью давать яркие образы каждой пьесе Василий Сергеевич воплотил в звуках Синодального хора длинный ряд новейших произведений, создав им имя и открыв путь к дальнейшему их распространению. Популярность нового направления в сильнейшей мере обязана никому другому, как именно В. С. Орлову. В этом его огромная заслуга перед историей русского церковного пения.
Синодальный хор при Василии Сергеевиче сумел приобрести к себе симпатии не только так называемой большой публики, но и музыкального мира. Его концерты охотно посещались нашими известными музыкантами. А заезжим гостям и высокопоставленным лицам Синодальный хор давал экспромтом целые концерты, вызывая справедливое удивление искусством своего исполнения. Былая слава Чудовского хора и некоторых частных хоров померкла: Синодальный хор далеко опередил их. Вместе с тем Синодальный хор дал могучий толчок к развитию церковного хорового дела в Москве, повысив требования и вообще задачи исполнения130. В последние пятнадцать лет Москва обогатилась не одним частным хором, искусство которого нельзя не признать высоким. Москва времен Багрецова не могла похвалиться этим настолько, как сейчас. В этом косвенно сказалось влияние Синодального хора и училища, а, следовательно, и покойного В. С. Орлова. Работая вначале рядом с С. В. Смоленским – главным идейным виновником возрождения русского церковно-певческого дела в духе «новой школы», Василий Сергеевич невольно делил успех со своим директором и теми лицами, кто своими сочинениями двигал дело возрождения. Но личной, неотъемлемой заслугой Василия Сергеевича является, во-первых, самый Синодальный хор, поднятый искусством своего регента на высоту первоклассного исполнения, а во-вторых – нескончаемая цепь сочинений, исполнение которых в передаче Василия Сергеевича останется в памяти слышавших это исполнение навсегда, как ряд высокохудожественных образцов поразительной силы, красоты и яркости.
Нельзя скрыть и того обстоятельства, что у Василия Сергеевича, наряду с горячими поклонниками, было немало и принципиальных противников. Многое из регентских свойств Василия Сергеевича встречало резкое осуждение себе, даже больше: его положительно не находили «хорошим» дирижером, а тем более «выдающимся».
Мы коснемся некоторых суждений из числа неблагоприятных покойному Василию Сергеевичу. Указывалось, например, на его свойство требовательностью по части дисциплины парализовать исполнительские данные певцов (голос, настроение, инициативу и т. п.). Говорилось, что синодальные певчие все поголовно – и взрослые и мальчики – поют какими-то задушенными голосами, лишенными естественного блеска и силы; их трепетность перед грозным регентом переходит-де порою в явную боязнь дать звук, сказать слово, выразить настроение; Синодальный хор – машина, и пение его такое же «машинное», безжизненное, сухо-академическое. Голоса – искажены: басовая партия – слаба и вяла по тону, тенора поют фальцетом, альты – бессильны, дисканты – чрезмерно тоскливы. В нюансировке замечается крайнее однообразие и злоупотребление излюбленными оттенками. Словом, целый синодик преступлений и недочетов разного рода131.
Действительно, существует целый ряд хороших хоров, где к голосам певцов относятся совершенно иначе, чем Василий Сергеевич, и добиваются от каждой партии возможно большего тона и яркого тембра. Там басы мощны, особенно будучи поддержаны основательными окта- вистами; тенора поют широким и свободным звуком; альты – звонки и прочны, как медь в оркестре, а дисканты – светлы и густы. Такой хор есть конгломерат четырех различных тембров; звучит он красочно и полно, а порою – увлекательно сильно. Piano такого хора есть не больше, как пение просто «тихое» по сравнению с могучим forte, где хор обнаруживает силу звука ничем не стесненную. Такую звучность можно любить и ценить, но считать ее единственно возможной и единственно законной нет никаких оснований.
Синодальный хор мог с успехом противопоставить этой красоте «свободного звука» свой прозрачный (квартетный) ансамбль, легкий и чистый, как серебро. Поэтому здесь речь о том, что больше может нравиться и что меньше, то есть идет спор о вкусах, где (по пословице) никто не указчик. Высочайшая дисциплинированность хорового ансамбля, неизбежно парализующая свободу отдельных исполнителей, также может быть отнесена к вопросам вкуса, а не законности, так как и здесь речь идет о том, что красивее: естественная непринужденность или отточенность хорового звука.
Далее. Если хору Василия Сергеевича ставится в упрек монотонность нюансов в техническом смысле, то с не меньшим правом следует указать на такую же монотонность хоров, поющих непринужденно и «свободных от тонкостей» заученной нюансировки. Что касается злоупотребления излюбленными оттенками, об этом мы уже говорили выше. А был ли Василий Сергеевич «выдающимся» регентом или не был даже просто «хорошим» – решить нетрудно: из противников Василия Сергеевича найдется едва ли много таких, кто смог бы исполнить пьесы Синодального хора так же образцово, как это удавалось Василию Сергеевичу. По крайней мере, нам слышать не приходилось. Выступая с возражениями на нападки противников Василия Сергеевича, мы не хотим однако сказать, что он был свободен от недостатков. Этого, конечно, и быть не могло: недочеты, как везде и у всех, были и у него. Но то, что мы рассмотрели, этого к недостаткам отнести нельзя, так как весь вопрос сводится к тому: нравится то больше или другое из одинаково хорошего?
Но обойти молчанием одну действительно слабую сторону Орлова мы не можем. Это то, как ставил он пение стихир и вообще так называемое простое пение. Первые годы при Василии Сергеевиче стихиры певались только мужскими голосами под управлением головщиков, при этом по одной книге, почти с листа. Выходило коряво и далеко не безупречно. Впоследствии стихиры стали петь полным хором, но также без особой отделки, довольно примитивно; и в пении осмогласия не чувствовалось ни любования красотой напева, ни тщательности исполнения, ни выдержанного настроения. Пение стихир, как и почти всюду, было и в Успенском соборе скучнейшей частью богослужения: «ни красы, ни радости»! Казалось, что Василий Сергеевич ни сам не любит осмогласия, ни других не может заставить любить его; скучно и нудно было хору, скучней того предстоящим в церкви. А между тем, несомненно, в Синодальном хоре была возможность (и даже на нем лежала нравственная обязанность) поставить осмогласие на должную высоту и приучить публику ценить красоту его не менее (если не более), чем «нотные» пьесы. Но во имя справедливости мы должны ослабить силу указанного недостатка, упомянув о том, что при Василии Сергеевиче начато было редактирование обихода с напевами, принятыми в Синодальном хоре (первый выпуск вышел в текущем году). Ясно, что необходимость упорядочить эту сторону пения Синодального хора хорошо осознавалась и средства к тому изыскивались132.
В заключение укажем еще и на то, что при пении в Успенском соборе Василий Сергеевич редко вел хор со свойственным ему жаром и искусством; чаще всего службы пелись без особых стараний, и Синодальный хор не всегда оставался при этом образцовым. Действительно, Синодальный хор на концертной эстраде был куда выше того, каким его приходилось слушать в соборе! Это объясняется тем, что Василий Сергеевич был не столько церковный регент, «мастер клироса», сколько образцовый художник-дирижер, точнее, хормейстер. Клирос стеснял его и расхолаживал, а эстрада вдохновляла; спеть вещь – это его увлекало, но тянуть ектении и прочее – это лишь угнетало. В этом сказалась не суетная жажда успеха, а особенная жилка: быть регентом чистой воды – это нечто иное, чем быть художником-исполнителем вообще. «Регент» из каждого момента службы способен сделать «номер», хотя бы и не особенной художественной ценности, а Василий Сергеевич был особенно силен только там, где имелась наличность несомненно художественного, притом имелась, так сказать, органически, то есть где такая чистая художественность была альфой и омегой самого дела, самого момента. По взгляду Василия Сергеевича, интересы службы нельзя приносить в жертву красоте пения, и хор на клиросе – не первое действующее лицо; поэтому он (хор) должен быть простым и скромным. На эстраде же художественность является единственной целью и должна проявиться во весь свой рост. Там – узы, здесь – простор. «Регент», повторяем, может мыслить, а следовательно и поступать, иначе. Такая черта, если угодно, была дефектом Василия Сергеевича как регента по должности, и в этой области он на самом деле уступал многим, гораздо менее его даровитым управителям церковного хора.
Любопытно отметить, что пример Василия Сергеевича, его манера дирижировать, ставить вещи и вообще исполнять, многих и многих увлекали на подражание. Такое копирование, конечно, безнаказанно пройти не могло: подражатели лишь вредили репутации своего учителя, без какой-либо вины со стороны последнего. Иначе и быть не могло: Василий Сергеевич был слишком индивидуален и притом силен в этой художественной обособленности, перенять которую, разумеется, нельзя: с этим родятся, но не делаются таковыми. И поклонники великого учителя поступили бы гораздо умнее, если бы переняли у него не манеру, а ту необыкновенную серьезность и то глубокомыслие, с какими Василий Сергеевич вел свое дело. Он не любил разговоров о том, кто и как поет, где лучше и где хуже исполняют, как судят и рядят о том или другом регенте и т. п. Он избегал не сравнений, а сплетен, какие при этих разговорах неизбежны, и потому Василий Сергеевич производил всегда впечатление человека, который стоит выше суеты, чужд задора или завистничества, который ценит себя, но ценит спокойно и просто, не унижая других. Таков он был в жизни, таков и в деле, горячо любя его и отдавая ему свои силы.
Комментарии
Началом пути в искусстве для Никольского стали три года пения в составе Синодального хора под управлением Орлова и одновременно учебы в стенах училища на курсах для взрослых певчих (1894–1897). Не случайно, что впоследствии именно Никольский, широко образованный, талантливый музыкант, создал замечательный, единственный в своем роде творческий портрет дирижера Орлова. Он написан на основе наблюдений, сделанных в годы, когда автор статьи пел в Синодальном хоре, и таким образом характеризует главным образом Орлова в последнее десятилетие XIX века. (Подробнее об А. В. Никольском см. в посвященном ему разделе настоящего сборника.)
Очерк печатается по тексту журнала «Хоровое и регентское дело» (1913, №№ 11 и 12).
Семен Николаевич Кругликов
Имя третьего директора реформированного Синодального училища – С. Н. Кругликова – было известно московским музыкантам задолго до 1907 года, когда он сменил на директорской должности ушедшего из жизни Орлова. Слухи о назначении Кругликова в Синодальное училище в первый раз возникли в 1885 году, в преддверии реформы. Человек сугубо светский, Кругликов не был ни регентом, ни церковным композитором, ни ученым-археологом, ни народным учителем, но именно его выдвигали на роль преобразователя духовно-музыкального учреждения.
Родившийся в Москве 25 мая 1851 года, Семен Николаевич Кругликов получил образование на физико-математическом факультете Московского университета, а затем в петербургском Институте путей сообщения. Однако его жизненный путь оказался очень далеким от инженерной специальности: биографию Кругликова определило увлечение музыкой, и в особенности творчеством композиторов Могучей кучки, с которыми Кругликова связывали дружеские отношения. Поначалу музыкальное образование Семена Николаевича ограничивалось уроками матери, а затем посещением музыкальных классов Бесплатной музыкальной школы, где он пел в хоре. Вскоре Кругликов решил всецело посвятить себя музыке и начал готовиться к поступлению в консерваторию. Дело ограничилось, однако, лишь частными уроками с Римским-Корсаковым и Лядовым, поскольку в 1879 году Семен Николаевич по семейным обстоятельствам был вынужден вернуться в Москву. Там он стал одним из первых апостолов Могучей кучки.
Собственно, в историю русской музыки Кругликов вошел как музыкальный критик, сотрудничавший с самыми разными московскими периодическими изданиями: газетами «Современные известия», «Новости дня» «Русское слово», журналом «Артист» и т. д. Во второй половине 1890-х годов он был консультантом Частной русской оперы С. И. Мамонтова и способствовал появлению в ее репертуаре сочинений своих петербургских друзей. Одновременно с журналистикой Семен Николаевич совершенствовался в педагогике, за короткий срок превратившись из самоучки в профессора Московского Филармонического училища: он начал там преподавание в 1881 году, в 1898–1901 годах был директором.
Однако вернемся к 1885 году и остановимся на истории первого – неудавшегося – назначения Кругликова директором Синодального училища: эта история проливает свет на участие в его реформах двух ведущих композиторов того времени, Балакирева и Римского-Корсакова. Дело в том, что преобразование Синодального училища имело прецедент в стенах Придворной певческой капеллы, куда в 1883 году были приглашены на работу названные композиторы. Действующих лиц реформы в Капелле Римский-Корсаков охарактеризовал в своей «Летописи». Забегая вперед, скажем, что почти тот же круг лиц стоял и у истоков реформы, которую намеревались осуществить в Москве.
«Перемены, возникшие со вступлением на престол Александра III, коснулись и Придворной капеллы, директором которой был Бахметев, – писал Римский-Корсаков. – Последний получил отставку. Положение Капеллы и штаты ее были выработаны вновь. Начальником Капеллы сделан граф С. Д. Шереметев (даже и не дилетант в музыкальном искусстве). Должность эта была как бы только представительная и почетная, а в действительности дело возлагалось на управляющего Капеллой и его помощника. Управляющим Шереметев избрал Балакирева, а последний в свои помощники – меня. Таинственная нить такого неожиданного назначения была в руках Т. И. Филиппова, бывшего тогда государственным контролером, и обер-прокурора Победоносцева. Балакирев – Филиппов – гр. Шереметев – связь этих людей была на почве религиозности, православия и остатков славянофильства. Далее следовали Саблер и Победоносцев, Самарин, пожалуй, и Катков – древние устои самодержавия и православия. Собственно, музыка играла незначительную роль в назначении Балакирева; тем не менее нить привела к нему, действительно замечательному музыканту. Балакирев же, не чувствуя под собой никакой теоретической и педагогической почвы, взял себе в помощники меня, как окунувшегося в теоретическую и педагогическую деятельность в консерватории. В феврале 1883 года состоялось мое назначение помощником управляющего Придворной капеллой»133.
Насколько к идее реформы Синодального училища были причастны Ю. Ф. Самарин и М. Н. Катков, предстоит еще уточнить; остальные названные Римским-Корсаковым лица (к ним надлежит еще добавить выдающегося просветителя С. А. Рачинского) в той или иной мере имеют отношение к преобразованиям училища после 1885 года. Не кто иной, как Балакирев, явился, по мнению Римского-Корсакова, человеком, внушившим Победоносцеву идею продолжения петербургского эксперимента в Москве134. Быть может, Римский-Корсаков ошибался, и подобная мысль первому пришла в голову не Балакиреву, а Рачинскому – человеку, более близкому к Москве и к Победоносцеву. Так или иначе, последний пустил в 1885 году это дело в ход и назначил для подготовки реформы нового управляющего Московской Синодальной типографией А. Н. Шишкова. Что же касается двух знаменитых композиторов и Рачинского, то они выставили в качестве претендентов на директорское кресло разных кандидатов: от петербуржцев таковым был Кругликов, а от Рачинского – Смоленский.
Можно отметить, что еще до проектов, связанных с Синодальным училищем, Кругликов был вхож в московские церковно-певческие круги. Например, в письме к Римскому-Корсакову от 16 сентября 1882 года он рассказывает, что год назад впервые посетил «поповское общество, собиравшееся у архиерея Амвросия с целью изучения древнего русского церковного пения», то есть Общество любителей церковного пения. Семен Николаевич отмечает, что он заинтересовался им, потому что его пленили «простота и оригинальные повороты древних напевов». Через полгода архиерей снова пригласил Кругликова на заседание Общества. Это подтверждает его известность в соответствующих кругах, как подтверждают ее и сношения (по просьбе Римского-Корсакова) с монастырскими хорами Москвы, и те объяснения церковного устава, которые он давал композитору при встречах. Опять-таки задолго до реформы Синодального училища Кругликов уже выступал в печати с рецензиями на духовные концерты и показывал при этом неплохую осведомленность в данной области. Возможно, это шло у него от семьи и воспитания – по привычкам и характеру Семен Николаевич был очень «московским» человеком.
В марте 1885 года Римский-Корсаков и Балакирев отправили Кругликову письма с советами не отказываться от предложения, которое в скором времени должно последовать ему от Шишкова. Римский-Корсаков не только рекомендовал его принять, но и сулил всяческую помощь: Семен Николаевич приглашался в Петербург для ознакомления с организацией дела в Капелле, а сам композитор обещал «наведываться в Москву помогать». Однако до наступления лета предложения так и не последовало. Причина проста: Шишков советам композиторов не внял, и 17 апреля 1885 года инспектором училища (позже должность была преобразована в директорскую) был назначен Н. Ф. Добровольский – человек, вышедший из среды Синодального хора, где он сперва был малолетним певчим, а потом учителем.
Однако летом 1885 года встреча Шишкова и Кругликова все же произошла, и, очевидно, в результате Кругликову было поручено составить учебные программы Синодального училища по музыкальным предметам. Конечно, Семен Николаевич обратился за советом к Римскому- Корсакову и получил от него в июле 1885 года подробный ответ:
«Милый друг Семен Николаевич, спешу ответить на ваши вопросы:
1) Разница между регентским классом Капеллы и так называемым инструментальным есть. Регентский класс для вольноприходящих, а инструментальный для малолетних певчих. В регентский принимаются не моложе 14 лет, так как по прошествии первого года (элементарная теория и проч.) ученики получают свидетельство 3-го разряда «регентского помощника». Нельзя же выпускать в регентские помощники мальчика моложе 15 лет. Нынешний год показал, что программу приготовительного курса можно пройти в один год.
С мальчиками-певчими мы поступаем так: принятый в певчие лет 9-ти или 10-ти в 1-й год своего пребывания не учится ни на каком инструменте, ни теории, а просто приучается петь в хоре, причем получает отрывочные сведения о размере, интервалах и т. п. и выучивает более или менее твердо ключ, подходящий к его голосу. Когда через год или полтора мальчик поприсмотрится, спрашивают, желает ли он учиться на инструменте, или подсказывают ему эту мысль; он выбирает себе инструмент: фортепиано, скрипку, cello или basso. Тогда его отдают на обучение одному из старших учеников; через несколько времени он или бросает учиться, или меняет инструмент, или начинает делать успехи. Когда это определится, его отдают профессору. Одновременно или немного погодя его сажают в элементарную теорию на два года, а если не выдерживает экзамены, то и на 3. По окончании теории (12-ти, 13-летний возраст) я стараюсь всеми силами отговаривать их идти в гармонию – слабоватых или мало подающих надежды – на теоретическое образование; пусть лучше больше играют на инструменте и выйдут порядочными оркестровыми музыкантами. Способных же перевожу в гармонию на два года. Играющий на струнном [инструменте] через 2 или 3 года занятий начинает учиться обязательно на фортепиано; поступающие в гармонию обязательно учатся на фортепиано. Дальше я и сам не знаю пока, как поведу дело; пианистов-специалистов я буду направлять на специальность учителя музыки и регента, следовательно, для них будет и курс церковного пения и скрипки (как обязательный предмет), прочих же инструменталистов лучше вырабатывать как оркестровых музыкантов. Вот пока все о воспитании малолетних.
Предупреждаю вас, что вам не удастся провести музыкальные классы параллельно с научными, постоянная будет рознь; ученики выдержат по научным, а не выдержат по элементарной теории или обратно – ну все и спутается. Я стою за то, чтобы как можно менее было науки и как можно более музыки, – это правильнее; они не должны учиться многим наукам, но пусть это немногое они будут знать хорошо. Вы спрашиваете, сколько раз в неделю теория у малолетних; отвечаю: два раза по 1 1/2 часа, причем в классе сидят от 12 до 20 человек. Я считаю это недостаточным; но у нас нет ни времени, ни места. У нас все неудобно распределено: все утро до 1 часа занято научными классами и спевками, в 1 час обед, с 2-х занятия на инструментах. С 5 до 6 1/2 теория, в б 1/2 чай и ужин (как неудобно!!), потом приготовление уроков (!!!). <...>»135
К октябрю музыкальные программы были готовы и поступили на рассмотрение все к тем же управляющему Капеллой и его помощнику. Ответ Римского-Корсакова был следующим:
«...Читал вашу программу музыкальных классов Синодального хора, которая теперь у Балакирева, и сделал по его распоряжению на оную замечания. Читал также безлинейную ерунду Разумовского (т. е. программу преподавания церковного пения у вас же).
1) Считаю в вашей программе капитальной ошибкой то, что вы ее распределяете соответственно 8-ми научным классам. Музыкальное образование ничего общего с научным не имеет, и вести это параллельно нельзя. Что ж, в класс вы посадите ученика, хорошо идущего по музыке и скверно по наукам?
2) Напрасно вы так подробно расписали игру на скрипке и фортепиано; следовало бы написать желаемые конечные экзаменационные результаты, вот и все.
3) Программа элементарной теории слишком подробна (как программа), можно было бы ограничиться прежним перечнем, как сделано у нас. <...>»136
Таким образом выясняется, что Кругликов не разделял убеждения Римского-Корсакова о несинхронном прохождении научных и музыкальных предметов и о приоритете последних: в отличие от Капеллы Синодальное училище, очевидно, тогда мыслилось как духовное учебное заведение с углубленным изучением церковно-певческих и музыкальных дисциплин.
Что же касается более конкретного содержания программ Кругликова, то оно неизвестно; скорее всего, программы 1885 года так и остались на бумаге, поскольку пришедший в 1889 году в училище на должность директора Смоленский никаких планов и программ не обнаружил и впоследствии неоднократно подчеркивал, что ему пришлось все начинать заново.
Между тем отношения Шишкова с Кругликовым продолжались еще несколько лет. По всей видимости, Добровольским были недовольны, и его управление рассматривалось как временное. В начале 1886 года его попытались заменить Смоленским, от первого предложения отказавшимся. Кандидатура Кругликова отпала летом 1887 года. Участь Семена Николаевича решил визит в жаркий летний день к Шишкову не в сюртуке, а в летнем костюме, что было сочтено управляющим непочтительным. Словом, светский образованный музыкант Кругликов, который, по мнению Шишкова, «и одеться-то не умел порядочно», в Москве конкурса не прошел. Не исключено, что это отчасти объяснялось слабостью позиций в синодальном ведомстве его капелльских покровителей. Ведь реформаторская деятельность Римского-Корсакова и Балакирева дала не предвиденные Синодом результаты: Капелла стала выпускать прекрасных оркестрантов, в то время как исполнительский уровень хора заметно упал.
В конце концов директорское место в Синодальном училище было благополучно занято в 1889 году Смоленским, у которого с Кругликовым сложились полные взаимопонимания отношения. Семен Николаевич оценил результаты проводимых Смоленским преобразований и великолепное пение Синодального хора. В 1894 году по приглашению Смоленского Кругликов поступил в Синодальное училище в качестве преподавателя гармонии, пробыл там четыре года и ушел, оскорбившись требованием Ширинского-Шихматова предоставить диплом о музыкальном образовании: диплома у Кругликова – к тому времени профессора Филармонического училища – не имелось (этот случай описан в «Воспоминаниях» Смоленского). Впрочем, связь Семена Николаевича с Синодальным училищем не оборвалась, поскольку в 1898 году он вошел в состав Наблюдательного совета при Синодальном училище.
В силу занимаемой должности Кругликову пришлось в 1901 году высказать свое мнение по поводу конфликта между Смоленским и Ширинским-Шихматовым: последний обратился к нему с просьбой оценить его план преобразований училища после отъезда Смоленского. Семен Николаевич ответил письмом, делающим ему честь. Он не побоялся раскритиковать план всесильного прокурора и поддержал уже поверженного Смоленского, присоединившись к его концепции широкого музыкального и научного образования учеников, а не к идее узко ремесленного обучения, за которую в то время ратовали победители. В своем ответе Кругликов идет еще дальше Смоленского, полагая, что Синодальное училище должно стать центром подготовки не только образованных регентов и учителей пения, но и композиторов духовной музыки Нового направления137.
22 ноября 1907 года Семен Николаевич вступил в должность директора Синодального училища и хора. Однако за годы правления тяжелобольного Орлова коллектив единомышленников, некогда с энтузиазмом работавший на новую идею, превратился, по словам Кастальского, в «кипящий котел». В него и суждено было окунуться больному и уставшему от жизни Кругликову. На свою беду он, будучи назначенным «со стороны», перешел дорогу «своему» – Кастальскому, выдвинутому на должность директора общим собранием членов Наблюдательного совета и преподавателей. «Вы, конечно, знаете о странном назначении Кругликова преемником Орлова, – писал Смоленский московскому критику И. Липаеву в Москву. – Вполне недоумеваю, чем вызвано устранение кандидатуры Кастальского. Именно его-то, Кастальского, и следовало бы не только назначить, а просить принять директорство, – между тем как «верные присяге дворяне» и их петербургские дядюшки выделывают глупость за пошлостью и нелепость за гадостью, только ради желания «поставить на своем», хотя бы и ценою гибели дела. Но хорош же Кругликов! Хоть бы людей постыдился, хоть бы приличие соблюл. Ведь в результате получится уже совсем неопровержимое: начали хозяйничать неподходящие умники в Чудовском хоре – и пропал он, по справедливости называвшийся превосходным. <...> Такое же падение, вероятно, вскоре увидим и в разваливающемся теперь деле на Никитской, благо дело гг. Степановы и Ширинские «тверды в направлении». А Кругликову должно быть стыдно, даже и очень! Полагаю я, что и «Музыкальный труженик» должен отметить совершившееся к укору Кругликова»138.
В результате началась большая интрига по выживанию «газетного писаки» из Синодального училища, в которую были втянуты даже С. Д. Шереметев и Смоленский. Последний писал в своем «Дневнике» о назначении Кругликова: «Дело это – действительно вполне нелепое, только глупое. Самонадеянность московского синодального прокурора Филиппа Петровича Степанова (он же Филей по кличке своих подчиненных) могла создать такую ненадобную и резко кричащую вещь»139.
О масштабе конфликта говорят следующие строки из письма Кастальского к Смоленскому от 28 ноября 1907 года: «Наша наиболее талантливая молодежь лезет на стену от назначения Кругликова. Я совершенно неожиданно становлюсь яблоком раздора. Сахновский собирается валять во всех газетах и собирать подписи под протестом»140.
Два года, проведенные Кругликовым на директорской должности, продолжалась междоусобица. Тем не менее это время может быть оценено как период вызревания всерьез развернувшейся с 1910 года реформы. Ее суть состояла в том, что «Синодальное училище, контингент воспитанников которого состоит исключительно из элементов музыкальных, должно быть высшим учебным заведением по специальности церковного пения, композиторства и дирижерства»141.
Новые учебные программы, составленные весной 1907 года, были предварительно одобрены Синодом в 1908 году и отправлены в училище на доработку. Однако окончательно отредактированы и утверждены они были уже при другом директоре – Кастальском. Ненамного переживший своего предшественника Орлова, Кругликов скончался 9 февраля 1910 года. Можно лишь сожалеть о столь печальном завершении жизненного пути этого, по характеристике Смоленского, «очень толкового музыканта, доброго, порядочного, благовоспитанного человека». В истории Синодального училища были не только победы и триумфы, но и трудные периоды. Один из них, связанный с директорством С. Н. Кругликова, отражен в публикуемых материалах.
Из переписки Н. А. Римского-Корсакова и С. Н. Кругликова
Н. А. Римский-Корсаков – С. Н. Кругликову Петербург, 10 декабря 1907
Дорогой!
Вы директор Синодального училища церковного пения. Радуюсь. Желаю знать подробности. Черкните, когда будет возможно.
Обнимаю вас.
Н. Р.-К.
С. Н. Кругликов – Н. А. Римскому-Корсакову Москва, 12 декабря 1907
Благодарю сердечно за строки привета, дорогой мой, милый, хороший Николай Андреевич!
Подробности же такие. Последние годы жил впроголодь, потому что только газеты кормили и частные уроки. Но газеты беспрестанно лопались (вернее, их лопали), а ученики были неаккуратны и часто любили хворать невольно и вольно. Особенно туго пришлось этой осенью, когда прихлопнули «Столичное утро» и я остался на мели, как рак или Иона, выброшенный на берег из чрева китова.
Между тем директор Синодального училища и вместе регент Синодального хора В. С. Орлов тихо угасал, пораженный медлительной, но смертельной болезнью. Прокурор Московской Синодальной конторы Ф. П. Степанов меня жалует. Знал же он меня понаслышке от своих предшественников на этой должности и по собственному опыту, так как я с 1898 года – непременный член Наблюдательного совета при Московском Синодальном училище. Когда уже Орлову осталось жить, по приговору врачей, всего несколько дней, Степанов вызвал меня и спросил, согласен ли я принципиально занять место директора, если Синод принял бы его, Степанова, представление. Я подумал с день, потолковал с женой на все манеры и согласился. Затем пошло страшно все быстро. Орлов умер 10 ноября, Степанов потребовал у меня документы мои 11-го, 12-го сделал Синоду представление, 15-го Орлова похоронили, 22-го же я официально представлен Степановым училищу, сказал его ученическому и учащему персоналу милостиво-строгую вступительную речь и с 23 ноября ежедневно исправляю свои директорские обязанности с 8-ми часов утра до 10-го часа вечера, навещая квартиру в доме Романова для обеда и ночлега142.
Ведаю только училищем, хор же имею в административном лишь подчинении, но не регентую им. На последнее имеются особые махатели, как при Балакиреве и вас в капелле были Смирнов и Азеев. Присматриваюсь, прислушиваюсь, вникаю. Иногда подтягиваю. Добросовестен, исправен, но без любви и увлечения директорствую. Рецензентство временно брошено: некогда пока что этим заниматься, да и вряд ли будет оно дозволено, когда и время на то со временем нашлось бы. Сухо, скучно, мертво и страх как черносотенно. Я замер, но, конечно, не изменил, не переродился, а только вышел из каких бы то ни было политических течений и интересов и молчу, не споря, но и не поддакивая. Очень все это не по мне. Но после голодовки иметь верное жалованье, квартиру просторную с отоплением и освещением что-нибудь да значит, когда семья на руках и никаких капиталов в банке.
С материальной стороны, однако, не все благополучно. Надо изготовить мундир с шитьем V класса, вицмундир, надо за поступление на государственную службу уплатить казне побор в размере месячного жалованья и все такое. Пока я еще в доме Романова. Квартира казенная еще занята семьей покойного Орлова. Не стану, понятно, ее стеснять, прежде чем она не устроится так или иначе в другом помещении.
А среда Синодального училища пренесимпатичная – одни кляузники, нашептыватели, тупицы и канцелярщики143. Среди всей этой слякоти только два-три более или менее счастливых исключения. Прощай, свободная профессия. Голодно с нею желудку, но лучше душе и сердцу. Таковы подробности, родной мой. Если радуетесь за меня, то радуйтесь очень относительно, отнюдь не абсолютно. Чувствую себя похороненным по I разряду. Но буду вещать из могильного склепа. Хочется выглянуть на чистый воздух, там что-нибудь узнать о всех вас.
Черкните мне, родной мой, о себе, о своих, но хоть несколько больше одной недописанной странички. Обнимаю вас крепко, приветствую от всей души всех ваших. Всего вам всем лучшего в новом году.
Ваш Сем. Кругликов.
Н. А. Римский-Корсаков – С. Н. Кругликову Петербург, 9 марта 1908
<...> Душевно сожалею, что вы прекратили вашу критическую деятельность, но радуюсь, что материальное ваше положение, по-видимому, хорошо, хотя с бурсацкою и черносотенною тупостью иметь дело и тяжело. <...>
Комментарии
Публикуемые письма – малая часть огромной переписки Н. А. Римского-Корсакова и С. Н. Кругликова, изданной в составе Полного собрания сочинений Римского-Корсакова. Текст выбранных для настоящего сборника писем воспроизводится по изданию: Н. Римский-Корсаков. Полное собрание сочинений, том ѴІІІ. Литературные произведения и переписка, с. 204–205, 207.
А. В. Никольский. Семен Николаевич Кругликов
На протяжении двух с небольшим лет Московское Синодальное училище хоронит уже третьего директора: в ноябре 1907 года В. С. Орлова, в июле прошлого года С. В. Смоленского, а теперь – Семена Николаевича Кругликова. Тяжела потеря первых двух, создавших это училище и возведших его на небывалую высоту! Нельзя обойти молчанием и последнего.
Духовно-певческий мир, за исключением небольшого круга лиц, мало знал покойного Семена Николаевича, и то едва ли не с того дня, когда два года назад он был назначен на место директора Синодального хора и училища. Семен Николаевич был более известен в среде светских музыкантов, артистов, певцов, певиц и дирижеров как серьезный музыкальный критик и рецензент. В этом отношении Семен Николаевич был крупным и влиятельным человеком. К слову его всегда чутко прислушивались, отзывами в печати интересовались, с ними считались и дорожили ими. Это был человек образованный, с широкой эрудицией в области музыкальной литературы, чуткий и разборчивый в художественных качествах произведений и их исполнении, – любезный, мягкий и доступный в обращении, веселый и остроумный в беседе, умный и осторожный в делах. Рядом с журнальной деятельностью, которой Семен Николаевич отдавался в течение всей своей жизни, он много проработал и на педагогическом поприще: в качестве профессора гармонии в Московском Филармоническом училище, а в 1898–1901 годах – и как директор там же. Среди своих учеников он был очень популярен, подкупая их веселостью нрава, товарищеской доступностью, остроумием шуток в связи с вполне серьезным отношением к делу и занятиям. Его друзья, многочисленные ученики и почитатели, несомненно, с болью в сердце узнают о его кончине и помянут его добрым словом144.
В свое время назначение Семена Николаевича директором Синодального училища многих очень удивило, так как большинству не было известно, имел ли он какое-либо отношение к духовной музыке и знал ли ее настолько, чтобы стоять во главе дела. В действительности же Семен Николаевич имел связь с духовно-певческим миром, долго и беспрерывно ее поддерживал. В 1894 году он был приглашен Степаном Васильевичем Смоленским в преподаватели Синодального училища по гармонии и с этого момента силою вещей сблизился и как музыкант- педагог, и как критик с теми задачами, которые в то время энергично преследовались Синодальным хором и училищем под мощным руководительством С. В. Смоленского и В. С. Орлова. Вместе с тем, Семен Николаевич вошел в состав Наблюдательного совета при училище в качестве непременного члена. Здесь ему пришлось коснуться уже не только одного Синодального хора, но и хоров всей Москвы и даже больше – войти в курс интересов, связанных с общей жизнью духовно-певческого мира. Последнее вытекало из обязанности его как цензора духовно-музыкальных сочинений145.
За 10–12 лет, какие провел Семен Николаевич около этого дела, чрез его руки прошла масса сочинений. Из них добрая половина, в виду явной и вопиющей безграмотности и музыкальной безвкусицы, была совсем забракована, а другая – была поправлена настолько, чтобы получить достаточно приличный вид прежде, чем выйти на свет Божий из-под типографского станка. Таким образом, Семен Николаевич внес свою лепту в дело оздоровления нашей бедной и скудной духовно-музыкальной литературы и тем самым заслужил признательность всех, кому ясна важность и необходимость такого оздоровления.
Директорство Семена Николаевича в Синодальном училище совпало со значительным ухудшением в состоянии его собственного здоровья, благодаря чему он не мог проявить ни должной энергии в работе, ни заметной инициативы в таком живом деле, как училище и хор. Впрочем, при нем училище фактически приступило к частичному преобразованию своему в высшее церковно-певческое учреждение, согласно проекту, выработанному при В. С. Орлове. Результаты этого курса дадут себя чувствовать через несколько лет, и тогда можно будет судить о том, что значило наблюдаемое теперь «затишье» в жизни училища и действительно ли оно пробавляется лишь одними «прежними соками», не освежаемое ничем и никем.
В последнее время Семен Николаевич целые полгода был прикован к постели, жестоко страдая от припадков грудной жабы, подагры и от склероза кровеносных сосудов, пока не умер в ночь с восьмого на девятое февраля. Мир его праху!
Комментарии
Настоящая статья является некрологом, написанным А. В. Никольским в память о своем первом учителе элементарной теории и гармонии на курсах для взрослых певчих Синодального хора. Некролог был опубликован в журнале «Хоровое и регентское дело» (1910, № 3, с. 65–67), по тексту которого он и воспроизводится в данном издании.
Александр Дмитриевич Кастальский
Расцвет Синодального училища церковного пения в конце XIX – начале XX века во многом определялся деятельностью А. Д. Кастальского (1856–1926). Придя в училище в 1887 году учителем фортепиано, в последующие годы он стал одной из ключевых фигур училищной жизни, а с 1910 года – ее руководителем. Благодаря усилиям Кастальского и его сподвижников в 1910-е годы удалось осуществить мечту Смоленского о преобразовании Синодального училища в высшее хоровое учебное заведение. С именем Кастальского связана также борьба за сохранение училища после 1917 года.
Деятельность Кастальского в Синодальном училище была многосторонней: он преподавал музыкально-теоретические и церковно-певческие предметы, фортепиано и народную музыку, разработал курсы «церковный стиль» и «церковные формы». Около двадцати лет Кастальский дирижировал Синодальным хором: с 1891 по 1901 год в качестве помощника регента, с 1901 по 1910 год – как регент. Однако ни педагогика, ни регентство не принесли ему широкого признания: в историю русской музыки Кастальский вошел прежде всего, как талантливый композитор, основоположник Нового направления в русской музыке, воплотивший в творчестве идею духовного единства народной песни и церковного роспева.
Большинство духовных сочинений Кастальского (всего их свыше 130) было создано для клиросных нужд Синодального хора; с 1896 года они стали неотъемлемой частью его репертуара. Друг Кастальского, талантливый дирижер Синодального хора В. С. Орлов, позже – его преемник Н. М. Данилин, в руки которых в первую очередь попадали новые работы, столь ярко и убедительно интерпретировали их в церкви и на эстраде, что современники нередко считали: секрет успеха сочинений не столько в них самих, сколько в исполнении Синодального хора. Безусловно, подобное мнение ошибочно и композиторское творчество Кастальского представляет самодостаточную художественную ценность. Однако в известном смысле оно действительно неотделимо от исполнителей: хор и мастер составляют единый творческий феномен, восходящий к одному истоку – вековым традициям московской церковности.
Подобное обстоятельство не осталось незамеченным. Посетивший Москву в 1906 году священник и композитор М. А. Лисицын по возвращении в Петербург писал: «Что такое Синодальный хор? Он прямое музыкальное воплощение Москвы и Московского Успенского собора. Он вырос из пения «попов» Успенского собора и представляет его культурное продолжение. Зайдите в Успенский собор к службе в будний день, и вы будете перенесены в XVII век. Вы услышите унисонное пение, украшенное подголосками и случайно, как искры, брошенными аккордами. <...> Манера пения Синодального хора имеет корень тут. Творчество его корифея А. Д. Кастальского развилось из этого зерна. В самом деле, откуда эти выкрикивания отдельных аккордов в пении Синодального хора? Откуда у господина Кастальского эти скачковые аккорды? <...> Все из подголосочных аккордов, употребляемых в унисонном пении. Манера гармонизации у Кастальского подголосочная; безалаберность, по местам, московская, как в живописной орнаментике Василия Блаженного. Точно снопы искр мечутся у него иногда звуки безалаберно, во все стороны, но в этом есть своя красота, свое единство»146.
Преломляющее древние традиции творчество Кастальского, а затем и пошедших вслед за ним авторов, оказывало влияние на манеру Синодального хора, основанную на типично русском искусстве мелодического распевания и передающую эмоциональную палитру народного песнотворчества – искреннего, сердечного, свободного от слащавой сентиментальности и манерности.
Триумф Кастальского-композитора затмил ту значительную роль, которую ему было суждено сыграть в преобразованиях Синодального училища. После отъезда из Москвы Смоленского (1901), смерти Орлова (1907) и Кругликова (1910) продолжателем их дела стал Кастальский, сумевший завершить начатую в конце XIX века реформу.
Мысль о превращении Синодального училища в высшее учебное заведение восходит к последним годам директорства Орлова, воскресившего некогда отвергнутую им идею Смоленского о приоритете музыкальных дисциплин. В 1908 году уровень обучения в училище уже приближался к консерваторскому. Пришедший в 1910 году на должность директора Кастальский поставил целью упорядочить учебные программы и закрепить новый устав училища в административном порядке. Борьба за это продолжалась на протяжении многих лет, принимая в зависимости от тех или иных исторических событий различные формы.
Одобрение Синодом новых программ, над которыми трудились многие члены педагогического коллектива, не вызвало проблем: в октябре 1910 года они были окончательно утверждены определением Синода и опубликованы147. Более затяжной и гораздо менее успешной была борьба за устав и новые права для педагогов и учеников. В 1913 году Кастальский писал И. В. Липаеву: «Так как музыкальные программы наши увеличены по теории музыки до консерваторского градуса (выставляя на первое место хоровую, а не оркестровую музыку, также и теорию церковного пения) – то естественно и возникла мысль – хлопотать для «синодалов» о «свободном художнике» по своей специальности, то есть в области церковного пения, отсутствующей в консерваториях. Программы одобрены – дело за уставом, и правами, и званиями, для чего это дело должно пойти по законодательным инстанциям, начиная с Синода. Как решится дело – пока не известно, конечно»148.
Реакция Синода на ходатайство Московской Синодальной конторы последовала лишь в конце 1913 года, когда для инспекции в училище были посланы председатель Учебного комитета при Синоде архиепископ Финляндский Сергий и член комитета П. П. Мироносицкий. В мае в церковной прессе появилось сообщение о том, что Учебный комитет одобрил новый устав училища и Синод направляет дело в Совет министров для одобрения его законодательными учреждениями и для высочайшего утверждения149.
Дело казалось решенным, и музыкальная общественность на страницах газет и журналов приветствовала новое русское высшее музыкальное заведение, сочетающее в себе черты консерватории и духовной семинарии. При ближайшем рассмотрении даже выяснилось, что музыкально-теоретические программы «Академии церковной музыки», или «Духовной консерватории» – так стали называть училище в прессе – в некотором смысле даже превосходят консерваторские. «Так, – писал критик В. В. Держановский, – здесь уже несколько лет введен курс истории народной музыки, в консерваториях же он только предположен и будет осуществлен по утверждении нового устава. Теория композиции (контрапункт, фуга, формы, инструментовка) проходится в том же объеме, что и в консерваториях. Но нет класса практического и свободного сочинения. Обязательное фортепиано проходится девять, а не пять лет, плюс скрипка и виолончель»150. В этом же номере журнала была приведена сравнительная таблица музыкальных и общеобразовательных предметов, изучаемых в консерватории и Синодальном училище, доказывающая, во всяком случае, количественные преимущества программ училища151.
Однако весенняя эйфория кончилась ничем: новый устав так и не был одобрен, хотя руководство училища надеялось на это до самого конца, делая даже оговорку в свидетельствах выпускников о том, что они являются временными и будут по утверждении устава и штатов училища обменены на дипломы, дающие звание «свободного художника по специальности церковное пение». Можно лишь предполагать, что помешало осуществлению проекта: война, недоброжелательство высших сфер или царская немилость, в которую училище и хор попали в августе 1914 года152.
В отличие от ученого-медиевиста Смоленского, Кастальский был композитором и фольклористом, и потому главным ему виделось изучение законов церковной и народной музыкальной речи, дававшее основы мышления категориями не академического, а народного искусства. (Медиевистика как наука интересовала Кастальского меньше, и он предоставил эту область преемникам Смоленского В. М. Металлову и Д. В. Аллеманову, благодаря которым за Синодальным училищем и в 1910-е годы сохранялась слава ведущего центра по изучению древнерусской музыки.) Кастальский хотел доказать миру существование в русском народном и церковном искусстве самобытной гармонии, музыкальных форм, полифонии, а также утвердить мысль о необходимости русификации всей системы музыкального образования и в конечном итоге – всей музыкальной культуры России. И он занялся поиском доказательств идеи приоритета «родного художества», стремясь подтвердить ее не только собственным композиторским творчеством, но и научными изысканиями, результаты которых он внедрял в учебные планы Синодального училища. Рассматривая его как форпост национальных традиций, Кастальский разработал два специальных курса, посвященных основам церковно-народного языка и стиля. Думается, конкретная практическая работа по созданию прикладной научной теории национального стиля, основанной на исследованиях фольклора и церковного искусства, составила главную примету директорства Кастальского в Синодальном училище. Однако, судя по более поздним высказываниям композитора, его идеи не находили отклика не только в высших сферах, но и среди многих его коллег-музыкантов.
Казалось, Кастальский только и ждал Февральскую революцию, когда, как ему представлялось, придет время для воплощения мысли о народной (демократической) музыкальной культуре, наступит «звездный час» Синодального училища: ведь в нем получали высшее музыкальное образование дети из беднейших сословий, затем возвращавшиеся в народ, просвещая его в школе и в церкви. По мысли Кастальского, училище должно было стать «единственной и совершенно оригинальной народно-художественной музыкальной академией церковного и вообще хорового пения». В одной из статей того времени он писал: «В училище уже заложено краеугольным камнем народное искусство – церковные напевы, изучается народная светская музыка, проходится (в истории искусства) и народная архитектура, и живопись, и орнамент, и прочее. Поставив у себя широко изучение народного творчества как в этих областях, так и в области поэзии, словесности, обрядности, быта и вообще народной жизни – такая академия могла бы быть прямо органом, стоящим на страже художественно-музыкальных интересов своего народа, блюсти чистоту и самобытность родного искусства, подготовляя молодых людей, проникнутых демократическими идеями в своем деле»153.
Написав эти строки летом 1917 года, Кастальский не мог предположить, что всего через несколько месяцев речь пойдет уже не о демократических реформах в училище, а о его спасении от полного уничтожения. Октябрьский переворот открыл последние трагические страницы в истории Синодального хора и училища церковного пения. Обессиленный и больной, Кастальский оказался в одиночестве, лишился средств к существованию и поддержки со стороны как церковных, так и светских властей. Начались мучительные поиски выхода из тупика. В начале 1918 года училищная корпорация педагогов и сотрудников обсуждала два пути. Первый вел в Комиссариат народного просвещения; второй – к новоизбранному патриарху Тихону: училище предполагалось реорганизовать в патриаршую школу церковного пения, и Синодальный хор в таком случае становился патриаршим хором. Был разработан устав этого хора, который в начале 1918 года участвовал в нескольких патриарших службах. (Последний раз, очевидно, на Пасху 5 мая в Успенском соборе Кремля.)
Однако уже в начале апреля вопрос был исчерпан: московские власти объявили о национализации всех церковных владений, не служащих непосредственно для религиозных целей. Это обрекало на гибель не только Синодальное училище и хор, которые содержались на доходы от сдачи в аренду недвижимости в Москве, но и все тринадцать духовноучебных заведений Московской епархии, отчаянно боровшихся за выживание. От имени церковных властей протопресвитер Успенского собора Н. А. Любимов объявил руководству Синодального училища, что денег в казне нет и служащим надлежит искать себе другие места работы. Таким образом, училище переходило в Комиссариат народного просвещения, и его директор Кастальский отправился на переговоры к наркому просвещения А. В. Луначарскому, перед которым изложил свою идею «самоопределения» народного искусства и соображения о том, какую роль в этом процессе может сыграть Синодальное училище. Наспех отредактированная в соответствии с «духом времени» концепция, в которой вместо православного народа фигурировали пролетарий со своим самобытным художеством и западник-буржуй с операми и балетами, вызвала у Луначарского полное сочувствие. Результатом общения Кастальского с Луначарским стала организация на основе Синодального училища и Придворной певческой капеллы Народных хоровых академий Москвы и Петрограда, управляющим которых 22 июля 1918 года был назначен Кастальский. Он же становился ректором Московской народной хоровой академии. В июле же Луначарским и Артуром Лурье (заведующим музыкальным отделом Наркомпроса) была утверждена «Примерная таблица учебных предметов и занятий в Народной хоровой академии», составленная Кастальским.
Открывшаяся 19 декабря 1918 года академия, принимавшая на обучение учащихся без ограничения пола, возраста и сословия, была, судя по ее программам, плоть от плоти Синодального училища.
Многие преподаватели и ученики продолжали служить и учиться в старых стенах. Хотя и в деформированном виде, но осуществлялась идея воспитания молодых музыкантов на основе отечественного наследия. Правда, в новых условиях Кастальский мог положить в основание своей концепции главным образом музыкальный фольклор, изучавшийся им в то время очень пристально. Посвятивший последние двадцать лет жизни исследованию народной песни, композитор предполагал максимально полно воплотить свои идеи, знания и открытия в новом учебном заведении. Удалось включить в программы и церковное пение, которое в ту пору и Луначарским, и Лурье рассматривалось как народное достояние.
Однако век последнего детища Кастальского был недолог. Тревога по поводу закрытия академии появилась уже весной 1922 года; 14 апреля композитор писал намеревавшемуся перебраться из Оренбурга в Москву другу: «Насчет службы в Москве – дело совсем швах, везде сокращение штатов. Наша Хоровая академия сокращена до чертиков, да кроме того, кажется, на днях и вовсе снимается с государственного снабжения (!) и предстоит может быть слияние с Московской консерваторией, а я превращусь из ректора академии в черт знает что!?.. Грозят опять с уплотнением квартиры и особенно бесконечными миллионами за квартирную площадь, каковых миллионов я получаю весьма мало. Если бы не академический паек – прямо издыхай!»154
Несмотря на все старания, предотвратить ликвидацию академии Кастальскому все же не удалось: в 1923 году Народная хоровая академия, очевидно, не «вписавшись» в реформу музыкального образования, проводившуюся в то время в стране, была преобразована в хоровой подотдел Московской консерватории. Возможно, имелась и другая причина ликвидации академии: даже лишенная хора и интерната для детей, она продолжала сохранять остатки дореволюционных хормейстерских и педагогических традиций. За царивший в ней «церковный» дух Кастальскому неоднократно приходилось оправдываться перед властями. В 1925 году было решено перевести певцов-хоровиков в вокальный отдел, оставив лишь хормейстеров; подотдел лишался полноценного, состоящего из хороших голосов хора. К 1926/27 учебному году от Народной хоровой академии осталось лишь отделение общего музыкального образования на инструкторско-педагогическом факультете консерватории, куда были определены дирижеры-хоровики.
Последние годы жизни разуверившегося в благих намерениях новой власти Кастальского были заполнены борьбой за сохранение остатков своей школы. Последняя его докладная записка по этому поводу была написана за четыре месяца до смерти. В ней он писал о том, что «певцов и руководителей объединяет в хоровой подотдел основной предмет – хоровое пение и его репертуар. Их воспитывает самый хоровой звук, как многих симфонических и оперных дирижеров воспитал оркестр, где они раньше играли. Лучшие хоровики-практики воспитывались на хороших хорах, где они пели. <...> Если раньше смотрели на хоровое дело как на второстепенный род искусства, то в настоящее время такой взгляд странен. Ликвидация хорового подотдела как раз на руку такому взгляду»155.
17 декабря 1926 года Кастальский скончался. Через пять лет после его смерти, в 1931 году, в Московской консерватории будет организована кафедра хорового дирижирования, в которую войдут бывшие «синодалы» Н. М. Данилин, П. Г. Чесноков и А. В. Никольский. Однако ее студенты будут воспитываться не на знаменном роспеве и даже не на крестьянской песне, которая попадет в опалу в начале 30-х как «пережиток прошлого»156, а на массовом советском репертуаре. Вместе с Кастальским уйдет в прошлое «русский» период отечественной хоровой музыки; начнется триумф «советской» хоровой школы. Однако родиться хору, подобному Синодальному, суждено не будет. История доказала, что явление такого художественного масштаба могло возникнуть только как результат развития многовековой церковной и народной хоровой культуры.
Публикуемые ниже статьи и письма Кастальского являются лишь небольшой частью литературно-документального архива композитора, включающего в себя сотни единиц хранения. Для публикации отобраны материалы, непосредственно связанные с темой настоящего сборника. Это две автобиографические статьи – «О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке» (1913) и ее продолжение «Из воспоминаний о последних годах» (1917), доклад «Церковное пение и Московское Синодальное училище» (1917), а также избранные письма 1911 и 1917–1918 годов. Таким образом, документы обозначают основные вехи судьбы Кастальского, теснейшим образом связанной с Синодальным хором и училищем, а также знакомят читателей с его размышлениями о церковной и народной музыке, борьбой за осуществление своих идеалов. Если статьи и доклад содержат вынесенные на публичное обсуждение факты и мысли, то лишенные самоцензуры письма как бы изнутри освещают наиболее острые моменты истории Синодального училища и хора. Так, 1911 год связан с громким международным признанием его искусства, когда выехавшие на гастроли вслед за Художественным театром и антрепризой Дягилева «синодалы» заставили европейцев изумиться певческому чуду неведомой им России; письма 1917–1918 годов – уникальный документ, восстанавливающий правдивую картину гибели Синодального хора и училища церковного пения.
А. Д. Кастальский. О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке
Я родился в Москве 16 ноября 1856 года. Отец мой, известный в Москве протоиерей Д. И. Кастальский157, не замечая за мной особого влечения к музыке, поместил меня во Вторую московскую гимназию, где я учился с грехом пополам. Но моя мать, бойко игравшая на фортепиано, а в юности певшая и регентовавшая в институтском церковном хоре, вероятно, заметила во мне некоторое музыкальное дарование, так как пробовала учить меня на фортепиано и заставляла петь варламовские и гурилевские романсы и песни. Один из моих многочисленных дядей, большой любитель народных песен, просвещал и меня по этой части. Если прибавить посещение церковных служб с певчими (помню начало одного пасхального концерта, где басы начинали: «Днесь усяка плоть веселится...») да колокольный звон, – то этим, кажется, и исчерпывались мои музыкальные впечатления и художественное образование в период 8–18-ти лет. Помню, я что-то пилил на двухрублевой скрипке, дудел в какие-то дудки; любил играть на гребенке, натягивая на нее бумажку (под руководством вышеупомянутого дяди), а также неизменно таперствовал по слуху на семейных вечеринках. Пробовал и сочинять (что – хорошо не помню), причем необходимые теоретические сведения почерпал из какого-то старинного отцовского энциклопедического словаря. Но эти занятия были так, между прочим: я увлекался химией, чтением сельскохозяйственных книг, и, по окончании гимназии, собирался поступить в Петровскую сельскохозяйственную академию158.
Поворот на музыкальную дорогу произошел совершенно неожиданно: одному из консерваторских преподавателей, П. Т. Коневу, случилось как-то в гостях услыхать мою импровизацию на фортепиано (1874 год). Он стал склонять меня к поступлению в консерваторию, часто зазывал к себе, играл мне Бетховена, Шопена, Шумана, заставлял меня прелюдировать за фортепиано и.… я поверил в свои музыкальные способности.
Не скажу, чтобы я чересчур увлекся музыкой, поступив в Московскую консерваторию (1875 год)159. Мои дарования никем, кроме Конева, особенно замечены не были, да и сам я проходил курс не борзо, одолевая науку не без труда; не прочь был при случае и увильнуть от уроков (ходить в консерваторию приходилось пешком и далеко, иногда по два раза в день). Фортепианными упражнениями надоедал домашним. Помню, одно лето перенесли мою рояль в садовую беседку; погода стояла жаркая, и я упражнялся, наливая себе за ворот воды для прохлады.
Теорию музыки я проходил в консерватории под руководством П. И. Чайковского (1 год), Н. А. Губерта и С. И. Танеева. В ученическом оркестре играл на литаврах, причем однажды, за невнимательный счет пауз, мне порядочно «попало» от горячего Н. Г. Рубинштейна.
Мое музыкальное развитие заключалось, главным образом, в слушании симфонических концертов и репетиций к ним; помогал в оркестре, играя в группе ударных. Зарабатываемые уроками небольшие деньжонки я нередко тратил на покупку партитур исполняемых сочинений. Изучал «Руслана», симфонии Бородина, оркестровое «Садко» Римского- Корсакова, сборники песен Балакирева, Мельгунова. Думаю, что этим путем развил себя больше, чем консерваторскими задачами. К классикам особого тяготения не имел.
Припоминаю в этом же периоде хорошее исполнение хором Сахарова Литургии Чайковского, которая, при моем тогдашнем тяготении к бородинско-мусоргско-корсаковско-балакиревскому направлению, не произвела на меня особого впечатления160. Вообще, в церковной музыке был полным профаном, хотя и чувствовал эффекты хоровой звучности.
Несколько позднее я имел счастливый случай познакомиться с образцовым ведением хорового дела, посещая репетиции хора Большого театра под управлением У. О. Авранека. И здесь, на спевках духовных концертов, впервые познакомился с Турчаниновым, Есауловым, Львовым, концертами Бортнянского и прочим.
До поступления преподавателем в Синодальное училище давал уроки по фортепиано и теории, занимался с ученическими и любительскими хорами и оркестрами, причем приходилось и самому учиться играть почти на всех инструментах. Кое-что сочинял, делал различные аранжировки и проч. Жил два года в Козлове, организуя железнодорожный хор и оркестр, участвовал виолончелистом в любительском квартете161; даже предпринял «турне» с какими-то неведомыми певицами; где- то на афише даже был объявлен «пьянистом»...162
Помню, что ходил в гости к бывшему еще учеником консерватории виолончелисту Адамовскому и носил ему дуэты собственного изделия для виолончели с разными духовыми инструментами, выступая сам то в роли гобоиста, то валторниста, то фаготиста, упрощая свою партию за счет партии виолончели, – Адамовский был уже хороший игрок.
Припоминаю также некую веселую затею. Одно время у меня на руках было несколько различных инструментов. Как-то собрались приятели, братья... Я наскоро сымпровизировал несколько полек, маршей, роздал приятелям инструменты, научил каждого издавать на них одну- две ноты, на себя взял, конечно, мелодию и, наскоро прорепетировав два- три номера, предложил испробовать новоявленный оркестр сначала у себя на дворе, а затем пройтись и по соседям... Исполнение было, вероятно, неудовлетворительно, – нам нигде ничего не дали...
Увлекаясь Лермонтовым и его описаниями Кавказа, начал писать оперу «Мцыри» на либретто, собственноручно составленное из лермонтовских стихов, но, не окончив, бросил, неудовлетворенный своим либретто. Написал несколько хоров и романсов, впоследствии уничтоженных...163
Поступив в 1887 году в Синодальное училище преподавателем на фортепиано, я впервые познакомился с работой над специально церковным хором; им руководил знаменитый впоследствии В. С. Орлов, с которым мы были хорошо знакомы еще по консерваторской скамье и благодаря которому я и поступил в «Синодалку», как называли иногда училище164. Между прочим, мне предложили испробовать свои силы в гармонизации обиходных мелодий, но эти пробы были найдены неудовлетворительными, так как в этот период главенствовало мнение (кажется, С. И. Танеева), что наши церковные мелодии надо не гармонизовать, а контрапунктировать по образцу западных мастеров XV–XVI века. Я подобной техники, конечно, не имел, хотя и пробовал иногда применять разные контрапунктические хитрости к нашим церковным напевам.
В 1891 году меня пригласили в помощники по хору к В. С. Орлову. Церковным композитором и даже «родоначальником» целого направления сделался я совершенно неожиданно как для себя, так и для других; так же случайно, как попал в консерваторию, готовясь к сельскому хозяйству. Рассматривая и выбирая как-то (1896 год) с В. С. Орловым различные пьесы для репертуара Синодального хора, я попробовал сличить мелодию одного «Достойно» сербского напева с подлинными мелодиями его в сербском обиходе и заметил, что автор, видимо, не умел справиться ни с одной из них. Василий Сергеевич предложил мне гармонизовать одну из этих мелодий. Моя гармонизация, да и самый напев «Достойно» показались мне несколько затейливыми, – это побудило меня переложить «Милость мира», изложенную в сербском сборнике, значительно скромнее.
Хотя эти гармонизации мои и понравились всем и до сих пор в ходу в церковных хорах, я им не придавал ни малейшей художественной ценности165. Но успех с ними побудил меня поближе подойти к обиходным напевам. Следующей более ценной моей работой был опыт обработки для хора (не гармонизаций) нескольких знаменных попевок, соединенных мною в одно целое – «Милосердия двери». По поводу этого припоминаю, что С. В. Смоленский, бывший тогда директором Синодального училища, очень интересовался ходом этой работы и расспрашивал меня о попевках, взятых мною для этой пьесы166.
В печати (Компанейским, а за ним и другими) не раз и с апломбом высказывалось, будто Смоленский руководил моими работами. Не знаю, откуда почерпались эти сведения. «Руководительство» его состояло в том, что он, как и Василий Сергеевич Орлов, очень сочувственно относился к этой моей деятельности, всячески поощрял ее, крайне интересуясь моими работами. Помню, однажды он меня заставил, для руководства начинавшего тогда композиторствовать П. Г. Чеснокова, отметить красными чернилами в моей Херувимской песни Успенского собора течение обиходной мелодии, которая у меня проходила не в одном голосе, а передавалась из одного голоса в другой167. Раз как-то он сам собрался было брать у меня уроки по теории, но за малым досугом как у него, так и у меня дело дальше не пошло. Иногда он отыскивал для меня обиходные мелодии. Всегда энергичный, живой, Степан Васильевич в качестве директора умел «поддавать жару»; этим он был особенно ценен и симпатичен. Но, в смысле распространения моих сочинений, он был осторожен, высказывая не раз, что мои сочинения настолько новы и необычны, что часто исполнять их в Успенском соборе он не решился бы.
О восторженно чутком отношении к моим работам В. С. Орлова я уже упоминал и должен отметить еще исключительно участливое отношение к моим начинаниям тогдашнего прокурора Московской синодальной конторы князя А. А. Ширинского-Шихматова: разделяя восторги других близких к делу лиц, он с первых шагов моих настаивал на печатании моих сочинений, на что выхлопатывал несколько раз казенное денежное пособие168. До этого времени мне как-то и в голову не приходило, что мои сочинения можно печатать...
Отзывы музыкантов и критики были в большинстве в высшей степени благоприятные и даже лестные. Мнения же публики, конечно, не могли быть дружно согласными, – были и протестующие голоса, да и теперь они еще не смолкли: смущала, конечно, необычность приемов гармонизации, необычность хоровой звучности. Примиряла, может быть, обиходность мелодий... Зато отзывы как священнослужителей московского Успенского собора, так и многих служивших в соборе иерархов были по большей части почти восторженные. В общем, жаловаться на непонимание слушателей я не имел основания. Судьба мне улыбалась с самых первых моих шагов на этом поприще.
Первым по времени (1897 год) ценным своим сочинением я считаю знаменную Херувимскую, в чем схожусь во мнении и с критиками, отметившими в ней применение впервые новых приемов гармонизации и новых хоровых звучностей, зависящих от различных комбинаций голосов169.
Из серии рождественских песнопений лучшим считаю «Дева днесь» для большого хора. Особенно был доволен «звездою», сопутствовавшей волхвам...170 Знаменные ектении (№ 5 по печатному каталогу) мне не задались, и я впоследствии переделал их заново (№ 65)171.
Из обеих знаменных «Милость мира» (№№ 6 и 10), для меня самого равноценных, большим успехом пользуется «Тебе поем» из второго мажорного варианта А dur172. «Другую такую не скоро напишете», – уверял один «знаток». С «Благообразным Иосифом» и прочими тропарями Великой Субботы случился некий казус: Компанейский, в своих восхвалениях хвативши непозволительно через край сравнением этого песнопения с творениями Баха (!), тут же признавал его непригодность для богослужения (?)173. Из московских богомольцев тоже нашлись люди такого же образа мыслей. Слышал стороной, что кто-то собирался даже «бить по шее» ... Хотя за время регентования В. С. Орлова и моего это песнопение несколько раз исполнялось за богослужением, но в последние годы оно поется реже. Я не раз собирался упростить это переложение, сообщить ему больше способности вызывать настроения скорбные, удрученные, да так до сих пор и не собрался.
Справедливые упреки регентов, что я пишу все для первоклассного Синодального хора, забывая о нуждах многочисленных небольших хоров, заставили меня обратить внимание на эту нужду. Я издал ряд упрощенных переложений некоторых излюбленных монастырских напевов (старо-симоновский, ипатьевский и другие)174 и с тех пор многие свои сочинения и переложения издаю с дубликатами, помещая рядом с оригиналом и его упрощенное переложение для смешанного и что удобно, и для однородного хора.
Из серии упрощенных переложений особенные симпатии снискала Старо-симоновская херувимская песнь для мужского хора с альтом наверху; она, впрочем, звучит лучше с сопрано наверху, причем альт поет в унисон с первым тенором. По поводу этого переложения мне неоднократно приходилось выслушивать лестные отзывы иереев за особенно молитвенное настроение, вызываемое в них этой пьесой при совершении ими богослужения. Такого рода отзывы особенно ценны, и было бы весьма желательно, чтобы творцы церковной музыки почаще представляли себе те настроения, которые они должны вызывать своей музыкой в душе лиц, совершающих богослужение. Не в этом ли корень церковности музыки: религиозный подъем в душе священнослужителя невольно передается и богомольцам. Конечно, вопрос о церковности музыки спорный: одни видят ее у Бортнянского, Турчанинова, другие у Архангельского, третьи у Кастальского и так далее. Бесспорно, к сожалению, то, что у многих авторов церковность отождествляется с шаблонностью; а еще хуже то, что шаблонность письма, исключая вдумчивое отношение к своей задаче, приводит попросту к «валянию» наспех. Печальные результаты такого «валяния» испытывают на себе небольшие хоры, вынужденные выбирать для своего репертуара что попроще, подоступней. А пьеса «попроще» в церковной музыке стала равносильна музыкально-бессодержательной... Многие на этом жанре даже специализировались, бесцеремонно перепевая Турчанинова, Архангельского и др. Но и вдумчивого отношения к содержанию тех или других моментов богослужения, даже при старании переживать их в душе, еще мало: ярко выразить эти моменты, выявить свои переживания сумеют только большие художники и большие таланты, как Чайковский в начале своего «Свете тихий», в Херувимской до «Яко да Царя», как Рахманинов в «Тебе поем» и «Да исполнятся уста», как Римский-Корсаков в «Се Жених» и «Чертог» и другие.
Но большие таланты берутся за церковную музыку только мимоходом, и бросаются в эту область у нас все, кому не лень, благо покойный П. И. Юргенсон, а за ним и его преемники, зная великую нужду церковных хоров, собирали и продолжают собирать без разбора все, что им предлагают «творцы», надеясь таким образом обогатить церковно-певческую литературу если не качественно, то хоть количественно. Литература стала истинно велика и обильна, но... порядка в ней нет. Вы найдете и «Свете тихий» с громогласным началом, и знаменные догматики с гармонизацией доброго немца, и развязное употребление песенных оборотов, и много другого; и простых, доступных скромным хорам пьес масса. Но если регент возымеет дерзновенную мысль выбрать себе репертуар песнопений, отвечающих моментам богослужения, да вспомнит, что он не итальянец, не немец, да постыдится замазывать уши богомольцев музыкальной патокой, в которой вязнут тексты молитв, и посовестится забивать их музыкальным вздором, – то ему придется плохо: мало найдет он себе подходящего в огромных ворохах печатной и писаной нотной бумаги.
А стиль?.. Наши самобытные церковные напевы в хоровом изложении только обезличены; послушайте, как они стильны в унисонах старообрядцев и как они бледнеют в учебно-шаблонном четырехголосии наших классиков, которыми мы хвастаемся чуть не сто лет: умилительно, но... фальшиво.
В смысле выдержки стиля и вообще удачной обработки обиходного напева, из числа моих переложений, кроме упомянутой знаменной Херувимской № 3, считаю еще Херувимскую напева Успенского собора № 19, «Достойно» роспева царя Феодора175, «Блажен муж» напева Успенского собора, «Отче наш»176, воззвахи и догматики. Над этими последними мне пришлось немало потрудиться; на вопрос В. С. Орлова о ходе моей работы, помню, я высказал ему, что, мне кажется, знаменные напевы ужасно не любят, когда их начинают обрабатывать, и всячески изворачиваются, не даются в руки, капризничают, как дети, которых собираются мыть, – только что вслух не кричат177. Припоминаю спор с соборянами Успенского собора, которые не узнали своей Херувимской в моей обработке и утверждали, что напев не тот. Пришлось с нотами в руках доказывать, проводя пальцем по тем партиям, где вьется обиходный напев, так как в моей обработке он переходит из одного голоса в другой; да и текст у меня имеет повторения фраз, чего в оригинале, конечно, нет.
Эта Херувимская, как и одновременно появившееся и много нашумевшее «Сам Един» (1898), приводили, помню, в большой восторг молодого тогда С. В. Рахманинова178, В. И. Сафонова и других консерваторских тузов. К этому же времени относится появление лучшей, по-моему, пьесы А. Т. Гречанинова «Волною морскою», а также появление на композиторском горизонте молодого таланта П. Г. Чеснокова, С. В. Панченко с его экстравагантным «Тебе поем» и популярным «Во царствии Твоем». В печати стали плести венки из наших имен.
Проведя как-то летом несколько недель на Кавказе и увлекшись грандиозностью и необычайностью местной природы, я попутно увлекся и кавказскими напевами и попытался написать на них ряд музыкальных картинок «По Грузии» для фортепиано (изданы у П. Юргенсона).
Начало XX века для меня совпало с началом работ над песнопениями из всенощного бдения. Больше всего времени ушло, конечно, на догматики и, особенно, воззвахи; последние я переделал впоследствии, недовольный первой редакцией. Несмотря на то, что в последней редакции я, кроме типичности и бесхитростности гармоний, преследовал и чисто практические цели (возможность исполнения этих переложений при всяком составе хора, до двух человек включительно), – это мое детище распространения не получило. Может быть, причиной этому является то обстоятельство, что для изучения этих переложений надо предварительно много поработать над отучением хора от обычной шаблонной гармонизации.
По поводу этой работы меня упрекали некоторые регенты, что я трачу время на «нестоящее дело», с чем я, однако, совершенно не согласен, ибо считаю гласовые наши напевы (конечно, по возможности выправленные) наиболее характерными в нашей церковной музыке; а что на практике они завязли в безнадежнейшем шаблоне, – это, хотя и крайне прискорбный, но несомненный факт. Именно этим отделом нашей церковной музыки мы могли бы хвастать, если бы дали ему такую же характерную хоровую обстановку, как характерны и сами напевы. Но кому удастся это сделать?.. По-моему, прежде всего надо отрешиться от сплошного четырехголосия, от шаблона, ибо оригинальная музыкальная мысль должна быть выражена неординарно... Дополнением к моим работам над гласовыми мелодиями можно считать «Руководство к выразительному пению стихир при помощи различных гармонизаций»179. Здесь я хотел показать, как при помощи простейших музыкальных средств можно согласовать настроение текста с его музыкальным сопровождением. Применяются ли где эти мои образцы на практике, – не знаю. С этого же времени я взял привычку – думаю, похвальную – писать более употребительные песнопения сразу по два и по три номера; из них номер или два я старался изложить доступно для хоров с небольшими сравнительно силами. Так появилось по три номера «Свете тихий», «Ныне отпущаеши», «Хвалите имя Господне», «Единородный», «Верую» и по два номера «Благослови, душе моя», «Блажен муж» и «Великое славословие».
Из этой серии я сам больше ценю «Свете тихий», «Ныне отпущаеши» с басовым соло, «Славословие», «Верую» с басовым речитативом и демественное «Единородный Сыне». В эти же годы (1901–1903) написаны мною несколько светских хоров: «Былинка», пользовавшаяся значительным успехом, «Слава» и три хора «Песни к родине»: два на прозу Гоголя из «Мертвых душ» и один – «Под большим шатром» – на слова Никитина; последние три хора написаны для большого хора и в облегченном переложении.
Из богослужебных песнопений написаны: рождественские и Воздвиженские ирмосы, несколько тропарей, задостойник в неделю Ваий и другое. Более удачными считаю «Снедию древа» из Воздвиженских ирмосов, стихиру «Богоначальным мановением» из службы Успению и тропари оттуда же180.
Особенно интересно в исполнении В. С. Орлова звучал успенский тропарь, изложенный без басов, также «Снедию древа», задостойник Ваий... Впрочем, в исполнении В. С. Орлова все звучало не только интересно, но часто и удивительно! Он обладал замечательным музыкальным чутьем и отзывчивостью на все выдающееся в церковно-музыкальной литературе, и не только нашей, но и западной. С какой беззаветной преданностью любимому делу он изучал с хором творения Палестрины, Орландо Лассо, Жоскена, Реквиемы Моцарта и Шумана, Мессу h moll Баха, которую мы с ним учили два сезона, Мессу С dur Бетховена и другое. И все это только во имя усовершенствования хора, чтобы развить его, поднять на высоту. Чтобы самому подвинуться и с большим проникновением овладеть пониманием исполняемых контрапунктистов, он, уже будучи свободным художником, вторично делается на несколько лет учеником С. И. Танеева. По части занятий с хором я был у него помощником за все почти время директорства Смоленского. В. С. Орлов не оставлял работы с хором почти до своей смерти. Оглядываясь на нашу дружную работу, не могу вспоминать о нем без чувства искренней благодарности181. Почти все, написанное мною для хора, исполнялось В. С. Орловым с тщательностью, не оставлявшей желать большего. Затеяли как-то мы с ним ввести в службы пение «на подобен». Кастальский садится писать стихиры, иногда, для скорости, литографскими чернилами; на ближайшей спевке стихиры проходятся с хором и на службе уже поются в соборе обоими клиросами, не сходясь. В товарищеском кругу острили, что мои работы попадают в Синодальный хор еще «на корню». И это была правда. Пение стихир «на подобен», так же, как и введение в службы Успенского собора праздничных знаменных ирмосов унисоном, придавало этим службам особый колорит и пользовалось большим успехом даже у богомольцев-старообрядцев.
В этот период общей горячей работы мною написано еще Венчание на обиходные темы: два встречных песнопения жениху и невесте и заключительное. Предложил мне их написать, если не ошибаюсь, С. В. Смоленский; первый раз они были исполнены во время венчания дочери графа С. Д. Шереметева. Эти песнопения, сравнительно с ходовыми на сей случай громогласными концертами, явились большою новостью, но по причине значительной трудности для средних хоров большого распространения не получили. С. В. Смоленский уговаривал меня написать еще другое Венчание попроще, но его предложение еще не осуществилось.
С уходом из Синодального училища С. В. Смоленского, неутомимого труженика по части церковно-музыкальной археологии, его роль иногда приходилось мне брать на себя; например, найти материалы и обработать их для исполнения в исторических концертах, затеянных приблизительно в сезон 1902–1903 годов. Труд этот был для меня поистине каторжным: пришлось предварительно составить для себя две таблицы для чтения крюков – знаменных и демественных, пришлось на месяц превратиться в «смелого исследователя»; затея была начать с образцов XV века. Надо было снабдить примеры краткими примечаниями, в чем помогал мне заведовавший тогда нашей рукописной библиотекой А. В. Преображенский; надо было дать яркие, характерные, но короткие примеры, чтобы не утомить публику чрезмерным изобилием этих демонстраций и в то же время сохранить их музыкальный интерес при преднамеренной примитивности хорового изложения...
Хотя эта часть программы концерта нашего приобрела особый интерес в глазах музыкантов, и старообрядцев, и любителей старины, а С. В. Смоленского приводила прямо в пафос, но я дал зарок не повторять подобных затей, связанных всегда с кропотливым копаньем в массе материалов182.
Но жилка реставратора, вероятно, была у меня врожденною, так как вслед за этой работой я взялся за другую, ей подобную, но из более отдаленных эпох и стран, и окунулся гораздо глубже: захотел, наперекор историкам, доказать существование на белом свете неунисонной музыки с древнейших времен и издревле ее стремление к выразительности, живописности и т. д. Собрал много примеров, много исторических свидетельств, озаглавив свой труд «Из минувших веков». Но так как мои положения в этом исследовании в глазах заправских историков могли показаться слишком смелыми, то я решил издать только часть: «Китай», «Индия», «Египет», «Эллада», «Иудея», «На родине ислама» и «Первые христиане». Эта работа вышла в издании Юргенсона в трех тетрадях (1904–1906 годы). Она заинтересовала историков, кой-кого за границей; некоторые картины исполнялись публично, под мелодии из «Эллады» танцевали греческие танцы в классах пластики. Пианист Прокин начинал свои исторические концерты (в польских городах) моими «Минувшими веками» и даже заинтересовал ими слушателей... Убеждение в музыкально-реставраторских моих способностях, по-видимому, установилось в общественном мнении; в печати меня окрестили «музыкальным стилистом».
К этому же роду работ надо отнести и мое «Пещное действо», которое было заказано мне А. И. Успенским, директором Московского археологического института. Это действо несколько раз было исполнено в должной обстановке, с костюмами отроков и халдеев, с демонстрацией горящей пещи; обрядовой частью руководил преосвященный епископ Трифон. Исполнения эти пользовались очень большим успехом183.
Около этого же времени по предложению Б. П. Юргенсона я редактировал для его издания сочинения Турчанинова184.
Вероятно, в противовес этим музыкально-археологическим изысканиям и редакторским занятиям в период 1905–1907 годов среди других работ я написал оперу «Клара Милич», с постановкой которой мне, однако, не повезло; она напечатана и поставлена... только на полках, несмотря на благосклонные отзывы московских критиков (Н. Д. Кашкин, Ю. С. Сахновский). В «Русской музыкальной газете» был помещен ее разбор, не особенно благоприятный, где критик порой, наметившись в меня, попадает в Тургенева. Отрывки из «Клары» были два раза исполнены на «музыкальных выставках» М. А. Дейши-Сионицкой.
В 1906 году управляющим Синодальным училищем и хором назначен был Ф. П. Степанов, при полном содействии которого предпринято было расширение музыкально-теоретических и регентских предметов в училище, а хор стал приобретать европейскую известность.
В 1908 году я получил довольно оригинальный заказ от одного из своих почитателей – Н. А. Федорова – написать такую книжку по церковному пению, которую всяк понимал бы, причем содержание ее предоставлялось на полное мое благоусмотрение. В роли побудителя к этой работе явилась порядочная сумма денег, которую заказчик настойчиво вносил авансом, по частям, порою мелкими деньгами. Ввиду такой неотступности я написал для него «Самоучитель церковного пения», где в роли пособия фигурируют балалайка и гармоника с указанием и звукопроизводства на них. Не знаю, расходится ли мой самоучитель по градам и весям, для которых он, собственно, и предназначался, но один из моих компетентных приятелей, X. Н. Гроздов, писал мне, что мой самоучитель «и идиот поймет».
Годы 1907–1910, годы смерти В. С. Орлова, Н. А. Римского-Корсакова, С. В. Смоленского и С. Н. Кругликова, пробывшего директором Синодального училища немного более двух лет. За этот период я, между прочим, занимался исследованием русской народной песни, стараясь выяснить себе ее особенности, но эта работа, вследствие постоянных отвлечений внимания в другие стороны, затянулась у меня до неопределенных времен. Отвлечения были и обязательные, служебные – по хору и училищу, – были и случайные, в виде разного рода срочных писаний то к какому-нибудь юбилею, то для «духовных песнопений» в пользу Елизаветинского общества, в которых Л. В. Собинов два раза исполнял написанные мною для него с сопровождением хора «Чертог» и «Свете тихий».
К памятным и юбилейным дням написаны были мною: «Чтение дьяком люду московскому послания патриарха Ермогена тушинским изменникам», «Кантата в память 1812 года», «300 лет» (царствования дома Романовых), приветственный хор государю императору ко дню посещения его величеством Московского дворянского института имени Александра III; писал тропари по заказу ярославского любителя церковной старины и церковной музыки И. А. Вахромеева и прочее185.
С назначением меня на должность директора Синодального хора и училища (в 1910 году) заведование хором перешло в руки Н. М. Данилина, способного регента, умеющего часто добывать отличный хоровой звук. Данилин – бывший ученик Синодального училища186. Около этого же времени появилась Литургия славного во всех областях музыки, любимца муз и публики С. В. Рахманинова; первые исполнения ее были предоставлены Синодальному хору и прошли с выдающимся успехом187. Появилась выдающаяся по смелости изложения Всенощная В. И. Ребикова188. Мне тоже пришлось начать «сидение»: над новыми программами Синодального училища, имеющими поставить его в разряд высшего церковно-музыкального училища; над составлением руководства по методике церковно-школьного пения в связи с общими задачами музыкального образования, а также над редактированием и корректурой Обихода Синодального хора, каковое сидение еще и поныне не закончено189.
Синодальный хор в последние годы стал совершать ежегодные концертные поездки, из которых особенное значение имела поездка 1911 года с концертами, сопровождавшимися блестящим успехом в Риме, Флоренции, Вене и Дрездене190, а также поездка 1910 года в Петроград191. Здесь скажу несколько слов по поводу отношений между петроградскими церковно-музыкальными деятелями и московскими «синодалами»: в церковно-певческом мирке держится мнение не только о некотором антагонизме между теми и другими, но и о различии их музыкальных принципов как относительно самой манеры пения, так и в вопросе композиторства192. Я, со своей стороны, полагаю, что различие это зависит, главным образом, от характерных особенностей придворного и синодального обиходов, а также, может быть, от более сдержанного исполнения простого пения петроградскими хорами. Направления же композиторствующей братии настолько разнохарактерны и там, и тут, что говорить о «лагерях», по-моему, совсем не приходится. Большинство обуял европеизм, так как он доступней, а самобытность иногда проявляется в корявости музыкального письма... Причины, по-моему, и тут и там – в односторонности музыкального образования.
Осенью 1913 года столь же исключительным успехом сопровождалось выступление Синодального хора на лейпцигских торжествах и в берлинском концерте. По поводу последнего берлинская пресса единодушно признала выдающееся дирижерское дарование управлявшего хором Н. С. Голованова, бывшего ученика Синодального училища, а ныне старшего помощника регента Синодального хора.
К 25-летнему юбилею музыкальной деятельности Синодального училища (в 1911 году)193 мною была написана кантата «Стих о церковном русском пении» для хора с сопровождением ученического оркестра, имевшая довольно шумный успех. Написана она на обиходные темы, издана у Юргенсона; текст написан в сообществе с женой.
В 1912 году я был приглашен в Московское Филармоническое училище вести класс контрапункта и фуги. На подготовку к этому занятию пришлось немало потратить времени. Осенью 1913 года весьма порадовали меня два уведомления о концертах из моих сочинений: из Киева от М. А. Надеждинского (между прочим «Пещное действо» целиком) и из Петербурга от А. Н. Николова (между прочим «Стих о церковном русском пении»).
В настоящее время закончил большую работу, начатую еще в прошлом году: «Торжище в древней Руси» и «Картины русских народных празднований в обрядах и песнях»: 1 – «Славление и заклинание весны», 2 – «Радоница», 3 – «Юрьев день», 4 – «Семик и русалии», 5 – «Ярилин день», 6 – «Купальская ночь», 7 – «Осенние празднования и обряды», 8 – «Святки и Новый год», 9 – «Масленица». Грядущей судьбы этой работы предвидеть не могу194. О грядущем нашего церковного песнотворчества также могу только погадать, зато чувствую, какова должна быть истинная задача его. По моему убеждению – задачей этой должна быть идеализация подлинных церковных напевов, претворение их в нечто музыкально-возвышенное, сильное своей выразительностью и близкое русскому сердцу типичною национальностью. Быть может, церковная музыка наша выразится в необычных для современного слуха последованиях простых гармоний, с отрешением от сплошной квартетности; могут быть и унисоны и соло, – но не такие, какими восхищаются любители. Вдохновенные импровизации древних псалмов – вот идеал церковного соло. Хотелось бы иметь такую музыку, которую нигде, кроме храма, нельзя услыхать, которая так же отличалась бы от светской музыки, как богослужебные одежды от светских костюмов.
Если же в ней еще сильнее выразится замечаемое в последнее время уклонение в сторону сложности, пренебрежения к степени трудности исполнения ради эффекта звучания, в сторону неразборчивости в выборе гармонических и мелодических средств, лишь бы было ново да красиво, то все это приведет к тому, что церковная музыка станет такая же, как и всякая другая, только с подписанным богослужебным текстом. Это было бы крайне прискорбно... Ведь у нас неисчерпаемый кладезь самобытных церковных мелодий; к ним нельзя применять обычных казенных формул и любых гармонических последований. Не мешало бы также забыть об «умилительности» слащавого минора, который во время оно считался необходимым даже и для «Хвалите имя Господне», выражая якобы сокрушение богомольцев о грехах, а на самом деле наводя уныние. В самих церковных напевах наших заложен национальный элемент, но народные песенные обороты следует применять к ним с крайней осмотрительностью, так как храм есть храм, а не концертный зал и не улица. Национальный колорит русской светской музыки рожден из песни, так и церковная музыка должна создаваться и развиваться на наших обиходных напевах. Изысканные сладости и пряные гармонии современной музыки тоже не пригодны для храма, хотя бахметевские нонаккорды и турчаниновские увеличенные секстаккорды приводят любителей в восторг и умиление. Строгий стиль музыки поможет делу мало, – нужно строгое отношение композитора к себе и к своей задаче; между тем, к писанию церковной музыки приступают так же легко, как и к сочинению разных пустяков для фортепиано или романсов...
Творить хорошую церковную музыку могут только таланты и то – при наличности способности проникаться духом богослужебных текстов и особым колоритом самих церковных служб. Будем ждать... Хотелось бы в заключение посоветовать, чтобы маленькие музыканты не брались за это дело, да все равно – не послушают!..
В постскриптуме несколько слов регентам.
Вполне понимая трудность выбора для клироса выразительных по музыке песнопений, так как их мало, хотелось бы обратить внимание регентов хотя бы на выбор пьес для концертных программ, повсюду представляющих собою настоящий винегрет: Бортнянский – Кастальский, Турчанинов – Гречанинов, Львов – Чесноков... А между тем, при толково составленной программе, духовный концерт мог бы иметь интерес просветительный, а не служить только целям удовольствия и развлечения.
Кроме исторических концертов, которые следовало бы начинать с обиходного унисона как образчика нашего первоначального пения, значительный интерес могут представлять концерты этнографические, по народностям: из напевов болгарских, сербских, греческих, грузинских, галицийских и других.
Поучителен может быть концерт из произведений разных авторов на один и тот же текст или из различных гармонизаций одного напева, пропетого сначала унисоном всего хора.
Могут быть содержательны по настроению концерты, посвящаемые какому-либо одному празднику: пасхальные, рождественские (с отделением из духовных стихов) или песнопениям Страстной Седмицы.
Интересны программы, выясняющие разные направления: сентиментальное (Ведель, Виктор), строгое (Потулов), итальянский стиль (Сарти, Бортнянский), драматизм в церковной музыке («Виждь твоя пребеззаконныя дела» Львова). Примеры следует выбирать наиболее яркие и снабжать программы краткими объяснениями исполняемого.
Поучительны также концерты, где чередовались бы пьесы положительного, желательного направления и направления отрицательного (к вопросу о церковности и нецерковности музыки). Содержательна была бы программа концерта с одним отделением из песнопений общеевропейского западного склада и с другим – из песнопений национального склада. Концерты, посвященные одному автору, если его талант достаточно ярок, также оставят целостное впечатление, как и сопоставление в двух отделениях двух авторов резко различающихся направлений.
Я думаю, что такого рода концерты гораздо более способствовали бы даже и разъяснению многих спорных вопросов нашего церковного пения, нежели сборные концерты обычного типа.
Исторические концерты начинают, кажется, у нас прививаться; следует только не останавливаться на одном этом типе, а продолжать работу и далее. Результаты не замедлят проявиться. Теперь уже я высказал, кажется, все.
Комментарии
Автобиографическая статья А. Д. Кастальского была написана в декабре 1913 года и два года спустя опубликована в новом петроградском журнале «Музыкальный современник», в число редакторов которого входили друзья и ценители творчества Кастальского П. П. Сувчинский и Б. В. Асафьев. Не исключено, что именно по их настоянию композитор выступил в новом для себя амплуа мемуариста. «Меня, между прочим, заставили на днях писать для одного петербургского журнала свою автобиографию», – писал Кастальский В. И. Ребикову 12 декабря 1913 года (ГЦММК, ф. 68, № 281, л. 2 об.).
В настоящем сборнике статья воспроизводится без сокращений по тексту ее первого издания: Кастальский А. Д. О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковной музыке // Музыкальный современник, 1915, № 2, с. 31–45. Датированный 4 декабря 1913 года фрагмент авторской рукописи хранится в ГЦММК (Ф. 12, №439).
Из воспоминаний о последних годах
Воспоминания мои, помещенные в «Музыкальном современнике» и прерванные на 1913 году, остановились на том периоде жизни, когда человеку, кой-что сделавшему на своем веку, свойственно заглядывать вперед уже с некоторой тревогой, беспокойством, – успеешь ли доделать начатое, найдешь ли для того достаточно времени, свободного от дел «по должности»? Такие вопросы являются тем естественнее, чем больше чувствуешь над собой, с одной стороны, бремя лет, с другой – утомление повседневной служебной суетой, часто совершенно не оставляющей времени на дела «свободного художества». Иногда кажется, что к старости служебных дел накапливается даже как будто больше сравнительно с прежним. И нужда чувствуется ведь не в отдыхе, а в том, чтобы людям, признанным полезными работниками в области не только служебной, давали бы возможность продолжать свою работу и в этой, – не служебной, – области, а не метаться из стороны в сторону, как задерганная лошадь... Но досадой делу не поможешь. Беда в том, что и область-то нашу признают полезной немногие...
Из написанных мною в 1913 году нескольких духовных песнопений критика отметила несколько номеров; я с ней не совсем согласен и считаю более интересными только грузинское «Тебе поем» и «Разбойника благоразумного», но и последнее при исполнении его Синодальным хором счел нужным все-таки несколько изменить, прибавив и «Славу и ныне»195.
Оконченные в том же году и приготовленные уже к печати «Картины русских народных празднований» вследствие непредвиденных обстоятельств оказались залежавшимися «в портфеле автора» даже и до днесь... Причиной этой залежалости оказалось отчасти мнение С. В. Рахманинова, который, познакомившись с этой моей работой, стал настоятельно советовать расширить эти картины до возможности их постановки на сцене196; отчасти в том же духе стал меня побуждать и С. И. Зимин. А тут еще и подошла война, которая направила мои музыкальные мысли совсем в другую сторону. Словом, работа над «Празднованиями» ждет очереди.
Дружеские отношения мои к С. В. Рахманинову установились со времени сочинения им Литургии, которую он присылал мне по частям для просмотра и по поводу которой, помню, у нас с ним велась оживленная письменная полемика197. Чуткость его к церковному стилю музыки меня очень радовала, а сборник обиходных напевов, который я вручил С. В. Рахманинову, когда он заявил о намерении писать Всенощную, оказался весьма кстати, ибо дал ему в его артистические руки тот материал, работая над которым он вступил на верный путь и достиг во многих случаях отличных результатов198.
В 1914 году до начала войны я между прочим успешно занимался систематизированием обширного материала, прошедшего через мои руки, по части русской народной музыки. Интереснее всего оказался материал гармонический. Собирался он в продолжение лет двадцати199. Началом и основанием его были варианты сборников Мельгунова и Пальчикова, затем фонографические записи Е. Э. Линевой, А. М. Листопадова и других, к сожалению, изданные в очень небольшой части сравнительно с собранным и записанным материалом. На основании этого материала, мне думается, можно будет уже безошибочно установить твердые основы гармонического народно-русского склада, проведя эти основы прямо параллельно параграфам, общепринятым в учебниках гармонии: начиная с соединения трезвучий, их обращений, всяких септаккордов, нонаккордов и кончая модуляциями и необычными последованиями. Но придется отрешиться от сплошного учебного четырехголосия. Расширенный отдел кадансов, своеобразное употребление проходящих и вспомогательных звуков, предъемов, но малоразвитый отдел задержаний, сливающихся, по-видимому, с синкопами. Однако для завершения этой работы еще потребуется немало свободного от «ближайших служебных обязанностей» времени, на что пока надежды мало... И так уже кое-кто выражал мне удивление, как это я ухитряюсь работать одновременно на разные фронты: и в области свободного художества, и в области служебной суеты? Нужда учит многому...
Но вот разразилась небывалая война... Кого она не захватила? Хотя я и отбывал во время оно военную повинность артиллеристом, но ведь это было еще во время консерваторских занятий; прошли давно все сроки годности к службе...200 Пришлось отзываться на события, делать нечего, только «профессионально»: одновременно начал работать и над музыкальной «баталией» на темы гимнов для оркестра, и над «Братским поминовением героев, павших в Великую войну» на похоронные напевы участвующих в союзе народов. Большую половину наоркестровал и из третьей работы – нечто вроде шествия тоже на темы гимнов201. Но теперь, с революцией – русский гимн (Львова), все время фигурировавший у меня совместно с другими и в комбинациях с ними, – сразу остался, так сказать, «не у дел». Хотя фактически война все-таки началась и шла 2 1/2 года с «бывшим» гимном, но будут ли его слушать только в роли былого? Словом, две большие мои работы последних лет оказались «висящими в воздухе». Но зато «Братское поминовение», благодаря интересу, проявленному к этому моему детищу А. И. Зилоти, – увидело свет и было исполнено в Петрограде 7-го января настоящего года в его концерте в Мариинском театре202.
Критики разделились на два лагеря: одни отнеслись к пьесе проще, непосредственнее, другие находили, что такая задача была бы по плечу разве покойному С. И. Танееву, а вернее только Моцарт, Бетховен, Бах могли создавать непревзойденные творения в этой области; Иванов из «Нового времени», впрочем, помянул еще графа А. Шереметева...203
Хотя я, работая над этой пьесой, конечно, не думал ни о какой «непревзойденности», но отчасти предугадывал толки упомянутых критиков и еще задолго до исполнения писал в виде шутки одному приятелю204:
Кончаю реквием, – сдается, –
Моцартов прах перевернется,
А критик злобою зальется,
Когда мой звук его коснется:
Коль в реквиеме нету фуги
(Плод композиторской натуги),
То знатока трясут испуги...
Каноны, имитации – серьеза аттестации, –
Но у меня, увы, их мало...
И право на патент пропало!..
Впрочем, первоначально я имел в виду изложить «Поминовение» по возможности полнозвучно для хора а сарреllа, в каковом виде и были исполнены из него в 1916 году три отрывка в концерте Синодального хора в Москве205. Меня особенно тронуло то обстоятельство, что при пении вечной памяти героям публика единодушно встала с своих мест и дослушала эту песнь стоя, что произошло, впрочем, и в Петрограде. Теперь и второе издание а сарреllа с русским богослужебным текстом, предназначенное для наших церковных хоров, уже издано у Юргенсона, равно как и первое издание с аккомпанементом. Во втором, вместо пропущенных номеров первого издания, прибавлено новое песнопение «Молитву пролию». Наши регенты, по-видимому, заинтересовались этим изданием206.
Вообще прошлый год и начало настоящего оказались для меня благоприятными, несмотря на тяжелое военное время. Я уже упомянул о концерте Синодального хора из моих сочинений; он имел в «прессе» шумный успех (скрябинист Сабанеев, впрочем, язвил)207. Дирекция С. И. Зимина собралась наконец поставить и мою единственную оперу «Клара Милич» (на тургеневский сюжет). <...>
В области служебной за этот период пришлось заняться разработкой программ двух специальных предметов курса старших классов Синодального училища: 1) церковно-музыкальных форм и 2) церковного стиля.
Музыкальные формы нашего церковного обихода настолько в общем самобытны, сравнительно с общеизвестными формами, изучаемыми в теоретических классах консерваторий, что я нашел лучшим выделить эти формы в самостоятельный отдел. Выдержка одного гласа в течение целой недели, по-моему, есть результат инстинктивного чувства формы с определенными музыкальными мотивами и фразами. Программа получилась такая208:
– Простейшая строфная форма в обычных гласовых напевах (киевском, греческом, малом знаменном); строфы из 2–5 музыкальных фраз; главные, второстепенные, начальные, заключительные фразы; запевы, припевы; канонаршенье, расширяющее первоначальную форму.
– Более сложное и разнообразное строение в подобнах.
– Формы песнопений не гласовых из всенощной и литургии.
– Большой знаменный роспев и формы его сложного ритма (стихиры, ирмосы, антифоны, богородичны, догматики).
– Рифмование строк, расширения, добавления.
– Письменный анализ строения знаменного роспева, составление схем.
– Церковные речитативы, псалмодическое чтение, ектении, «Во блаженном успении», многолетствование, диаконские запевания на всенощной и проч.
– Сольные голоса, их уместность, музыкальное содержание и характер пения.
– Антифонные (двухорные) формы.
В остальном программа приближается к общеизвестному типу, поэтому я ее дальше не привожу.
Специальный предмет – церковный стиль – должен, по-моему, восполнить важный пробел в образовании церковно-музыкального художника. В увлечении дать юношеству равное консерваторскому музыкальное образование мы совсем упустили из виду, что технически и формально подготовленный нами художник не имеет, однако, твердых взглядов на самую сущность церковного пения. Зная, что следует петь по уставу и что можно петь, чтобы не ударить лицом в грязь, зная новый репертуар, он все-таки, в конце концов, только клиросный дирижер, могущий с легким сердцем исполнять все, что найдет красивым, эффектным. Кто не привык к музыкальному месиву в концертных программах? На клиросе винегрет увеличивается прибавлением еще коренного гласового пения. А между тем уже самое определение церковного стиля и его особенностей в нашей церкви, отмежевание его от стиля концертного, выяснение его отрешенности от забавы, с которой у нас обычно связывается выявление других родов искусства, – даст молодому художнику прочное основание его деятельности. Здесь перед ним пройдут в особом освещении символика и картины богослужебных обрядов, и горение светильников, и курение фимиама, и колокольный звон, и самое устройство храмов и проч. Поднимутся вопросы о церковно-музыкальных настроениях, о соответствии и несоответствии храму обычного певческого репертуара; поднимутся вопросы о национальности в нашем церковном искусстве, об очищении его от посторонних веяний; наконец, о границах художественной свободы в выборе песнопений для храма, вне зависимости от вкуса богомольцев... Нужда в разрешении таких вопросов, по- моему, настоятельна.
Половину настоящего года потратил на писание журнальных статей, воспоминаний, докладов, на заседания в комиссиях и другие насильственные, надоедливые занятия. Принялся было за песнопения Страстной Седмицы209. Но разразившиеся события в Петрограде и вспыхнувшая революция сразу направили мои помышления в другую сторону, всколыхнув дремавшие мечты о возможной самостоятельности у нас чисто народного искусства во всех областях и о его возрождении... Конечно, и церковное наше пение как отрасль общенародного искусства должно подлежать коренной переоценке и перестрою, но, во всяком случае, не в том направлении, куда тянут певческую литературу вкусы завзятых «любителей». Эти последние, наверно, уже предвкушают будущую «свободу» клиросного пения, когда можно, мол, будет заказывать певчим, как цыганскому хору в трактире, всякие «концерты» веделе- дегтяревского, а то и новейшего, «свободного от всяких строгостей» склада... По-ихнему – наверно так!
Наслушавшись на московских митингах речей музыкантов, что «мы- де начнем просвещать народ», а то, вишь, он и Марсельезу-то правильно (на 4 голоса?) не может петь, что «нам открывается широкое поле демократизации музыки» и так далее, – решил с своей стороны написать воззвание к русским музыкантам, но, кажется, потерпел фиаско, ибо большинство, кому я читал свой призыв, – молчаливо морщились, и только. Привожу здесь свою «декларацию»210:
Как пронесся вихрь по родной Руси,
Разметались скрепы, рассыпались;
Понеслись с зарей клики радостны:
«Выходи, народ, ты на волюшку!»
Во набат ли бить, перезванивать,
Али песню петь про свободушку?
Только кто горазд подыграть-то к ней?
Подголосков нам не подпеть, ей-ей!
Ой вы, гудошнички-художнички, сбирайтеся,
За дело новое, народное подымайтеся!
Коль сами-то мы у немцев, у Европы все училися,
Над разными Клементи, Черни, Крамерами билися,
Давайте ж хоть детей учить на новый лад:
Положим в основание народный склад;
Этюды, упражнения из песен заведем
(Из Корсакова, Лядова примеры приведем);
Пиесок мы учебных понаделаем из песен, –
Родных напевов-наигрышей мир ведь так чудесен!
Взамен сольфеджио Саккетти иль других –
Составим-ка и сборники из песенок родных.
Забросим и нескладные лады средневековы,
Ведь сами добровольно мы надели их оковы...
Неужто всякие казенные каденции,
Шаблонны модуляции, машинные секвенции
Искусство родное свободно разовьют?
(«Народны обороты», слышь, «корявый стиль привьют...»)
Всех учим сочинять, долбить сонаты, фуги...
(«Нельзя же нам, в Европе так...») к тому и все потуги.
К романсам вдохновляют нас все модные поэты,
А достиженья верх – поэмы, оперы, балеты...
И этим всем беремся мы народ наш просвещать?
Ему с тоски-испугу только впору замолчать!..
Умеем мы лишь музыкой не русской говорить, –
Крестьянству это – что во щах конфеточки варить.
А с музыкой народной дошло ведь до чего:
Стыдятся даже песни петь народа своего!
Ужель народно-русскому искусству стать уродом?
Ужель не возродим совместна творчества с народом?
Должны мы в русской музыке сперва создать уменье
И отложить пока Европою народа просвещенье...
Он после и без нас сумеет разобраться в ней;
Сравнив же с песнею своей, ее оценит он верней.
Хоть в знанье нотной грамоты совсем народ наш темен,
Но самобытен он, дар творчества его огромен.
Пускай народной песнею и школа возродится,
Пусть песня путеводною звездой нам загорится!
Свободные художники! У вас давно свобода,
Одна томится в сборниках лишь музыка народа,
А было – самоцветами сверкала и она:
Припомним поселян из «Игоря» Бородина,
У Мусоргского, Корсакова тож найдем не мало,
И, в тысячах записанная, песня не пропала...
Оставим же прелюдии, поэмы да шансоны, –
Ведь дела и без них у нас полным-полны вагоны!
Разделим всю работу – по тетрадочке на брата,
И станет библиотека народная богата!
Еще Мей печалился долей песни узкою:
«Ой, пора тебе на волю, песня русская,
Непогодою, невзгодою повитая,
Во крови, в слезах крещеная, омытая!»
Пой же ты свободны песни, русский люд!
(Пой, чтоб отучиться нам от тонких блюд!)
Разливай теперь широкое раздолье,
Создавай народной музыке приволье!
На съезде хоровых деятелей в Москве в мае настоящего года я как- то нечаянно, мимоходом попал в почетные председатели, стяжал обширные аплодисменты за номера из «Поминовения», спетые Синодальным хором211. Удостоился за что-то многолетия от съезда, обещал членам прожить подольше, чтобы оправдать мне многолетие. На концерте крестьянского хора М. Е. Пятницкого, прошедшем с огромным успехом и трогательными овациями по адресу исполнителей, – я почему-то опять попал в фокус и опять был воспет... Весной по просьбе учителей московских городских школ я написал маленький детский гимн свободе на слова И. А. Белоусова. Хотели устроить весенний детский праздник, но он не состоялся.
Не раз пришлось мне выступать в роли глашатая по вопросу о необходимости защиты церковного пения от того одичания, к какому его привели буквоедство и невежество «ревнителей» и пассивность богомольцев. С одной стороны, чопорный формализм византийства, с другой – поощрение ханжества и аматёрства по отношению к искусству. Перед новым обер-прокурором Синода212 я должен был изложить вкратце задачи Синодального училища как органа, долженствующего охранять типично церковные напевы от их искажения, охранять чистоту самого стиля церковной музыки; а вместе с тем заявлять, что недостойно значения нашего церковного искусства не признавать его столь же высоким, как и остальные искусства, всеми признанные. Иначе при свободной конкуренции вероисповеданий и нашем равнодушии к ней оно может прямо зачахнуть.
На съезде духовенства и мирян в Москве, во время концерта Синодального хора мне пришлось выступить опять с докладом о необходимости всемерно поддержать чистоту исконных наших обиходных напевов как чисто народного самобытного искусства, наряду с другими областями русского народного творчества. Говорил о желательности вести музыкальное образование художников церковной музыки в народном духе, а не обще консерваторском направлении. Констатировал, что уже несколько лет Синодальное училище выпускает молодых людей, проходящих курс по новым программам в объеме высшего музыкального училища и все-таки не удостаивающихся признания за ними звания свободного художника. Доклад произвел впечатление, «имел успех», как и пение Синодального хора. Просили дать доклад для напечатания. Но этот же доклад, предложенный мною раньше редактору «Церковно-общественного вестника», не был им принят как касающийся «слишком специального вопроса» (!?).
Равнодушие к вопросам церковного пения еще резче сказалось на съезде делегатов духовной школы в Петрограде, где при одном только возглавии председателя: «Комиссия по реформе Синодального училища церковного пения», – многие из делегатов устремились к дверям, точно от чего-то спасаясь...
Впрочем, моя роль при последней реформе училища ограничилась преимущественно мечтаниями, пожеланиями да официальными выступлениями вроде вышеупомянутых. Мне казалось, что настоящей реформой можно было бы воспользоваться, чтобы создать из Синодального училища единственную и совершенно оригинальную народно-художественную музыкальную академию церковного и вообще хорового пения. В училище уже заложено краеугольным камнем народное искусство – церковные напевы, изучается народная светская музыка, проходится (в истории искусства) и народная архитектура, и живопись, и орнамент, и прочее. Поставив у себя широко изучение народного творчества как в этих областях, так и в области поэзии, словесности, обрядности, быта и вообще народной жизни – такая академия могла бы быть прямо органом, стоящим на страже художественно-музыкальных интересов своего народа, блюсти чистоту и самобытность родного искусства, подготовляя молодых людей, проникнутых демократическими идеями в своем деле... Но реформа прошла как-то мимо всего этого пожелания, повисла в воздухе. Через тридцать лет службы в училище трудно иметь энергию, которая захватила бы остальных.
Познакомившись в Петрограде через Ч. Р. Крейна, давнишнего моего американского знакомца213, с двумя из других членов миссии, прибывшей в Россию, Дж. Моттом и Мак Кормиком, я просил их дать мне несколько заупокойных американских напевов, чтобы написать вставной номер в «Братское поминовение» и тем отметить в моей пьесе вступление американцев в противогерманский союз214. Узнал от них, что в Америке при погребении часто играют похоронный марш Шопена; Мак Кормик доставил мне напевы, и я написал некое chant american, где фразы шопеновского марша частию чередуются, частию идут совместно с американскими напевами. В заключение появляются «Со святыми упокой» и католическое «Dies ігае». Сыгранная мною в наброске, эта пьеса произвела на американцев, по-видимому, хорошее впечатление. Этот опус оказался пока последней моей работой. Издается Юргенсоном215.
Кончаю свои записки в полном удручении катастрофой у Тарнополя216. Но я принадлежу все-таки к оптимистам; не верю, чтобы русский народ не был способен воспрянуть духом, отрезветь и сломить все препятствия, стоящие у него на пути к свободе. Но даже если России и суждено погибнуть, то не может умереть ее искусство, ибо оно уже выявлено, осознано, ему уже удивляются. Может быть, в тяжелое время и нашему народному искусству надо выждать время, переболеть, перестрадать от равнодушия своих и, может быть, зависти других?.. Я уверен, что оно не погибнет.
Комментарии
Завершенная 11 июля 1917 года статья А. Д. Кастальского «Из воспоминаний о последних годах» была написана по заказу редакции ежегодника «Мелос», основанного вышедшими из состава «Музыкального современника» Б. В. Асафьевым и П. П. Сувчинским. Она являлась продолжением опубликованной двумя годами ранее автобиографической статьи «О моей музыкальной карьере...». Будучи знатоками и ценителями русской духовной музыки, занимавшиеся ее проблемами в «Музыкальном современнике», Асафьев и Сувчинский намеревались и в «Мелосе» учредить постоянный отдел церковного пения. Давать свои материалы в новый журнал согласились А. В. Никольский, К. Н. Шведов, Д. В. Аллеманов, А. В. Преображенский и А. Д. Кастальский. О литературном наследии последнего Асафьев писал Сувчинскому: «У Кастальского прямо-таки неисчерпаемое богатство! Но редактировать его трудновато» (письмо Б. В. Асафьева к П. П. Сувчинскому от 9 (22) июня 1918 года. Отдел музыки Национальной библиотеки Франции. Париж). Однако в «Мелосе» успели выйти лишь статья Кастальского «Простое искусство и его непростые задачи» и доклад «Церковное пение и Московское Синодальное училище» (Мелос. Книга вторая. Пг., 1918, с. 122–129). В 1919 году ежегодник прекратил свое существование, и другая автобиографическая работа композитора – «Из воспоминаний о последних годах» – осталась неопубликованной. Спустя почти шестьдесят лет, в 1977 году, она была в сокращении издана М. П. Рахмановой (Советская музыка, 1977, № 6, с. 107–111).
Данная публикация статьи воспроизводит текст автографа, хранящегося в ГЦММК в фонде Б. В. Асафьева (Ф. 171, № 90). Однако было сочтено уместным сделать купюру пространного фрагмента, посвященного событиям, связанным с постановкой оперы Кастальского «Клара Милич».
Отрывок авторской черновой рукописи статьи также хранится в ГЦММК (Ф. 12, № 191).
Церковное пение и Московское Синодальное училище
Доклад, прочитанный на Всероссийском съезде духовенства и мирян в Москве 2 июня 1917 года
Русское церковное пение по своему служебному положению в церковном обряде занимает в мнении общества обособленное, как будто одинокое место в русской музыке. Однако эта обособленность лишь относительна и зависит от особой сосредоточенности самих религиозных настроений. Но многие формы церковного пения – запевы, припевы, строфные формы строения напевов, звукоряды, антифонные формы (то есть противопоставление одного хора другому), – наконец, сходство многих попевок церковных и мирских песенных значительно уменьшают эту обособленность церковных напевов и даже скорее сближают их с народной музыкой вообще.
Синодальное училище церковного пения призвано обслуживать специальные интересы именно этого искусства, которое питает не менее 60% населения России (69% с единоверцами и старообрядцами), то есть около 100 миллионов жителей. Подавляющее большинство из них, конечно, крестьяне. Да и ценителями и искренними любителями этого искусства является по большей части деревенский трудовой люд, а не та публика, что наполняет театры и концерты. Искусство это народное и притом даровое для слушателей, как и его сестра – народная песня. Я думаю, что от этого оба они не обесцениваются и достоинства их и надобность в них этим не умаляются.
Мы не знаем, во что выльется отношение Учредительного собрания к церкви и духовенству, но не может быть отрицательным отношение молящегося люда к искусству, созданному самим же народом и сохраняемому на протяжении веков. Речь идет не о тех слащавых, бездарных и по большей части пошлых в музыкальном отношении песнопениях, какими угощают богомольцев преимущественно в городских храмах, а о напевах церковных, выработанных столетиями и многими поколениями простых русских певцов. Так же столетиями и поколениями создавалась и вырабатывалась мирская песня.
Если обрядовая песня, даже языческого происхождения, сохранилась доселе в неприкосновенности, несмотря на то, что полузабыт уже самый обряд, то, стало быть, сама песня мила, дорога народу. И церковно-обрядовые напевы, то есть наше обиходное пение, сохранились, я уверен, вне зависимости от того, много или мало народ ходит в церковь, так как напевы эти созданы им же, и он с ними сжился. Притом же яркая самоценность и самобытность этих напевов, как и мирских песен, общепризнана, – этого тоже не отбросишь и не зачеркнешь. Ведь сохранилось же в народе и нами уже осознано характерное, яркое народное наше зодчество, несмотря на разрастание современного безличного стиля модерн. Сохранилась в народе и особенная любовь его к самобытной узорности и в архитектуре, и в костюмах и всяческих уборах. Современные живописцы стали возрождать и выдвигать даже как новость стиль старинных наших икон. Так и народное музыкальное творчество не удается заглушить никакими течениями и никакими просветительными мерами, вроде бульварной и уличной музыки, ибо музыкально-народное творчество то же, что народный язык. Не заговорит он на чужом музыкальном языке и потому, что для него родной язык не беднее чужого, но богаче и ярче. Публика, наполняющая кинематографы, может быть, отнесется совершенно равнодушно к вопросам о судьбе родного церковного пения, но речь не о ней, а о народе, творце самого этого искусства.
Великое счастье для нас, что мы пока не растеряли, а успели вовремя записать, собрать и песню, и церковные напевы.
Из этого корня вырастают задачи нашей церковной музыки. Из него же должно вырасти и самоопределение Синодального училища: разработка русских церковных напевов, подготовка руководителей хоров и воспитание молодежи в духе демократизации народного искусства, понимая ее не так, как ее обычно понимают, – в смысле просвещения народа чуждой ему музыкой (хотя бы и с русскими фамилиями авторов), а, напротив, как изучение и разработку именно самого народного искусства. Идти рука об руку с народом, а не отстраняться от него, насаждая церковную музыку, не имеющую ничего общего с народными напевами. И самые напевы следует восстановить в их чистоте, ибо просвещенный Петроград своим придворным и так называемым простым напевом успел их в значительной степени искалечить. Не безгрешна в этом отношении и Москва. Если духовенство намерено идти с народом, то оно должно настоятельно требовать выправления напевов.
Чтобы быть цельным русским художником в этой области, недостаточно получить только цеховое, церковно-музыкальное образование. Помимо широкого изучения народной песни и музыки, он должен быть осведомлен в народном искусстве вообще, знать подробности и архитектурного народного стиля, уметь сознательно отличать свое от чужого и в иконописи, и фресках, и орнаменте, впитать в себя и образцы словесного народного творчества, знать народный быт и проч. В своей специальности ему придется разбираться в вопросах церковно-художественных, различать церковно-музыкальные настроения, знать, что соответствует храмовому искусству и что не подходит, – словом, усвоить церковный стиль.
Таковым должен быть свободный художник в области церковного пения. Семь лет назад Св. Синод утвердил программы Московского Синодального училища, отчасти приближающиеся к желанному типу. Пять лет училище выпускает свободных художников, не имеющих, однако, прав так именоваться, ибо церковное пение ни в своем ведомстве, ни в законодательных палатах не удостоилось еще признания его за серьезное искусство, равное художественно-академическому и консерваторскому, почему-то привилегированным. Конечно, на местах нужны деятели и не таких высоких степеней. Синодальное училище ежегодно летом командирует учеников старших классов для устройства и упорядочения хоров в провинции, выдает по испытании аттестат регентам частных хоров217.
Новый демократический строй, давая полную свободу всем вероисповеданиям, открывает им и возможность широкой пропаганды. Православной церкви придется бороться с ней не только истиною учения, но и во всеоружии красоты обряда и самобытной красоты и выразительности народно-церковной музыки и ее исполнения. Ужели и здесь нам придется отступить и срамить землю русскую?..
По поводу римских концертов Синодального хора в 1911 году итальянцы писали, что русские сумели сохранить свои самобытные церковные напевы, тогда как европейцы забыли, растеряли свои. Иностранцы говорили это только по поводу трех-четырех пьес, тщательно подобранных нами. Они не знали, что у нас самих церковное пение стоит на заднем плане, в пренебрежении, что о нем никто не заботится, кроме единичных преданных друзей.
На днях в Москве был член чрезвычайной американской миссии Ч. Р. Крейн, поддерживающий русский соборный хор в Нью-Йорке, – американец, заботящийся о русском церковном пении! А мы сами до сих пор стесняемся признать родное искусство заслуживающим попечения. Даже специальная пресса по вопросам обновления нашей церкви не может уделить места статье о церковном пении и ведающем им учреждении. Если считается необходимым поддерживать и заботиться о музеях, картинных галереях и т. п., то тем более требует поддержки и заботы народно-музыкальное искусство, питающее не только эстетические потребности и вкус, но и религиозное чувство миллионного народа.
Комментарии
Всероссийский съезд духовенства и мирян проходил в Москве с 1 по 13 июня 1917 года и был посвящен выработке новых форм управления русской православной церковью после Февральской революции. Выступление Кастальского состоялось 2 июня на вечернем заседании съезда, которое проходило в Синодальном училище церковного пения и было посвящено значению церковного пения в демократическом обществе. Доклад композитора был прочитан перед концертом Синодального хора, который, очевидно, являлся последним в его истории концертом.
Доклад был не чем иным, как статьей, которую Кастальский приготовил для поездки в Петроград на Съезд духовных школ в середине мая 1917 года. Будучи в Петрограде, композитор попытался опубликовать ее через А. И. Зилоти в «Русской воле», а также в «Церковно-общественном вестнике», редактор которого, однако, отклонил статью как «касающуюся слишком специального вопроса». В конце концов текст был взят Б. В. Асафьевым; в 1918 году статья вышла в свет во второй книге «Мелоса» (с. 126–129). Настоящая публикация осуществлена по авторизованной рукописной копии, сделанной Н. А. Кастальской, хранящейся в фонде Кастальского в ГЦММК (№ 206).
Заграничные письма
А. Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской Минск, 23 апреля 1911
23-го. Проба пера (черт его подери – не расписано, должно быть, чернил мало). Подъезжаем к Минску, обедали в Орше; в Минске опять есть, а в антрактах, благодаря Гладкому, еще закусываем и запиваем. Я не пьян (так пишу), а это вагон качает. Ребят устроили хорошо: в Смоленске дали еще вагон – так что они едут очень хорошо218. Воздух у них лучше, чем у нас – чище и не так пыльно. Говорят, что всякие покупки надо делать не в Вене, а в Дрездене, гораздо дешевле.
Будь здорова, твой А. Кастальский.
Буду писать из Варшавы 25-го.
А. Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской Варшава, 24 апреля 1911
24-го, 12 часов вечера. Концерт прошел; зал Филармонии – полон весь219. 1-е отделение приняли сдержанно; очень полякам понравилась Херувимская Гречанинова. Рахманинова приняли сдержанно, но хлопали всем номерам, начиная со Смоленского. «Ныне отпущаеши» – приняли дружным бисом, что и было исполнено, после чего вызывали Кастальского «фуриозо», как мне показалось... Выходил, раскланивался. Далее «Свете тихий» и «Верую» публику разогрели, и стали уже орать всем залом «биса»; пришлось еще спеть второе «Свете тихий» сверх программы и в заключение три раза гимн. По окончании всего вызывали Данилина, и Кастальского, и всех...
Много было отдельных благодарностей, «комплиментов и пожеланий счастливого пути», «приезжайте еще» ...
Когда зайдет Дубинин, то покажи ему это; а Кочетова, пожалуйста, вызови (пусть Василий Петрович пошлет к нему, чтоб зашел и прочитал сие о Варшаве). Купить ничего не пришлось, а завтра [в] 10.35 минут утра выезжаем на Вену и далее.
Затаевич, несмотря на несколько фатоватый и начальственный вид – очень милый малый, отлично знает польскую психологию220. Мыслин – хлопотун и простяк. Подходили в антракте разные местные maestro, и начальник правительственных театров и говорили: «Вот все говорят о какой-то розни национальной; смотрите, как принимают – ничего подобного... Что хорошо, так тут уж никакая рознь не имеет места – все сплотились». Может быть, это и так.
После концерта Затаевич с Мыслиным зазвали обедать «администрацию» в какой-то «Бристоль» – с мадерами, шампанским... А оттуда потащили меня на свадьбу местной хормейстерской знаменитости – Храпчевского221, которому я «вместо свадебного подарка» там же в церкви поднес «на память» свое «Верую», чем, кажется, очень растрогал новобрачного и его молодую... Из церкви давай кататься по городу (есть прелестные места); местами очень напоминает Одессу – везде давно все распустилось, масса цветущих уже каштанов, сирени, черемухи, желтой акации... У памятника Мицкевичу большие деревья уже цветут огромными какими-то вроде пионов...
Кантонисты полка уступили нашим ребятам свои постели и обед, а ребята наши им показывали свое искусство в фортепианной игре – словом, подружились; только солдатским обедом после станционных борщей и котлеток, кажется, остались не особенно довольны222. Превосходные скверы с соборами и костелами глядят очень нарядно и оживленно (может быть, по случаю праздника). Вечером еще пришлось заехать в дом к отцу Храпчевского на свадебный пир, где еще хлебнули шампанского и чаю. Насилу вырвался. Затаевич настаивает на обратном пути опять задать концерт, «чтобы продолжить начавшееся объединение общества»; сетует, что гимн потребовал один какой-то, а поляки заметили, что «только по желанию одного лица запели». Словом, тут что-то вышло неладное. Но никто из них об этом не догадался предупредить. Говорят, что в публике находили, что «Кастальский совсем не похож на портрет» (это, кажется, тот, который ты называешь «утопленником»?).
Ну, будь здорова, целую ручку.
Твой А. Кастальский.
Буду писать уже теперь не знаю откуда. Затаевичу подарил с надписью «Верую» и «Чертог», Мыслину – «Сам Един».
А.Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской
Рим, 11 мая (28 апреля) 1911
Рим. 28 апреля, 12 часов дня. Добрались сегодня утром. В дороге лучше всех освоились с положением наши ребята: на каждой остановке заводят знакомство, дружбу, при помощи книжечек превосходно произносят нужные фразы; им дают тоже на память разные пустячки... При отходе поезда наши кричат: «Addio, signore!»223 – чем премного веселят новых знакомых. Ведут себя очень хорошо; только вчера в Болонье им приготовили обеды – каждому с полубутылкой вина, а мы не догадались их раньше убрать, и они были при отъезде весьма навеселе... Большие, конечно, как водится часто высказывают различные неудовольствия на Гладкого и особенно на Ястржембского по всевозможным поводам, но в общем о них все достаточно заботятся и они, конечно, это видят.
Номера нам здесь дали очень хорошие. Мальчики помещаются во втором этаже, как и воспитатели, взрослые в третьем и четвертом, где и я (я просил себе повыше). Прокурор в нижнем. У меня перед окнами огромный какой-то парк с особенными соснами с шапкой наверху; в парке виднеются какие-то триумфальные старинные ворота; ближе что- то вроде палаццо, еще ближе – старинная каменная стена с травой и цветами наверху (вроде царицынских построек). В парке насвистывают соловьи и другие птички. Окно на север...224
Сегодня по случаю всеобщего осатанения отдыхаем, ходили по очереди в «русскую баню». Я вымылся в ванне здесь в номере. С завтрашнего дня: 9–10 утра спевка; 10–12 пешая прогулка по достопримечательностям; после обеда, 2–7 – катанье по окрестностям, 7–8 – спевка, 8 – ужин и т. д. Я был там, но едва ли удастся – очумел. <...>
Ну пока, будь здорова, целую ручку. Чернила все истощились; кажется, при последнем издыхании. Твой А. Кастальский. То есть чернила, а не твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской Рим, 13 мая (30 апреля) 1911
Глубокоуважаемая и сердечно преданная (мне). Не поедешь ли ты завтра в Сокольники чай пить? Только сейчас вспомнил, что завтра 1-е мая... Третьего дня после обеда шлялся по Риму, смотрел разные Капитолии, Форумы, Колизеи (издали) и прочее. Впечатления особенного не получил (говорят, при луне лучше, – может быть, завтра или в понедельник схожу). От собора св. Петра тоже не дюже как восхищен: громадина, масса страшных по дороговизне украшений, но все эти формы как-то будто уже надоели и на ампиристой мебели и ренессансовых домах даже и в Москве. Если чем поражаешься, то именно тем, сколько сил здесь потрачено... Вчера тоже ходил в компании к Петру, и результат тот же, не иной.
Вчера я, Филипп и Данилин получили приглашение на сегодняшнее открытие русского павильона на выставке «еп redingote». Филипп меня давай ругать, что я не взял сюртука; Данилин надел сюртук Николая Николаевича, а я, померив оный, Константина Павловича. Нашел, что в подобном рединготе только ворон пугать, и надел просто свой спинжак, розовую жилетку, в петлицу прицепил эту полтинничную штучку и получился – красавец.
На открытии видел короля с королевой (очень просто, без всяких «ура», с самыми жидкими хлопками). Была и наша председательница Академии Мария Павловна «Madame Wladimir» ... Пил там холодный лимонад. На этой выставке много знакомого с недавних выставок, но есть много незнакомых имен; в общем, не дюже замечательно225. Заодно, благо задаром попал, осмотрел павильоны: французский, сербский (очень все сказочно-национально – много эпосу в сюжетах), германский и японский (интересно, но много похоже и на цибиковые сюжеты226). Французы, по-моему, лучше и разнообразней всех. Не видел венгерцев, австрийцев и прочих. Устал...
Сегодня вечером хор приглашен на раут к послу князю Долгорукому (по случаю открытия русского отдела) спеть несколько вещей: 1) «Был у Христа» (ноты взяли у Модеста Чайковского, который находится здесь), 2) «Во царствии» Чеснокова (соло Н. Чумаков), 3) «Тебе поем» Рахманинова, 4) «Господи, помилуй» Львовского, 5) «Ныне отпущаеши» Кастальского (соло Толкачев), 6) «Верую» Кастальского и гимн.
12.30 часов ночи. Возвратились с раута. Пели при страшной духоте – очень хорошо (кроме Кастальского: Толкачев – телега, а «Верую» – размазали). Особенно понравилось «Тебе» Рахманинова и «Во царствии» Чеснокова. Барон Корф говорит, что итальянцы обалдели, так как ничего подобного не предполагали (хотя болтали все время). Был представлен Марии Павловне – очень расхваливала. Данилин разговаривал с Борисом Владимировичем. Получили подарки: я – золотой, а может быть, и медный портсигарчик (штук на восемь папирос), довольно увесистый. В таком же роде получил и Данилин. Вероятно, и Филипп Петрович. Данилин говорит, что медный, а самое большее серебряный, – едва ли... Певчим было угощенье и 500 франков. Я набрал папирос 35 штук, так как здешние итальянские большая пакость и очень дороги. (О рауте – Кочетову.)
С Флоренцией у нас неожиданно произошло расстройство: Галлети и какой-то его компаньон Gesi вдруг изменили условия против контракта: 70% хору, а 30% им с валового сбора. Мы, конечно, не согласны; не знаю, чем кончится, может быть, прогорим, так как у нас в случае отказа прибавляются несколько дней расхода, без получки... Это скверно. А сейчас ежедневный расход около 300 рублей или 250. Что-то опять поднимаются разговоры с Прагой, но тоже пока ничего не видно. Ложусь спать... Второй час ночи.
14 (1) мая, утро. Певчие говорят, что во многих лавках и при случайных здесь их встречах с итальянцами они говорят, что хорошо знают «Мг. Kastalsky», а еще, что какие-то Лепешкины желают повидаться; не припомню, кто это (как будто у Митрофана встречал каких-то Лепешкиных). Сейчас здесь находится флорентийский художник Степанов (сын Степанова, бывшего директора иконописной школы), который хочет попытаться устроить концерты во Флоренции помимо Галлети.
Мои окна выходят на Monte Pincio е villa Umberto. Будь здорова. Твой А. Кастальский. Обдирают здесь все, начиная с извозчиков.
А. Д. Кастальский – А. В, Затаевичу
Рим, 15 (2) мая 1911
<...> Доехали мы, слава Богу, хоть и с перипетиями на дороге (например, у баса Толкачева с одним поездом в Вену приехал котелок, пальто и воротничок, а сам он прибыл в другом поезде, ибо певческие вагоны где-то ночью отцепили, и мы приехали в Вену без певчих). В Венеции нас тоже задержали на несколько часов, ко всеобщему, впрочем, удовольствию, так как за это время мы ознакомились с этим оригинальным городом и покатались по каналам и лагунам. Были скандалы с кондукторами-немцами и итальянцами; на итальянской границе пришлось ночью спать в скверных вагонах, без воды, без умыванья, без чая; разбили дорбгой вагонное стекло (конечно, нечаянно «вследствие качки вагона»; это устроил наш милый Филипп Петрович, надтреснул его Толкачев...). Ребятишки на станциях и остановках, имея в руках много купленных для них в Москве «Русский в Италии», очень быстро находили минутное знакомство, болтали, торговались, покупая открытки и всякую дрянь, и в продолжение нескольких минут заводили приятельские отношения с итальянцами, крича при отходе поезда «addio, signore»... Взрослые тоже постоянно забавлялись объяснениями с иностранцами таким же способом или даже проще – жестикуляцией – и даже заводили споры о преимуществах православной религии перед католической; все пересыпалось самым заразительным и добродушным хохотом с обеих сторон, причем итальянцы откровенно высказывались, что «Russia buona»227, а про ребят, что они «ріссоіі tutti belli»228.
Здесь спевки производили по два раза в день по одному часу, а в промежутках ребята гуляют, благо близко; в Monte-Pincio е villa Umberto – огромный парк сейчас же за нашей гостиницей. Осматривали св. Петра, Форум, Пантеон, были сегодня на Via Арріа, лазили по катакомбам229, смотрели базилику св. Павла. Филипп Петрович, Данилин и я были приглашены 13-го мая (нового стиля) на открытие русского отдела художественной выставки (видели королевскую чету), а вечером пели на рауте у посла – князя Долгорукого, где была великая княгиня Мария Павловна, которой я был представлен; очень расхваливала, также и Борис Владимирович, который разговаривал с Данилиным.
Пели в страшной духоте, но произвели на итальянцев (все министры с председателями, все послы – до китайского), по словам посольских лиц – необычайное впечатление, ибо они ничего подобного не предполагали (выход в костюмах вызвал массу «охов и ахов»). Программа была: «Легенда» Чайковского, «Во царствии» Чеснокова, «Тебе поем» Рахманинова (особенно понравилось, как и «Господи, помилуй» Львовского). «Ныне отпущаеши» и «Верую» Кастальского – меньше... Мы с Данилиным получили по золотому портсигару; певчие по 500 франков и обильное угощение чаем, сладостями, фруктами. Были толки о возможном приглашении к королю – но не состоялось пока...
Зала «Аугустео», где будет завтра наш первый концерт, огромна, и всякие наши рр в некоторых местах почти не слышны, а ff напротив слабоваты – акустика для такого хора неблагодарная. Сегодня были с Данилиным на концерте венского «Мannerchor’а» в 200 здоровенных пивных глоток 4–120 человек оркестра – и то не звучит должным образом.
Афиши, расклеенные по улицам, имеют массу досадных пропусков и ошибок. Плохо рекламируют... Для спевок даст зал наш attache кн. Урусов.
Ну, будьте здоровы, привет Алексею Ивановичу. Ваш А. Кастальский.
Пишите на Вену (от 24 мая нового стиля).
А. Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской
Рим, 16 (3) мая 1911
Hotel «Victoria». Рим, 16 мая. По вечерам из моего отворенного окна часто доносится звериный рев (близко зоологический сад) и ослиное ржанье.
Достоуважаемая, здравствуй! Посылаю тебе две вырезки из «Варшавского дневника» для сообщения 1) Кочетову и Дубинину и 2) для сообщения господину Спиро, если только он возьмется сообщить об этом рецензенту в «Русском слове», а иначе не давай. Иначе, нельзя ли попросить Василия Никаноровича или лучше Андрея Андреевича узнать адрес Конюса (Георгия) и писануть ему, не хочет ли поместить об этом в «Утре России», или Юлию Дмитриевичу Энгелю (Спиридоновка, дом Шуберт).
Сегодня был приглашен к князю Волконскому на музыкальное matinee (4.30 дня). Пели «Stabat» Россини – вместо soprano и alto пели мужчины (с усами) настоящими женскими голосами (в первый раз в жизни услыхал такое чудо). Там же познакомился с Модестом Чайковским и разными княгинями и графинями, которые все зовут в свои палаццо делать у них репетиции. Вообще, соотечественники работают вовсю...
Сейчас вернулся с нашего 1-го Исторического концерта, 16 мая нового стиля (у тебя нет программы?)230. Аплодировали всем номерам, аплодировали и выходу хора на эстраду в костюмах. Бисировали Херувимскую Глинки и, конечно, «Господи, помилуй 40 раз» Львовского231. Понравились и Сарти, и Бортнянский, и «С нами Бог» Кастальского. Вообще, «успех полный», но зал не полный...
Сегодня же фигурирует в Риме и русский балет Дягилева, и раут у венского посла – публика отвлечена... Следующий концерт 18-го. Данилин просит меня провести, благо там первое отделение – все Кастальского. В нынешней афише наврали, приписав «Дева днесь» – Римскому-Корсакову. Прошу корректуру следующего концерта сначала показать мне. Вообще и фамилии в программах перевирают.
Сегодня же услыхал, что на почте есть твое, должно быть, мне письмо. Завтра схожу получу. Спасибо! Все нет времени покупать в Риме разные разности, да и не хочется, чтобы здорово надули. Насчет сегодняшнего 1-го концерта сообщи, пожалуйста, разным нашим рецензентам, что я тебе написал. Соотечественники все время ахают, что «каков успех!» «а!» и так далее. Данилин лениво выходит на хлопанье. Хочет на эти дни моего дирижирования съездить в Неаполь. Я не знаю, попаду ли туда. Говорят, что следует съездить...
Живем мы здесь все дружно, ребята почти не хворают, большие пока исправны. Жара и духота только здесь здоровая. В концертном зале сегодня утром я сам везде отворял двери и окна, так как там не найдешь никогда никакого начальства. Зала огромная (цирком) над могилой Августа и называется «Аугустео» или «Корея» (не знаю, почему)232.
Ну, будь здорова. Целую ручку. После своего выступления напишу. Твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – Н, Л. Кастальской Рим, 17(4) мая 1911
<...> Писал ли тебе, что третьего дня ездили по Via Арріа в катакомбы, базилику Павла и прочее. По поводу вчерашнего концерта из итальянских газет тебе послана «II Popolo Romano», но, оказывается, во всех газетах (особенно, говорят, в «Italia») помещены самые восторженные отзывы, в таком роде, что «у нас были недавно и оркестр Ламуре, и австрийцы, и венгерцы, и еще кто-то, но такого, как Синодальный хор, который затмил всех, никогда не было и прочее». Хвалят особенно детские голоса, окта- вистов и Данилина. Римский-Корсаков («Дева днесь») и Кастальский были менее поняты, так как в них вложена особая серьезность, античность – что-то в этом роде. Наш концерт, назначенный на 18-е мая, почему-то перенесли на пятницу 19-го, когда еще утром надо петь в посольстве и обедню. Филипп Петрович настаивает, чтобы этот концерт вел тоже Данилин, так как нельзя на один день бросить хор другому и самому уехать гулять. Певчие говорят, что если он устал, то и они тоже и что уже они к нему привыкли и со мной уже давно не пели, а я многое поведу по-другому... Это правда, положим. Так что мое неожиданное выступление, как просил Данилин, отменено пока.
Мужские панамы себе напокупали наши певчие чуть не все, и доктор, и Константин Павлович, и Гладкий – до того они мне надоели своим дурацким видом, что себе и не хочется покупать. Кстати, мой картуз пропал еще в вагоне (где-то позабыл), так что я все фигурирую в своей коричневой – некогда купить что-либо другое; стар становлюсь бегать по жаре и духоте...
Вчера и сегодня у ребят, двух-трех, да и у взрослых кой у кого появилось расстройство живота; один дурак себе купил вишен неспелых233. Здесь здорово все едят апельсины, которые нипочем, за каждой едой – и обеденной, и ужинной – все апельсины. Насчет прованского масла, только один раз давали какое-то сладкое, которое никто из нас почти не ел (ребята, впрочем, наверное ели). Вообще кормят нас здесь, по- моему, даже чересчур роскошно (обед блюд в пять, кроме апельсин, ужин – два-три блюда тоже с апельсинами). Денег итальянских пока еще не дают, все кормят завтраками. Вчера, впрочем, уполномоченный от Сан- Мартино, которого и не видать нигде, обещал обязательно доставить деньги.
Из следующей программы Данилин просил выкинуть мое «От юности» и «Хвалите» Гречанинова, так как они неважно идут. Насчет Флоренции дело такое: какая-то дама там дает бесплатно зал на 1000 человек – остается только продать билеты форсированным способом, ибо, оказывается, во Флоренции желающих слушать много. Программу повторить третьего римского концерта (то есть на следующий день – 22-го) и заказать себе здесь же отпечатать их еще для Флоренции на 1000 штук больше, то есть приехать туда уже с готовыми, отпечатанными программами... Но все-таки это еще план не окончательно решенный.
Зато в Варшаве снизошли на усиленные мольбы Затаевича с Мыслиным (который дает за концерт на возвратном пути 1200 рублей) и дадим еще финальный 20-го мая. 21-го выезжаем. Теперь пиши на Вену, Hotel «Belwcdcr», где по-нашему будем – 12-го мая и 14-го выезжаем в Дрезден, Mulman, Dresden, WcrderstraBe, 7. Считай, на дорогу письма до Вены – дня три, а то и четыре.
Насчет Неаполя мне едва ли удастся, больно много и без того всякой сутолоки и спешки. Копии наших римских программ можно затребовать из Синодальной конторы, чтобы там переписали и прислали хоть Андрею Андреевичу. Всем кланяйся и скажи, что по возможности прославляемся пока, да и русское искусство наше в сегодняшней какой-то газете назвали «праздником искусства».
Орут басами на улице во все горло коты у меня под окном (хотя и живу очень высоко в четвертом этаже).
Целую ручку, будь здорова. Твой А. Кастальский.
А. Д, Кастальский – Н. Л. Кастальской
Рим, 20 (7) мая 1911
Рим, 20 мая, утро. Здравствуй – Vale! Вчерашний концерт234, перенесенный с 18-го на 19-е – собрал почти полный зал – цирк «Augusteo» («Korea» тож). Первое отделение (Кастальский: «Свете» № 2, «Благообразный», «Тебе поем», «Пещное», «Сам Един») против ожидания принято дружными аплодисментами каждого номера, так что Данилину приходилось постоянно отвешивать дополнительные поклоны. Гулькевич, секретарь посольства, говорит, что поначалу боялся, как примут Кастальского в первом отделении в пяти подряд номерах, но в антракте убедился, что против ожидания Кастальский проглочен публикой с успехом (были слышны отдельные «autore» после «Пещного действа»); кто- то из соотечественников крикнул «Кастальского» после «Благообразного» – но общая масса, во всяком случае, гудела и восторгалась исполнением ли, музыкой ли, но орала неистово. Какой-то сиповатый фрак сообщил мне в антракте новость, что «это совершенно новое течение музыки»; поздравлял меня Сгамбати (у которого в квартире написана Чайковским «Пиковая дама»). Изящнейший старик князь Барятинский в антракте говорил мне про мои сочинения, что эту музыку надо слушать не обычно – ушами, но проще: открыть свое сердце, и тогда туда потекут всякие ощущения от музыкальных картин, что-то в таком роде, все насчет сердца. Некоторые интересовались, когда что поется за службой.
Во втором отделении бисировали «Тебе поем» Калинникова (сообщи ему, если можешь) как более подходящее под вкусы публики. Гречанинова «Волною» принято не так... Толстяков – «Архангельский глас», Чесноков – «Тебе поем», Смоленский – «Кто Бог велий» – всему очень дружно аплодировали, но когда по просьбе некоторых лиц (княгиня Урусова, у которой делали репетицию, говорила, что выше «Господи, помилуй» Львовского она музыки не признает) сверх программы спели «Господи, помилуй 40 раз», то оранью и восторгам не было конца; конечно, опять бис. Данилин выходил на вызовы. Посольские люди говорят, что наши концерты – «гвоздь римских торжеств». А после обедни в посольстве вчера же по случаю «царского дня»235 (я регентовал) говорили, что наше пение здесь – государственное дело... После обедни какой- то месью бедного вида принес несколько лир, прося на них купить мальчикам гостинцев. Лавочник наложил еще от себя... Жена консула Забелло прислала за обедом массу сластей и печенья. В церкви была масса итальянцев. Наша отельная хозяйка тоже была в церкви, говорила, что такой музыки или пения ни в одной другой религии нет. Вообще, нечто фурорное...
Как-то пройдет завтра третий и последний концерт: Херувимская Аренского; «Хвалите имя Господне» и «Во царствии» Чеснокова; «Единородный», «Да исполнятся уста», «Тебе» Рахманинова; Херувимская Гречанинова; «Тебе» Шведова; «Ныне отпущаеши», «Достойно» сербское, «Свете» № 3, «Верую» Кастальского236.
Вчера ночью Гладкий с женой и Константином Павловичем уехали в Неаполь, на Капри и др., а мы остальные – для утешения Данилина напились вместе... <...>
Сегодня спевка вечером у кн. Барятинского (просила его больная жена), присылает экипажи – вероятно, будет угощение; просят меня «почтить». Тип – изящнейшего аристократа и простого вместе – мне очень понравился... Данилин вчера раскланивался уже как следует – на три стороны...
Прощай, твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – Н. Д. Кастальской Рим, 21(8) мая 1911
Buon giorno, miacarissima237! Сейчас возвратились с последнего прощального концерта. Фурор – полный. Повторено: «Во царствии» Чеснокова, «Да исполнятся» и «Тебе поем» Рахманинова и «Ныне отпущаеши» Кастальского. Слабей принят Гречанинов (все-таки аплодисменты). Требовали «Miserere» (это, оказывается, «Господи, помилуй» Львовского) и еще сверх спета последняя часть концерта Бортнянского. Оранье было такое (в конце), что ничего не разберешь, махали шляпами, платками; Данилин выходил несколько раз... Черепнин (он здесь с Дягилевым) хотел было выпихивать меня: «Ведь это все ваше!» (мои номера были последними), но я говорю, что вылезать без определенных требований на оранье не стоит. Идет такой гул, что сам черт ничего не разберет. Модест Чайковский говорит, что на этом концерте присутствовал знаменитый итальянский дирижер Тосканини, который ему говорил, что ничего подобного он и не предполагал. Перози (папский композитор и дирижер, огромный авторитет) говорил Данилину, что его капелла (то есть Сикстинская) поет очень хорошо, но Синодальный хор гораздо лучше, особенно своей подвижностью и быстрым (?!) подчинением дирижеру... Папа передавал, что ему очень бы хотелось послушать Синодальный хор, но он должен это отклонить, так как Синодальный хор все-таки приехал на выставку, которую он должен был проклясть238.
Вчера вечером репетиция была у князя Барятинского (великолепный зал), где его жена оделяла ребят гостинцами (один объелся и расстроил живот – Пузырев). После второго концерта двое взрослых напились, еще вчера повторили, и одного из них (Головкова) прогнали домой в Москву solo сегодня же, чтобы другим не было повадно... Певчему Лихову, прогнанному домой из вагона еще в Москве Филиппом Петровичем, пусть Алексей Андреевич скажет, что ему надо искать поскорее себе место...
Консульство здешнее ликует по случаю наших триумфов и говорит, что никто не имел здесь за это время такого успеха (в прошлом году только наш В. И. Сафонов)239. Завтра утром выезжаем скорым в Флоренцию, где повторяем сегодняшний концерт в зале, кажется, какой-то Пуджи (может быть и соврал) на 1000 человек. Концерт устраивает Степанов, сын художника240. <...>
А.Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской Флоренция, 23 (10) мая 1911
Carissima–Vale241! Вчера давали концерт в зале Pucci (Нарышкин) в присутствии великой княгини Марии Павловны, ее дочери Елены Владимировны и вдовствующей королевы Маргариты, которая (в ложе на хорах) беседовала с Филиппом Петровичем, спрашивала об октавистах и прочем. Зал был переполнен, бисировали «Тебе поем» Рахманинова и сербское «Достойно» мое. Познакомился с художником Сашей Шнейдером, который в совершенном осатанении орал «autore, Kastalsky» (особенно после «Ныне отпущаеши»), плакал, обнимался и болтал всякую ерунду («Куда Рихарду Штраусу! Вот настоящая музыка!»). Данилину поднесли венок (от Талызиной). В газетах сплошные восторги. Какая-то grandedame, говорящая басом (в первый раз вижу), подходила ко мне как старая знакомая и очень подробно расспрашивала о дальнейших концертах (откуда она и кто – не знаю).
Сегодня осматривал галереи (подавляют своим количеством и качеством). После обеда пойду еще шляться по городу. Шнейдер-то, оказывается, большая шишка, профессор Берлинской и Веймарской академий (в прошлом) – велел мне сказать сегодня, что он делал виньетку к какому- то сочинению Римского-Корсакова, а теперь желает это сделать мне. Я ему передам что-нибудь с автографом...
Сегодня вечером выезжаем на Вену. Если найду газету – пошлю. Флоренция город интересней Рима своим своеобразием: каменные мосты через Арно, дома, купающиеся в реке, горы с садами, узкие улицы, сутолока, оранье и прочее.
Ну, прощай, будь здорова. Твой А. Кастальский.
А.Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской Вена, 26 (13) мая 1911
Ты воображаешь, что мне только и дела было, что бегать ежедневно на почту к черту на кулички? Надо мной все трунят, что я чересчур занят корреспонденцией, а между тем и те «недостаточные сведения», которые я тебе сообщал, были, кажется, единственно верные и «высасывать» из них нечего еще (из-за них не ложусь раньше половины 2-го и 3-го). Если Кочетов или кто другой не способен сообразить, как размазать для газеты то или другое краткое сообщение мое, то это уже их дело, а не мое. Удовлетворившее вас сообщение Печатного агентства о присутствии на концерте королевской четы – беспардонное вранье. Ни на одном концерте они не были, а были на открытии русского отдела выставки. Была на концерте во Флоренции королева-мать (о чем я писал) – это другое дело. Теперь я получить должен был все твои письма (сюда даже из Рима мне прислали), кажется, пять плюс открытка (кроме гутмановой). Пишешь какому-то Успенскому, которого никто не знает, для передачи мне – «нашей гордости», как меня в Риме всем представляет Модест Чайковский, мне, который кроме постоянной пересылки разных газет, писем, телеграмм, покупки всякой ерунды и шлянья за всем этим по городам и весям, занят иногда (как, например, сейчас) еще и ловлей воробья, залетевшего ко мне в номер и не желающего опять улетать в окно. Стоит занятого человека упрекать в недостаточной беготне за poste restant’aми242 (здесь в Вене черт ее знает, где они?) – с вашей стороны прямо недобросовестно. Газет!.. В отчете о последнем концерте в Риме корреспондент «II Giornale d’Italia», описывая всякие овации хору и Данилину, когда дошло до дела – все переврал, написав, что бисировали «Хвалите имя Господне» Чеснокова, «Тебе поем» Шведова и еще что-то (а на самом деле бис было: «Во царствии» Чеснокова, «Да исполнятся» и «Тебе поем» Рахманинова и «Ныне отпущаеши» Кастальского). Стало быть, не всякие газеты вам посылать, а то Дубинин там, или еще кто, еще поднапрет и выйдет совсем беспардонщина!
О последнем [концерте] в Риме я писал, посылаю еще «II Giornale d’Italia» (без заглавного листа). Здесь в Вене очень пристали дать по дороге в Дрезден концерт в Брюнне243, но Филипп Петрович испугался (да и Данилин зафорсил) и отказал, а предлагали очень хорошие условия братья славяне...
Писать подробно об исполнении с моей стороны нельзя, ибо я не публика, я ценю далеко не такое исполнение (с разными придыханиями, толчками, «душой» до невозможности и совершенно не теми темпами, которые нужны, хотя и с прекрасной звучностью). Архангельский Анатолий Михайлович вот именно заметил, что особенно много теперь «души» – больше, чем у Василия Сергеевича. Но, по-моему, это не плюс, а минус. А для публики наоборот. Я пишу об овациях со стороны публики, об успехе так называемом и прочее, а не действительно хорошем исполнении, как я его понимаю. Например, сегодня пели на matinee у посла Гирса244 в присутствии всяких дипломатических людей всех наций и в присутствии какой-то эрцгерцогини (заменяющей императрицу, которой меня хотел представить Гире, но я сказал ему, что я ни по-каковски не умею, стало быть комплиментировать ей нечего). Пожалуй, сообщи нашим писакам об этом, а также, что певчим по окончании концерта было предложено угощение, а мальчикам раздавал разные бонбоньерки маленький сын Гирса. Пели: «Тебе поем» Шведова, «Свете» № 2 Кастальского, «Господи, помилуй» Львовского (слава Богу, не кричали «бис»), «Тебе поем» № 2 Калинникова, «Во царствии» Чеснокова и «Достойно» сербское. Были всякие комплименты, то есть выражения восторгов, что слышат такое исключительное исполнение и т. д.
Здесь почему-то очень заинтересованы (хотя и не слыхали) моим «Верую» (вероятно, писал из Рима князь Урусов, сестра которого – жена Гирса) и просят петь ее 14-го во время обедни.
Сегодня шлялся по Вене. Город, сравнительно с Римом – прямая противоположность: широчайшие улицы – скверы, бульвары, но преобладающий темно-серый цвет домов, на меня, по крайней мере, производит несколько сумрачное действие. Но страшно оживляем толпой.
Итак, соли из моих сообщений мало высосешь (даже и сам третей), то и не высасывайте – наплевать; размазывайте рецензии итальянских и венских писак, которые пишут в тон публике и нахваливают то, что бисируется... Программ не высылаю, ибо их тебе сообщают тут же. Венские (первоначально) и дрезденские – повторение римских с сокращением. Филипп Петрович с Данилиным сократили (стараясь об «успехе» и боясь «утомления хора»), вычеркивая иногда лучшее... Затаевич нам прислал в Рим дней через пять-шесть, а я из Рима в Москву. Конечно, это не может быть скоро. Ясно, Кашкин прекратил писание в «Русском слове» – да и в Москве ли он был; я уверен – ему там нечего делать. Что в «Русском слове» по телеграфу сведения долетают скорей, чем мои письма, – это просто (коль не врут). Газеты, кроме Ястржембского, покупаю и я, посылаю по разным местам. Полной рецензии в итальянских газетах не бывает, а только сообщения о восторгах публики (2-й римский концерт вел тоже Данилин, не переврал ли кто?). А мне, несомненно, гораздо приятней посылать тебе газеты, чем сидеть, корпеть над письмами, стараясь выжимать разные подробности, в большинстве глупые... Не заниматься же мне доставкой нужных подробностей для Кочетовых, Дубининых и прочих. И без того достаточно приходится за каждым говном ухаживать, которое воротит рыло в разные стороны и тоже старается показать себя обиженным тем или другим.
26 мая, вечер, 1 час ночи. Концерт прошел с «огромным успехом» («Чертог» Корсакова, концерт Бортнянского, «Во царствии» Чеснокова, «Единородный» Рахманинова, «Свете» Чайковского, Херувимская Гречанинова) – хлопали всем номерам, бисировали «Тебе поем» Рахманинова, кричали и «Ныне отпущаеши», и «Свете» № 3, и «Верую», но Данилин спел «Господи, помилуй», которое, конечно, с оглушительными овациями бисировали245. Данилину поднесли венок. Приезжал нарочно на концерт Ганс Рихтер, который завтра меня с Данилиным пригласил к себе246. Я не пойду – черт с ним, все глупости (особенно если и он не отличает превосходной звучности от кладбищенских темпов). Хотя сегодня лучше было. Но в конце концов при часто превосходной звучности и чистоте Синодальный хор приехал, кажется, преимущественно для пения и бисирования (без осечки) «Господи, помилуй 40 раз»!
Сейчас пьянствовали у хозяина «Бельведера» (Прокуротёр, хер Директор, Хормейстер, Кассир Гладкий, Доктор и прочие. Был «очень» лишь Филипп Петрович)247.
Писем мне лучше не пиши – некогда мне бегать за ними, хотя я до сих пор после Рима и получал их без беготни. Данилин грубит прокурору, наскакивает на всех – зазнался, как и следовало ожидать.
Еще пикантное дополнение к римским концертам: Данилина просили на программах (афишах) каждого концерта писать свою фамилию для автографов Римской консерватории, а в последнем концерте даже принесли почетную книгу для внесения им своего автографа. <...>
А. Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской Вена, 27 (14) мая 1911
27 мая. Газеты поручил послать Ястржембскому, – наверно еще не послал. Везде превозносят хор и Данилина, говорят, что местами «дух Божий носился над ними», «счастлив хор, что имеет такого дирижера» и т. д. Особенно восхищались басами. Сегодня пели обедню по случаю коронации 14-го248. Я поздравлял посла после обедни; он сказал, что страшно гордится такой победой русского искусства, не знает, как благодарить. Его жена тоже в ужасной ажитации (она считается здесь большой музыкантшей), сообщила, что «Верую» – прямо гениальное сочинение. Ястржембский говорит, что кто-то обижен, что я не выходил на вызовы (врет, чай, – среди общего оранья нельзя было разобраться, в чем дело). <...>
А. Д. Кастальский – О. С. Кастальской Вена, 27 (14) мая 1911
Милая бабушка! Приехали мы в Вену из Рима, где пели три концерта; каждый раз все с большей и большей овацией, а на последнем Данилину махали шляпами, платками, орали благим матом. Среди других пьес заставили петь бис и мое «Ныне отпущаеши» (с басом соло), какой-то писака размазывал обо мне, будто что-то и понимает. Брат Чайковского меня всем называл «гордостью нашей». Во Флоренции бисировали мое сербское «Достойно». Один известный художник хочет сделать мне на обложку к сочинениям свой рисунок. А вчера в Вене был концерт с также огромным успехом. Вообще, по малости прославляем свое отечество. Данилину поднесли венок в Вене. Римский посол подарил по золотому портсигару мне с Данилиным, а папирос, да побольше, я и сам выпросил.
Целую вашу ручку, сын ваш А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской Дрезден, 30 (17) мая 1911
Ich wcrde mir crlauben Ihnen zu schreiben, meine liebe Frau249 (списал из книжки). Приехали мы сюда 28-го в 7 часов вечера. Встретил Мульман, передал твое письмо. (Не знаю, не написал ли кто poste restante.) Ну, первое дело о концертах: зал на выставке с неособенным резонансом250; народу на первом концерте (повторение римского первого) не густо251, сзади даже пустовато. Присутствовала принцесса, кажется, супруга брата короля (молоденькая). Пели без репетиции (с маленькой только). Звучало недурно: бис, конечно, «Господи, помилуй». Особенно понравилось: Глинка, Бортнянский и «С нами Бог» (припевы пели, как и в Риме, на стишки, которые канонаршил альтик на одной ноте; здесь у него вышло гораздо лучше, чем в Риме). Аплодировали, впрочем, всему; по окончании орали (вероятно, соотечественники) и меня – пришлось выходить и раскланиваться. Общее впечатление очень хорошее. Особенно удивляет знатоков постановка и воспроизведение звука малолетними и, конечно, октависты, которые, узнав, что они очень нравятся, стали здесь (да и в Вене) весьма этим злоупотреблять, и даже до отвращения (на мой вкус)252. Данилина вызывали и встречали аплодисментами (он, впрочем, не в духе).
Второй концерт сегодня253: мое отделение, по-моему, звучало сонно и почти все низко. Аплодировали всему, но особенно дружно «Тебе поем», «Пещное» и «Сам Един», после чего при орании своих и подпихиваньи сзади Мульманом «автор» принужден был выходить и раскланиваться. («От юности» было выпущено из программы.) Второе отделение: понравилось, по-видимому, все, всему хлопали. Какой-то старичок, кажется, местная знаменитость – органист, увидав меня, что-то бормочет и тычет в афишу, в мою фамилию. Говорю «so» – попал в самую точку; он что-то разговаривает – должно быть, хвалит. Другой просит составить список распределения голосов нашего хора: думает, должно быть, что в этом секрет. Вообще здесь немцы-музыканты стараются найти «секрет» пения Синодального хора и даже, по-видимому, секрет постановки и давания звуков (особенно мальчиками).
В Дрездене стали определенней вызывать (конечно, были соотечественники) почему-то и Кастальского. Неужели расчухивают? В Риме и Вене орут, а толком не поймешь. Но, впрочем, «Господи, помилуй» не дает покоя, опять пристают спеть сверх программы – это гвоздь нашего репертуара! То есть, конечно, эффект исполнения... Странно, что другие эффекты не улавливаются так легко. Мульман просит сделать несколько номеров моих с немецким текстом и органом для здешних кирх, будто бы большой спрос. Мульман очень напоминает Булычева Вячеслава – такой же торопыга, семенит ногами и хлопотун, побегушка, но серьезен...
Много газет (то есть экземпляров) посылать очень трудно, – я не знаю каких, а Гладкий и Ястржембский – все бегают, черт и не поймает. Папа в Риме действительно хотел слушать, но отказался из-за выставки.
Завтра утром выезжаем через Берлин, в котором пробудем часа два – только пройдем из края в край, и 20-го (нашего стиля) утром будем в Варшаве, где переночуем, так как вечером 20-го прощальный там концерт (за 1200)254, и, вероятно, утром 23-го будем в Москве. Венские газеты здесь от 27-го мая никак не найдешь, все разошлись, так что уже не взыщи... В немецких газетах отзывы гораздо обстоятельней, чем в итальянских (оно так и должно быть), хотя восторгов, может, и больше. Посылаю, что мог собрать. Данилина называют чуть не гениальным, хотя этот гений сегодня так размазывал, что из рук вон. Если ему несколько раз наперед не скажешь, что поскорей (хотя он и обижается), то обязательно аккорд с аккордом на дровнях волочит. Неужели он не поправится? Будет очень жалко, так как у него действительно прирожденный регентский талант.
Ну, будь здорова. Посылаю газеты и целую ручку.
Твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – Н. Л. Кастальской Дрезден, 1 июня (19 мая) 1911
Вознесенье. (Ах, греховодники! Вместо обедни собираемся на вокзал.) Ну, прощай... Уезжаем в Россию – Варшаву, а далее на Москву! Когда-то теперь увидимся...
Вчера третий дрезденский концерт прошел при переполненном зале255. Фурор вызвал большой венок от русской колонии с трогательной надписью: «Московскому Синодальному хору от русской колонии в Дрездене на память о незабвенных часах 29-го, 30-го и 31-го мая», что-то в таком роде... Бисировали «Тебе поем» Рахманинова, тут же (чтобы не забыть) по просьбе публики «Господи, помилуй»; во втором отделении понравились Херувимская Гречанинова, «Тебе поем» Шведова и «Ныце», «Достойно» сербское и «Верую» Кастальского, которое было бисировано. А я, когда начали петь «Верую» в первый раз, побежал в другой павильон переодевать фрак на пиджак, который взял с собой, а когда пришел опять в зал – уже «Верую» бисировали, пришлось выходить в пиджаке (была принцесса.,.). Восторгам и комплиментам не было конца. Данилин выходил еще на вызовы.
Какой-то московский немец, прощаясь, обещал принести в вагон «прощальных цветов». Хотели вызывать и Филиппа Петровича, но он заартачился... Просили дать еще концерт, зовут заехать еще в какую-то страну (Дармштадт) – жалеют, что хор не может еще побывать там-то и там-то.
Пишу в вагоне из Берлина. Передаю письмо Вере Ивановне, которая приедет в Москву раньше нас – 21-го. Мы приедем в Москву 23-го, вероятно, утром часов в 9; какой поезд – точно никто не знает256. Саньке марки нигде не нашел – прошу это сделать Мульмана.
До свидания, твой А. Кастальский.
Посылаю, кстати, с Верой Ивановной и дрезденские газеты.
Комментарии
Заграничные гастроли Синодального хора 1911 года принадлежат к одной из наиболее ярких страниц его истории. До настоящего времени основным источником сведений об этом событии служила брошюра делопроизводителя Синодального училища А. Н. Гладкого «Поездка Синодального хора за границу в 1911 году» (М., 1911), а также рецензии в газетах, которые были частично воспроизведены в книге «Памяти Н. М. Данилина» (редактор-составитель и автор комментариев А. А. Наумов. М., 1987). Приведем краткую информацию об истории гастролей, содержащуюся в этом издании:
«Летом 1907 года в Москву приехал президент римской академии «Санта-Чечилия“, знаток и ценитель духовной музыки граф ди Сан-Мартино. Специально для высокого гостя в зале Синодального училища был устроен домашний концерт с участием Синодального хора. Пение хора произвело на графа сильнейшее впечатление. Прошло несколько лет, и вот в мае 1910 года граф ди Сан-Мартино в ранге председателя распорядительного комитета юбилейных торжеств, которые намечались в связи с приближающимся национальным праздником Италии – 50-летием со дня провозглашения Рима столицей независимого объединенного королевства, – обратился к председателю Совета Министров П. А. Столыпину с просьбой разрешить Синодальному хору, «этому единственному в мире хору“, как выразился граф, дать несколько концертов в Риме весной 1911 года. Италия готовилась широко, с размахом отметить свой юбилей; было намечено включить в план мероприятий устройство национальной и международной выставок в Риме, Турине и Флоренции, проведение трех международных конференций, показ музыкального и театрального искусства. Вопрос об участии Синодального хора в римских торжествах был решен положительно. С осени начали готовиться к поездке. В этот период хор получил еще несколько приглашений из крупнейших городов Европы – Праги, Варшавы, Вены, Дрездена и Флоренции. Наконец, к началу апреля 1911 года все было готово: разработан маршрут поездки, отобрано 41 произведение из репертуара Синодального хора для четырех программ концертов русской духовной музыки – исторического, национального, современного (для Рима и Дрездена) и смешанного (для Варшавы, Флоренции и Вены), отпечатаны три литографированных сборника для хора и приготовлена записка о русском церковном пении и о Синодальном хоре к программам концертов. 22 апреля Синодальный хор в количестве 66 человек с начальником – прокурором Московской Синодальной конторы Ф. П. Степановым, директором А. Д. Кастальским и регентом Н. М. Данилиным, взяв с собой два комплекта певческих кафтанов (малиновых и светло-голубых), выехал из Москвы. Поездка длилась месяц. За это время было дано 12 концертов и дважды, в Риме и в Вене, хор участвовал в богослужениях в посольских церквах» (Памяти Н. М. Данилина, с. 242).
Участвовавший в поездке директор Синодального училища подробнейшим образом описывал происходящее в письмах, большая часть которых была адресована его супруге Н. Л. Кастальской. Эти письма содержат не только частную информацию, но и сведения о концертах хора, которые Наталья Лаврентьевна передавала московским репортерам. В публикуемую подборку вошли тринадцать писем, предназначенных жене, одно – матери, О. С. Кастальской, находившейся в то время в московской Мухановской богадельне, и одно письмо к А. В. Затаевичу – знакомому в Варшаве.
Данные источники издаются впервые. Датировки писем, написанных на территории России, даются в старом стиле, посланных из-за границы – в новом и старом стилях. Приводим список публикуемых документов с указанием шифров их хранения:
1) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 23 апреля 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №553.
2) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 24 апреля 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №630.
3) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 11 мая (28 апреля) года. ГЦММК, ф. 12, №631.
4) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 13 мая (30 апреля) 1911 года. ГЦММК, ф. 12, № 633.
5) Письмо А. Д. Кастальского к А. В. Затаевичу от 15 (2) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 6, № 304.
6) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 16 (3) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №634.
7) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 17 (4) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №635.
8) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 20 (7) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №632.
9) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 21 (8) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №636.
10) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 23 (10) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №637.
11) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 26 (13) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №638.
12) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 27 (14) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №558.
13) Письмо А. Д. Кастальского к О. С. Кастальской от 27 (14) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №623.
14) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 30 (17) мая 1911 года. ГЦММК, ф. 12, №639.
15) Письмо А. Д. Кастальского к Н. Л. Кастальской от 1 июня (19 мая) 1911 года. ГЦММК, ф. 12, № 640.
Из писем 1917–1918 годов
А. Д. Кастальский – X. Н. Гроздову Москва, 14 марта 1917
Вот-те и вековые устои!
Фюйть! И нет ничего...
Остались одни лишь отстои
Да название: «Царское село»!
Дорогой мой, ждал я, ждал от тебя весточки, да так и не дождался. Конечно, первые дни переворота вы все себя чувствовали тревожно и даже много более того. Как ваши дела теперь? Определенного, конечно, ничего, но за будущее вы должны быть покойны, пока у власти такие люди с твердой определенной программой.
Фу ты, черт! До сих пор себя чувствую живущим точно в сказке! Особенно сказочно-невероятно поведение Москвы, где накануне переворота везде в «надежных» местах были приготовлены команды с пулеметами – расстреливать бунтовщиков. И вдруг, о чудо, – расстреливальщики выкидывали красные флаги и братались с бунтовщиками и сейчас же шли вместе с пением «Вставай, подымайся». И так везде. Впрочем, к сожалению, кой-где были и столкновения (недоразумения), в общем убито человек 5–6. Огромную популярность приобрел Грузинов (бывший председатель уездной земской управы) в качестве главнокомандующего Московским округом – удивительно симпатичный образ патриота-демагога. Порядок, без полиции, образцовый. На тротуарах, впрочем, сейчас скверновато-скользко.
4-го марта устроили грандиозное молебствие и парад войскам на Красной площади. (Только дураки хоругвеносцы отсутствовали; вероятно, еще не успели вытряхнуть из себя монархические устои257. Духовенства было очень много; во время молебна над Красной площадью низко летал аэроплан и сбрасывал красные флаги и красные же букеты цветов. У Минина в руке тоже был красный флаг, у солдат и офицеров сплошь красные банты, цветы. Все заливало яркое солнце...
12-го опять праздник – уже чисто народный. Кажется, и у вас в этот день справляли революцию (хочется заменить «переворотом»). Мирная жизнь здесь уже налажена давно; идут собрания для объединения по специальностям. Мы, «синодалы», присоединились уже к союзу духовно-учебных заведений и вчера к союзу духовенства, где идет горячая чистка старой конюшни и «вонючего клоповника», то есть разных «восторговских» благочиний, консисторий, до иерархов включительно258.
Вчера был у нас обер-прокурор Львов. Я ему прочитал некое «разъяснение» о сущности народного церковного искусства, где порядочно пощипал придворный напев259 и упомянул о появлении даже вагнеристов в церковной музыке и о борьбе с ними. Он, по-видимому, очень сочувственно отнесся к этой идее, много отмечал карандашом на моем докладе (там между прочим была фраза: «а Синодальный хор за свою самостоятельную дорогу как в выборе репертуара, так и за манеру исполнения – неожиданно и несправедливо удостоился порицания со стороны бывшего главы государства, что не преминули злорадно отметить и синодские сферы».)260 Львов обещал всеми силами содействовать улучшению Синодального училища и хора. Но вся эта пертурбация мне надоела – пора за горячее дело! Дела масса, язык чесать некогда.
Жаль, что пропадает моя работа как над «Баталией», где фигурирует постоянно старый гимн, так и «Шествие», так и гармонизация его261. Ну, черт с ними. Что, Глазунов написал что ли гимн? Гречанинов нечто состряпал262. Я думаю, что такие грандиозные моменты нельзя освещать тяп-ляп.
Ну, до свидания. Привет Александре Андреевне и всем.
Твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 22 марта 1917
<...> Моя синодальная «корпорация», конечно, ухватилась допрежь всего за прибавки, знает, с чего надо начать «обновление жизни». Когда я начал им говорить о делах, инспектор выпалил: «Ах, Александр Дмитриевич, вы все об искусстве»263. Недурна публика. <...>
Некие субъекты ко мне пристают, зачем я не пишу гимна? Я отвечаю, что прочел в газетах, что «Глазунов сел писать гимн», ну, думаю – сел, так стало быть счел себя единственно достойным – скатертью дорога. Да и текста общепризнанного нет.
Приветствую свободных граждан и товарищей временной республики (а лучше б и вечной) мужска и женска пола. (Сейчас мне звонила Муромцева: «Вас приветствует свободная гражданка...»)
А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 27 марта 1917
Дорогой мой, получил ли мои писания? Говорят, почта работает сейчас не вполне исправно. На днях прочел, что «конюшенная» часть упраздняется теперь же264. Правда ли? Как ты мерекаешь по доживанию своего века? И какие у вас перспективы на сей предмет? Конечно, не получив определенного «постановления» нельзя и отвечать определенно, но все- таки – какие слухи, предположения? Я хотя и покоен по русской породе, ибо еще определенно гром не грянул, или вернее, грянул, но далеко, но ты-то его уже слышишь близко, и поэтому тебе, конечно, приходится креститься.
Наше синодальное существование тоже ведь висит в совершенно неопределенном пространстве. За прошлый год у нас перерасходовано 40 тысяч (не платим долгов, несмотря на категорическое требование Синода уплатить). В три месяца проживаем годовую ассигновку и в один прекрасный день вылетим в трубу самым распрекрасным способом265. Ведь обещания обера, то есть язык без костей, в сущности – повторение таковых же обещаний и прежних оберов – ни к чему никого не обязывают, а суть дела – живите, не имея ни от кого разрешения так жить – очень просто разрешается: не умеете жить – стало быть и не живите, издыхайте, черт с вами! Посему я подумываю, благо теперь у меня, по-видимому, пять месяцев (до сентября) в запасе – попробовать переменить специальность и поискать дела там, где сейчас нужны люди, в такой области, где бы я мог быть полезен. В музыке, я думаю, теперь искать нечего, ибо не до нее.
Ну, пока, будь здоров. Мой привет Александре Андреевне и прочим домочадцам. Черкни кратко... Твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 24 апреля 1917
Дорогой друг, твое письмо о «вольных джигитах» на твое место хотя и повергло меня в большую тревогу и скорбь, но на днях со стороны узнал, что и под меня подводятся таковые же мины со стороны исполнительного комитета общего собрания преподавателей, в каковой комитет (само собой разумеется) я не выбран, вероятно, за то, что недостаточно энергично заступаюсь за общее направление: «урвать елико возможно»266. Хотя я обращаю мало внимания на этот поход, но вероятно, что остервенение «выпирать» под конец опротивеет до того, что и сам бросишь всю эту милую компанию. И будем мы с тобой земляками... Дело, конечно, прежде всего в пенсии, каковая совершенно для меня в тумане, ибо зависит от «усмотрения», – но только кого? Совершенно не знаю.
Я тебе не буду описывать плана работы нашего исполнительного комитета, в который попали люди, только что поступившие год в училище. Это глупости. Сейчас сижу над статьей, которую обещал в новый музыкальный журнал. Хочу освободиться для музыки. «Страстной неделей» только было начал заниматься, но бросил вследствие «надвинувшихся» событий. Наш прокурор тоже, конечно, предназначается к выводу...267
У Зимина на днях сгорели все декорации, в том числе и «Клары»! Как он начнет будущий сезон – не знаю. Мои стихи-«призыв» по-видимому никто не берет печатать, да и правда, кому охота самого себя щелкать по лбу...268
Прости, что мало пишу, соберусь, напишу побольше. Страшно сочувствую тревоге Александры Андреевны и главное желаю быть покойнее, хотя это и выходит одним пустозвонством.
Ну, до свидания. Будьте здоровы. Спешу.
Твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 14 ноября 1917
Живы ли вы? И как живы? Еле-еле, впроголодь, или более или менее сносно? Едва ли. Вчера вспоминал, что была годовщина постановки «Клары» (13 ноября), – сколь мало прожито (1 год), но сколько пережито!..
Ученья в «Синодалке» не начинали, почти все помещение наше занято синодскими чиновниками (вкупе с министром, который теперь у вас в Петропавловке). Дело ведем с Котляревским269. Да и начинать-то не на что – все прожито! Малых ребят по возможности отпускаем к родителям, а теперь после бойни московской – и особенно охотно. Да теперь и хору делать нечего – Успенский собор разворотили (центральный купол – в опасном положении). Установили за время бойни (и продолжаем и впредь) ночные дежурства на улице по 2–3 часа по очереди, дежурю дня через три270. Два раза за меня дежурил Санька, приехавший из Петергофа в начале бойни и арестованный большевиками неизвестно почему и просидевший 5–6 дней в самом пекле (гостиница «Дрезден» на Скобелевской площади). Явился к нам из ареста уже когда все кончилось, ибо не мог пройти домой (по Брюсовскому переулку) раньше по случаю усиленной пальбы около Синодального училища. Ночевал два дня по освобождении у своего приятеля на Лубянке. Но, слава Богу, перенес арест кажется без особых потрясений (били прикладом).
Финал войны для нас ознаменовался вылетом всех стекол с полдома по Кисловке, ибо в 10 шагах от нас снаряд ударил в квартиру Ипполитова-Иванова (спасибо, в простенок), который сидел дома271; а от сотрясения воздуха как в консерватории, так и у нас визави – вылетели почти все стекла (у меня только два). Засветили снарядом, говорят, с Воробьевых гор. На Никитской (где все дни шла канонада и стрельба круглые сутки без передышки) в Синодальном училище пулями пробиты 8–10 окон в ребячьей спальне (спасибо, днем). Мы их перевели спать в концертную залу на эстраду272. Впрочем, стекла скоро вставили (стоит тысячи 3 1/2). На нескольких наших квартирах по Кисловке пули пробили стекла, диаметр в палец толщиной – это не считается (пустяки!). По Кисловке пули и снаряды пролетали должно быть больше над домом. Я во избежание «недоразумений» тоже переезжал спать в проходную комнату, ибо что-то не захотелось получить пулю во время сна. Странный каприз?273 <...>
Собираюсь ликвидировать понемногу свое имущество, ибо при первой возможности думаю оставить директорство и все милое здешнее прочее. Но куда деваться – еще не знаю... Привет всем. Напиши что- нибудь. Твой А. Кастальский.
А.Д. Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 1 декабря 1917
<...> Сейчас ломаю дурака по реформе Синодального училища – составляю таблицы, устав (ибо в летней, петроградской редакции он к черту не годится)274. Ругаюсь по этому поводу с инспектором, воспитателями (деревяшки сплошь!) – но к чему придет и что даст в результате мое дураколомание с его идеализацией – весьма трудно сказать. С денежной стороны лет через пять (когда после окончания настоящего контракта можно увеличить доходность певческих домов вдвое, а то и больше) Синодальное училище может быть и сумеет развернуться (если найдутся люди, не похожие на теперешних тупиц и лентяев). Но то произойдет конечно без меня – очертело мне все до последней степени. Начинаю понемногу распродавать свое хрунье (продал ящик с красками – прости-прощай прелестное создание, – по крайней мере нет соблазна, много еще надо доделывать по музыке до кладбища – не до красок)275.
Думаю начать переписываться с разными южными (туда тянет) музыкальными училищами, не возьмут ли (все-таки Кастальский – не воробей начхал, реноме!). Специальностей, чем могу заниматься, у меня много, где-нибудь вывезет. Спасибо, что еще не упала духовная энергия...
У тебя ведь здоровая опытность по педагогике и разносторонняя, ты ведь не одряхлел еще, значит тоже не пропадешь на старости.
Мне за ноябрь не дали жалованья в школе, которые затеяли бастовать (городские). Может быть, лишат и пенсии (а я трублю в городских школах уже 29 лет) – будет досадно, ибо только из-за этого и тянул. Если в январе мы и можем начать ученье, то хорошо бы ваших малых ребят (9–10 лет) приспособить, если вам придется их распускать, как ты пишешь276. Хорошо бы прозондировать у их родителей на сей счет. Как ты думаешь? Хотя не знаю, сколько времени с января мы сможем продержаться в денежном отношении. Ну, еще раз великое спасибо, а Александре Андреевне – особо!
Твой А. Кастальский.
Не знаю, что теперь делать с Санькой...
А. Д. Кастальский – Б. В. Асафьеву
Москва, 18 января 1918
Дорогой Борис Владимирович, ваше письмецо получил давно, но за недосугом – даже скорей, за мытарством всякого рода, и служебным и личным – только теперь заставил себя присесть за письмо. Сегодня прочитал, что вам хотят давать по 1/2 фунта хлеба (надолго ли?). А у нас давно уже действует 1/4 фунтовая порция. Сразу заговорил о хлебе!
Как пережил «ужасы»? Пережил – и ладно. Финал московской войны для нас состоял в выбитии массы стекол, так как снаряд ударил в простенок квартиры Ипполитова-Иванова, живущего рядом... Хорошо, что не попал в квартиру. Училище наше и хор находятся вполне в критическом положении. Ученья нет – за неимением средств на содержание. Хочу сделать хоть выпуск в этом году – ибо ученики, конечно, не повинны. Набрать малолетних для подновления хора тоже не можем по невозможности их содержать. Училище заполнили чиновники Синода, приехавшие для соборных канцелярий. Сдаем под концерты и прочее свою залу – хоть кой-что получаем277. Развал денежный – полный. Как доживем зиму? Слава Богу – январь пока теплый; дрова вздорожали в 12 раз!
Так как я два месяца лишился порядочного сравнительно заработка в городской школе, где я тянул лямку в надежде на пенсию (ибо служу 30-й год), то для воспособления своих финансов понемногу распродаю необходимые вещи, идя на прогулку (приятное с полезным!) – на 130 рублей продал! Попробую теперь заняться распродажей своих живописных опусов (все что-нибудь дадут). Краски уже спустил... Очень подумываю списаться с разными южными (потеплей) музыкальными училищами, – не удастся ли к осени подрабатывать себе педагогией. «Заведовать» не согласен! Довольно... Может быть за тридцатилетнюю- то службу в Синоде, также и за сочинительство что-нибудь даст и Синод. Не посоветуете ли, куда и к кому обратиться? Одесса, Ялта, Ростов?
Перелистал 1-й номер «Мелоса» в магазине Юргенсона (ибо сам еще не получал) и вашу статью..278 Нахожу, не в гнев вам будет сказано, что в этом номере много «эстетства» (мне так показалось), к которому я не тяготею. Сабанеев опять с вами?
Сейчас сработал «Архиерейское облачение» «по нужде» – на текст и мелодию, переданные мне «для исполнения» Патриархом, но в гармонизации некоего священника Зиновьева279, которую (лаврами его не плененный) я и заменил своею. Звучать будет, кажется, удовлетворительно. Прибавлю туда «Исполла» демеством280. «Страстная» и «Пасха» заржавели. Зато сильно занялся сводкой положений народно-русской музыкальной речи, материалы для коей собирал по крохам лет 20, если не более. Второе издание «Поминовения» еще не выходило281. Плотников было обещал «постом поставить», но... по-видимому не исполнит, ибо говорит: «Да разве у наших заправил есть что-нибудь общее с искусством?»282 Если бы мне удалось в этом году кончить мою вышереченную работу по музыкально-русской демократии, то я был бы доволен283.
Привет Петру Петровичу и Анне Ивановне. Ваш А. Кастальский. Черкните о себе еще...
А. Д, Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 19 января 1918
И отчего ж, почтенные господа,
Не быть свиньей, хоть иногда?
Как ручейная вода,
Бегут за годами года...
И не с чем нам друг друга поздравлять,
Почтенные господа!
Дорогой дружище, твое последнее письмо получил, конечно, давно, но что делать – затянул ответом, отчасти за мытарствами служебно-нервными, отчасти за поглощением времени занятиями обычными. Приветствую Александру Андреевну и всех домочадцев, радуюсь, что целы! По нынешним временам – и это большой плюс. Мы тоже еще живы... Вчера вечером около подъезда нашего около 20-ти солдат с ружьями держали совет – тот ли это дом, который им нужен? Но в результате ушли – видно решили, что не тот, хотя и говорили, что рядом с консерваторией. Неизвестно, кого искали...
На днях я был с депутацией у Патриарха просить, чтобы он передал нам управление хозяйством училища в свои руки. Пока результата никакого. А дал мне переложение некоего священника Зиновьева «Вошел еси во церковь» – в качестве песнопения за облачением. Мне приглянулся текст (мелодия обиходная), и я состряпал на эту мелодию и текст (отчасти и его переиначив по-своему, сообразно с «духом времени») – некое песнопение «на облачение архиерея», которое в воскресенье 21-го будут петь синодалы в Алексеевском монастыре в сослужении с Патриархом284. Прибавлю туда, благо уже у меня раньше было готово, «Исполла» демеством и стащу к Юргену, ибо самому печатать теперь, конечно, не хватит кишки. Да и вообще все «свое» издание285 надо будет продать Юргену же – куда теперь возиться с подпечатанием или даже новым печатанием.
Ученья у нас нет, ибо денег нет, да и помещение все (кроме зала) занято синодальными чинодралами да членами Собора286. Засел за свои демократические песенные тетради. Туго работается, но все же надо себя принуждать, ибо масса собрана материала, а «наша жизнь коротка», особенно теперь. Здорово похудел – ибо, конечно, толстеть не с чего...
Исполнение «Поминовения» в театре бывшем Зимина, было намеченное дирижером Плотниковым, по-видимому не состоится – точно причин не расследовал. Клавир второго издания еще не вышел. Из головы все время не выходит проект устройства где-нибудь на юге при каком-нибудь музыкальном училище педагогом. Тебе, друг любезный, по-моему, тоже надо искать работы, но выгодней, по-моему, не педагогической, а в какой-нибудь кооперации, – там веселее будет.
«Страстная» и «Пасха» у меня заржавели, несмотря на твое слишком скороспелое оповещение миру о сем событии... А вот по народной музыке работать охота есть, тем более, что работа сильно подвигается. Собираюсь составить для себя таблицу гармоническую, из которой будет видно, насколько возможно создать яркую и самобытную систему русской народной гармонии.
Так как городские учителя забастовали, то пришлось и мне лишиться за два месяца порядочного заработка, да кроме того, как бы не лишиться пенсии (я трублю там уже 30-й год!). Ходя на прогулку, таскаю и распродаю свои разные ненужные вещи (130 р. уже «наработал»).
Привет всем и прочее.
А. Кастальский.
А, Д. Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 6 марта 1918
Дружище, нашелся нарочный (из Тегерана), который взялся доставить тебе письма 4– прошение к Вениамину (I)287, с которым ты, по прочтении, сообрази сам, что делать (если посылать с кем-то, надо положить в конверт и надписать – все как подобает). Дело в том, что я еще, кажется, тебя летом тоже приглашал в дьячки за границу, и ты тоже не прочь был, а теперь, когда ты с своей стороны о сем написал, то я тоже «возгорелся» пыса-ломщикщикством и стал расспрашивать у живущих здесь чиновников (Яцкевич, Дьяконов288), они мне сказали, что прежде это зависело от петербургского митрополита, который устраивал это дело по соглашению с иностранным министерством (хотя, говорят, хорошо иметь «руку» в Петербургской консистории. Есть у тебя там «рука», или нет? У меня – никакой...). Ну, словом, мы с тобой – конкуренты, и я посылаю прошение, вернее письмо тебе для передачи по твоему усмотрению Вениамину. Давай поделим дьячковство! Музыкой питаться?
На нашем юге творится черт-те что! Ну их в болото! Не поймешь, где хуже! Как вы питаетесь? У нас давно нет картофелю, – обещали прислать из Самары, да видно никак не дойдет. Постоянная полуголодовка, а тут еще правительство понаперло, не было печали. В «Синодалке» уже были три «организации» для реквизиции училища – что будет, не вем... Грозят... Жаловался раза 3–4 в Совет рабочих и солдатских и крестьянских депутатов – обещали защитить, посмотрим, – хотя уже половину нашего дохода отхватили, не на что жить, не на что петь. Ребята ходят иногда только от родителей и опять уходят. Впрочем, собрал восемь оканчивающих курс на один месяц, чтобы выпустить их, неповинных, с аттестатами на места – пусть хлеб добывают, приучаются голодать289. <...>
Ох времена, ох нравы! Все-таки погрузиться в горячую работу с головой, по-моему, лучше, чем киснуть и раздумывать о тяжелых временах.
Вольный город Петроград!
Кой черт будет тебе рад?
(Помнишь, как я писал тебе?) До свидания. Пиши. Твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 7 марта 1918
Дополнительно:
1) Ты не очень обижайся, что я тоже не против попысаломщиствовать, так как эту идею тебе высказывал еще летом (если ты не забыл).
2) Я тебе предоставляю хлопотать первому и желаю всякого успеха. Я и подожду, хотя вчера нашу «Синодалку» уже реквизировали для нужд военного комиссариата (не знаю только, как меня погонят с квартиры и куда)290. Живущий у меня Павел Месхи (которого вино ты пробовал когда-то) уверяет, что с квартиры не погонят. Он – «помощник комиссара по делам грузин-воинов». Но все-таки Совет рабочих и солдат сообщил, что наши дела «певческие» они отбирают – стало быть жалованье наше тю-тю! Советуют Синодальному училищу переходить в ведомство Комиссариата просвещения, «если оно признает полезность вашего училища» (сомнительно!). Как видишь, очутившись между стульев – естественно искать опоры...
3) Итальяно-русского словаря пока не нашел, ибо мало бываю в хороших магазинах, а больше имею сношения с букинистом, живущим напротив, которому спустил своих книг уже рублей на 75 (очередь за продажей клавиров, которых у меня достаточно).
4) Вас, то есть Капеллу, по-видимому, все-таки держат, не разгоняют окончательно, – это все же утешение (совесть, по-видимому, еще не вся пропала).
5) Вчера вместо урока с выпускными учениками занялся уборкой снега с Кисловки, ибо из комиссариата погрозили «составить протокол», а это «знаете, чем пахнет?».
6) «Облачение» и прочее еще валяется у меня, ибо не сдавал Юргенсону за недосугом – события слишком опережают нормальную жизнь. <...>
12) Итак, насчет дьячковства справляйся или в консистории, или в министерстве иностранном (хотя там теперь, чай, никто ничего не знает), а затем у Вениамина. С моим прошением поступай, как заблагорассудится (жена моя, конечно, брыкается – ее такое дело).
Ну пока – привет. Твой А. К.
А. Д. Кастальский – X, Н. Гроздову
Москва, 20 марта 1918
Спасибо за открытку и за письмо. Только ты напрасно уж очень горячишься. Дело уже не такое экстренное. Поразузнать, заявить, конечно, загодя не мешает, и во всяком случае не только обо мне... Мое «введение» подвигается, хотя и с большой затяжкой. Но в общем я буду, кажется, им доволен. Канцелярия Троцкого от нас переехала, а на ее место, кажется, помещается канцелярия «военных сообщений», где начальство имеет у нас кое-кого старых знакомых, что очень приятно. Жалованье за март, кажется, получим. Плотников (дирижер театра бывшего Зимина) хочет приступить к разучке «Поминовения» (может быть, постом пойдет) с новыми вставными номерами и отчасти новой оркестровкой; только у Юргенсона нет клавиров – вот беда, а у меня один измазанный поправками, да другой тоже с поправками у Плотникова. Новые номера (вставные) прошу наскоро тиснуть отдельно для исполнения. Как и где Затаевич?
Ну, пока, приветствую всех. Совет рабочих депутатов советует Синодальное училище перевести в «просвещение» – наши боятся.
Твой А. Кастальский.
А. Д. Кастальский – X. Н. Гроздову
Москва, 18 апреля 1918
«Благодарю тебя, мой дивный покровитель!» «События» бегут так быстро, что не успеешь оглянуться – не то, что в дьячки, а прямо на улицу угодишь на старости-то лет! А сколько протянется «такое положение» – никому не ведомо... И жрать, и жалованье какое ни на есть получать надо. Насчет Вениамина собственно именно и важно только, чтобы он знал, что там-то живет Бобчинский – пока и этого довольно. У нас на последнем совещании с о. протопресвитером решено, «так как средств у духовной власти на содержание Синодального училища нет, то предложить всем служащим искать себе места». Коротко и ясно! Сукины дети! Это за 32 года службы!
С Луначарским я познакомился очень просто. Я давно ношусь с идеей необходимости «самоопределения» русского народного искусства во всех областях его. (Я, впрочем, и в статье об этом писал291, и на съездах изрекал, – только все зря...) Кстати, я еще второй книги «Мелоса» не получил. Ну так вот. Написал я некий доклад на тему: считает ли рабоче-крестьянское правительство важным убедить русского пролетария, что русский народ уже давно создал свое самостоятельное искусство во всех областях, – что оно замерло и ждет возрождения! Меры к этому убеждению предложил самые простые: развешивать везде, где бывает народ (даже в чайных), большого размера копии с архитектурных, живописных, орнаментальных и других образцов народного творчества, чтобы пролетарий чаще видел, что уже сделано его предками и, стало быть, по какой дороге ему идти (ибо «дерево без корней не может расти»). Я считаю очень важным обратить взоры пролетария на себя, а не обезьянничать с буржуев: оперы, выставки, балеты (только патентованные художественные работы, а не свои – народные). И передал свое писание секретарю Луначарского; через день мне секретарь Лещенко сказал, что Анатолий Васильевич Луначарский «очень хотел с вами побеседовать»292. Я пришел и услыхал от Луначарского: «Прекрасная ваша статья; у нас кое-что намечено в этом направлении, но у вас так широко. Вашу статью необходимо напечатать в нашем журнале (должно быть, какое-нибудь художественное издание). Я тогда сказал, что для напечатания я ее еще пересмотрю, даже и взял... Но увлекшись «Основами» несколько о ней забыл, а когда вспомнил, переписал, понес Луначарскому – он уже тю-тю, уехал в Петроград. Ну я отправил ее заказным и еще туда вложил письмо, где между прочим упомянул (по поводу предполагаемых в Петрограде весенних праздников)293, что у меня тоже есть работа «Встреча и заклинание весны»294 (пусть знает о Добчинском), но что, наверно, теперь поздно об этом говорить.
Так как наше Синодальное училище теперь уже определенно решено передать в Комиссариат народного просвещения, то я в письме ему упомянул (ладно?), что, по-моему, и Придворную (бывшую) капеллу и Синодальное училище следовало бы объединить в учебно-музыкальных планах, так как в России будет страшная нужда и в руководителях хоров, и [в] учителях хорового пения. Моя статья, по-видимому, на Луначарского произвела впечатление, так как в газетах по поводу его отчета перед Исполнительным комитетом было сказано (переврали, скоты), что Луначарский сказал, что «композитор Кастальский в беседе со мной высказал, что, по его убеждению, русский народ теперь «запоет» (с голоду?)295. Так как ничего подобного я не говорил (я говорил, между прочим, что не слышно уже в городах широкой вольной русской песни...). Ну, черт с ними.
Насчет Майкова – не стоит хлопот, ибо нас «Народное просвещение» уже забирает, по-видимому, хотя жалованье будут еще пока платить по-старому (до каких пор – не знаю).
Вчера без меня приходил некто Крейн (из «насих») и просил учителя народного пения и по истории искусства для опытов «с высшей крестьянской школой», которая устраивается под Москвой в Царицыне (18 верст), где я жил на даче. Хочу поговорить, не принять ли и мне старику участие, если можно будет туда только и наезжать, а черную работу поручить кому-нибудь из бывших учеников? Если дадут хорошее жалованье – браться или нет? Жалко будет времени, – а зато получка (кажется, нужно будет только до осени). «Основы» мои подвигаются. Первую часть почти кончил. Примеров масса, на некоторые сам дивлюсь...
Синодальное училище приходится опять реформировать по-новому. Тьфу! За время своего директорства – чуть ли не 5-й– 6-й раз! Проклянешь свою горькую судьбу.
Привет всем. Твой А. Кастальский.
Комментарии
Публикуемые письма Кастальского адресованы в Петроград X. Н. Гроздову и Б. В. Асафьеву. Друг и единомышленник композитора Христофор Николаевич Гроздов был горячим поклонником его таланта. Выпускник Дерптского университета и Московской духовной академии, он занимался этнографией, что, очевидно, и послужило поводом для его сближения с Кастальским. Первоначально директор народных училищ в Тифлисе, а затем в Петрокове (ныне – Плоцк), в 1904 году Гроздов по протекции Кастальского поступил на должность инспектора музыки в Придворную певческую капеллу, в 1912 году став помощником ее начальника. В 1918 году он был назначен управляющим Народной хоровой академией в Петрограде, однако вскоре умер. С уходом из жизни Гроздова Кастальский лишился близкого друга, которому на протяжении двух десятков лет рассказывал о своих планах и замыслах, успехах и трудностях. Переписка с Гроздовым – одна из самых обширных в наследии Кастальского; она относится к 1901–1918 годам и насчитывает около 100 писем.
Обмен письмами между Кастальским и Асафьевым – рецензентом музыкальных сочинений и редактором статей композитора – не был столь интенсивным и носил более официальный характер. (Нам известно 21 письмо Кастальского к Асафьеву.) Тем не менее именно Асафьев после смерти Гроздова стал «творческой совестью» композитора.
Почти все выбранные для публикации письма издаются впервые. Исключение составляет лишь письмо Кастальского к Гроздову от 14 ноября 1917 года, опубликованное в журнале «Православная Русь» (Джорданвилль, 1996, № 24, с. 6). Приводим список публикуемых источников с указанием шифров их хранения:
1) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 14 марта 1917 года. ГЦММК, ф. 370, № 555.
2) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 22 марта 1917 года. ГЦММК, ф. 370, № 556.
3) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 27 марта 1917 года. ГЦММК, ф. 370, № 557.
4) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 24 апреля 1917 года. ГЦММК, ф. 370, № 558.
5) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 14 ноября 1917 года. ГЦММК, ф. 370, № 559.
6) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 1 декабря 1917 года. ГЦММК, ф. 370, № 560.
7) Письмо А. Д. Кастальского к Б. В. Асафьеву от 18 января 1918 года. РГАЛИ, ф. 2658, on. 1, № 581, лл. 15–16 об.
8) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 19 января 1918 года. ГЦММК, ф. 370, № 561.
9) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 6 марта 1918 года ГЦММК, ф. 370, № 564.
10) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 7 марта 1918 года. ГЦММК, ф. 370, №. 562.
11) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 20 марта 1918 года. ГЦММК, ф. 370, № 570.
12) Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 5 апреля 1918 года ГЦММК, ф. 370, № 563.
А. П. Смирнов Памяти А. Д. Кастальского
Кастальский скончался 17 декабря 1926 года. Отпевание происходило 20 декабря в храме Бориса и Глеба, что на Арбатской площади296. Литургию и отпевание пел хор под управлением Н. М. Данилина в составе тридцати человек. Этот хор вел свое начало от хора церкви Старого Пимена в Пименовском переулке близ Триумфальной площади; его до революции содержал меценат А. П. Каютов.
Вся певческая часть литургии этого дня состояла из произведений покойного композитора: «Единородный Сыне» № 3, Херувимская знаменная, «Верую» № 3, «Милость мира» № 1 знаменного роспева, «Достойно есть» роспева царя Феодора, вместо причастного стиха – «Благослови, душе моя, Господа» греческого роспева. На отпевании пели «Со святыми упокой», «Вечную память» и икос «Сам Един».
В канун литургии, то есть 19 декабря, в Николин день, в храме Параскевы Пятницы в Охотном ряду, где постоянно пел хор под управлением Данилина, литургию тоже пропели целиком из произведений Александра Дмитриевича, что явилось как бы репетицией предстоящей службы в храме Бориса и Глеба. Только причастный стих был здесь исполнен другой – «Апостоли, от конец совокупльшеся зде». Текст этого песнопения очень короткий, но помнится, что за время длительного причастия в алтаре оно прозвучало лишь дважды, то есть исполнялось очень медленно, на «бесконечном» дыхании, которое умел делать Данилин.
Причастный стих оказался символичным по тексту. Действительно, в вечер накануне похорон на квартиру Кастальского, где стоял гроб с телом, пришли и пропели с церковным хором А. Потоцкого две панихиды регенты Синодального хора Данилин, Голованов, Толстяков и Степанов, а также некоторые преподаватели и взрослые певчие...
На отпевании храм Бориса и Глеба был полон пришедшими почтить память любимого композитора297. К собравшимся обратился с последним словом настоятель храма Успения на Могильцах, что у Пречистенки в Мертвом переулке – протоиерей Чиннов. На воскресные литургии в этот храм приходило немало прихожан из других церквей, чтобы послушать замечательные проповеди Чиннова, а также полюбоваться благолепием храма и насладиться пением прекрасного хора, исполнявшего духовные песнопения авторов «московской школы», и главным образом Кастальского. Этим хором руководил известный впоследствии дирижер А. В. Свешников.
В храме Бориса и Глеба последнее исполнение «Вечной памяти» прозвучало в композиции покойного Кастальского, которая, как известно, заканчивается мажорным аккордом298. Траурная процессия, сопровождавшая катафалк с гробом, направилась к дому бывшего Синодального училища. Здесь теплую речь о последнем директоре училища сказал А. Потоцкий, сам «синодал». Потом катафалк остановился у входа в Московскую консерваторию, профессором которой Кастальский оставался до конца своих дней. На этот раз об учителе сердечно говорил Н. С. Голованов299. Далее катафалк, а за ним толпа почитателей таланта покойного направилась к Новодевичьему монастырю. По дороге присутствовавшие под руководством Голованова время от времени запевали «Вечную память» – тогда это еще не было запрещено.
Похоронили Кастальского на Новодевичьем кладбище, вблизи могилы профессора Мазетти. Через 27 лет неподалеку найдет вечный покой неукротимый и смелый русский дирижер Голованов, до конца своей жизни преданный Кастальскому.
Комментарии
Воспоминания «синодала» А. П. Смирнова, участвовавшего в 1926 году в похоронах А. Д. Кастальского, написаны в конце 1991 года под впечатлением прошедших в ноябре того же года чествований памяти композитора. Не будучи самой круглой датой, 185-летие со дня рождения, тем не менее, праздновалось довольно широко, поскольку за долгие десятилетия впервые появилась возможность отдать должное Кастальскому как духовному композитору и православному человеку. 28 ноября была отслужена лития на его могиле на Новодевичьем кладбище, в Издательском отделе московского патриархата состоялось собрание памяти Кастальского, по радио прозвучала специально подготовленная передача. Обо всех этих событиях тяжелобольной и уже не покидавший дома А. П. Смирнов был подробно информирован. Вскоре оказавшись в больнице, он начал воскрешать в памяти события, связанные со смертью Кастальского (очевидно, эта тема была созвучна его душевному состоянию). Навестив А. П. Смирнова по его выходе из клиники, мы получили краткие воспоминания о проводах в последний путь дорогого для всех «синодалов» «Митрича», забвение заслуг которого и его замечательной музыки, составившей эпоху в духовно-музыкальном творчестве, было больным вопросом для его учеников. Зная, что пишется исследование о Кастальском, Александр Петрович в устных беседах старался передать нам бытовавшие в его кругу представления об иерархии церковных композиторов, среди которых Кастальский был общепризнанным лидером. Он всегда подчеркивал, что творчество Кастальского, являвшееся образцом Нового направления, ставилось современниками выше церковных сочинений Рахманинова, весьма часто исполняемых в наши дни, в то время как очень трудная в исполнительском смысле музыка Кастальского оказалась незаслуженно забытой. Тема приоритетов всплывает и в воспоминаниях Смирнова о Синодальном училище, помещенных в разделе «Ученики и певчие». Там же можно найти и рассказ об их авторе.
Публикуемые воспоминания Смирнова о похоронах Кастальского воспроизводят текст авторской рукописи, в которой были сделаны незначительные редакторские изменения (автограф находится у публикатора). Первое издание этих материалов, несколько расширенных за счет включения предоставленных Смирновым сведений об исполнении сочинений Кастальского Синодальным хором (ныне они вошли в состав воспоминаний о Синодальном училище), осуществлено в сборнике: Наследие. Музыкальные собрания 1992. М., 1992, с. 69–73. Согласно желанию автора, публикация была посвящена его другу Сергею Александровичу Шумскому, «неизменному «синодалу"».
А. В. Никольский А. Д. Кастальский как композитор и как исследователь народно-русской песни
(Речь на чествовании ГИМНом памяти покойного,28 марта 1927 года)
Покойный А. Д. Кастальский представляет собой как музыкант явление не только крупное и интересное, но, в известном смысле, даже исключительное. И это – не в силу количественного богатства написанной им музыки и также не по какой-либо особой широте его творческих форм или выдающейся значительности трактованных им художественных тем. Нет, он крупен и интересен своим «стилем» или – что то же – особенностями его творческих приемов, которые в общей сложности создают ему положение композитора, резко выделяющее его из ряда всех других русских и нерусских композиторов.
Кастальский по тому, что и как он писал, оригинален с головы до ног. Его стиль есть подлинно «стиль Кастальского», так как никто другой такой манеры в музыкальном изложении не применял и не знает; в ней он – крайне своеобразен, в ней-то и его главная сила. В этом смысле Кастальский – «зачаток» некоей, доселе еще не существовавшей, но им определенно намеченной школы в творчестве, особенно вокально-хоровой.
Проследить то, в силу каких причин Кастальский вылился в столь яркую индивидуальность – это и любопытно, и поучительно, а следовательно, и необходимо.
Начавши заниматься музыкой в Московской консерватории (по окончании гимназии) в качестве пианиста, Кастальский вскоре вынужден был, однако, оставить этот путь вследствие растяжения мышц пальцевых и всей кисти – болезни, не покидавшей его до старости. Тогда он становится теоретиком и кончает (экстерном) Московскую консерваторию. В 1892 году300 он поступает преподавателем сольфеджио и фортепиано в Московское Синодальное училище, а вскоре занимает освободившуюся вакансию второго регента Синодального хора (при главном регенте, ныне тоже покойном В. С. Орлове). То были годы, когда «поэт, историк и философ крюковых знамен» С. В. Смоленский преобразовывал старейший в Москве Синодальный (бывший патриарший) хор и училище при нем, закладывая основы будущей русской академии церковного пения, каким по существу и были в период от 1895 по 1923 год Московский Синодальный хор и училище. Под влиянием Степана (так звали Смоленского все его ученики и, с особой ноткой любви к нему, А. Д. Кастальский) его соратникам постепенно, но все ясней и ясней становилась мысль, что настоящая стихия русского церковного пения – это «знаменное пение», а не традиционные, со времен еще Елизаветы, итальянские «концерты» и не немецкий хорал, занесенный к нам в 40–50-х годах прошлого столетия регентами-композиторами «львовской складки». Такая мысль овладевала сознанием работников Синодального хора и училища не сразу и не без борьбы; но они создавали вокруг себя атмосферу напряженных и пытливых исканий и толкали к опытам творчества в новом направлении, фиксируя внимание всех заинтересованных лиц на старинно русских «столпах-знаменах» как на таинственном (пока) источнике и ключе к решению вопросов, ставших тогда пред работниками в этой области.
Кастальский едва ли не более остальных оказался захвачен этим течением; сначала простое любопытство к крюкам незаметно переходит у него в полное увлечение ими, в глубокий захват. И вот, осенью 1895 года301, когда поклонение «синодалов» пред знаменами еще не ушло дальше благих пожеланий и чисто платонических проектов и программ для будущей духовной композиции, Александр Дмитриевич выступает, неожиданно для окружающих, с тремя номерами, в которых всех и сразу что-то как бы осенило и всем почувствовались ясные проблески того именно, к чему стремятся мысль и душа всех адептов нового учения. И с того дня, принесшего Александру Дмитриевичу полный и большой успех, он твердо встал на новый путь и пошел по нему, отдавшись творческой работе, которая стала впоследствии не только изобильной, но и дарящей певческий клирос чуть ли не с каждым номером образцами настоящих шедевров, неслыханных и даже немыслимых дотоле по смелости и Оригинальности стиля, а вместе и по насыщенности их духом седой, но пленящей старины русской. XV, XVI, XVII века, слегка преображенные сквозь призму современности, точно вновь зажили и озарили прелестью своих бытовых красок и душевных эмоций старой Руси! В этом мире старины московской Кастальский сумел найти и выявить бездну нового. Все, слушая его хоры, чувствовали и понимали, что такой синтез художеств, в котором сошлись и органически слились целые века, содержит в себе все лучшее, что было когда-то и что дает текущий день, являясь подлинным искусством, высшим достижением мастерства.
После семи-восьми лет работы в указанном направлении, Кастальский приходит к мысли, что знаменное пение и русская песня – «один исток имеют», будучи художественным детищем народа, являясь оба его непосредственным природным творчеством302. С 1902 года (точная дата, сообщенная самим Кастальским в его автобиографических записках) он начинает серьезно и глубоко изучать п е с н ю, не покидая крюков. Теперь его «питание» идет уже двойным путем: и как ученый, а более – как чуткий музыкант, он безошибочно нащупывает не только особенности их обоих, но и вскрытое в них другими еще недостаточно, или вовсе не подмеченное – ту художественную красоту и «правду», каких в обоих них, как говорится, непочатый угол!
Ему становится понятным и своенравие мелоса обоих, и необычность ритма в них, и формы гармонические, оригинальность которых он навыкает улавливать, как ни глубоко они скрыты в мелодике песенных и крюковых попевок. Подметивши, он тотчас переносит это в свои композиции, стараясь всячески удержать добытые красоты во всей их непринужденности и самобытности. Такие «пересадки» с течением времени, пройдя стадию различных скрещений и переплетений как их самих, так и преломления их в искусстве общекультурном, создали в конце концов тот самый язык и стиль Кастальского, какого в музыке никогда и ни у кого доселе не встречалось и какой свойственен лишь ему лично, ему одному. Немало тому же способствовал и сугубый интерес, какой питал Кастальский к Глинке и вообще ко всем композиторам его школы, особенно к «кучкистам». Им он восторженно поклонялся во всю свою долгую жизнь. По в этом не было излишества иль слепоты; наоборот, он ревниво выслеживает их «немецкие» уклоны и, не смущаясь их именами, решительнейшим образом отвергает все чужое как непригодное303.
Врагом «неметчины» в музыке русской Кастальский стал понятно почему: долгим общением со знаменами и песней, а также непрестанным в ряде лет опытом личного композиторства, он глубоко уразумел и ясно увидел, что русскому музыканту нет причин идти в хвосте Европы и уже пора, оставив ученичество и подражательность, а также ложный стыд за «мужицкое», совершить то самое, что сделал в свое время Пушкин: если тот, очистив русский язык от галлицизмов и устарелых славянских оборотов, ввел его в искусство, как равноправный с прочими языками образованных наций, то и здесь надо дать столь же полное художественное гражданство тому же языку. Кастальский был убежден, что мощь и своеобразие этого языка, рожденного от песни и крюков, способны поистине оживотворить искусство звуков, влив в него новые здоровые соки, и тем открыть для него новые пути и новые горизонты. Таким образом, вражда к «колбасничеству» в музыке (выражение самого Александра Дмитриевича) не была проявлением якобы квасного патриотизма, того менее – политиканства, смешанного с шовинизмом во имя «собственной колокольни»; это был выношенный годами ответ-протест на засилье в нашей музыке западничества, – засилье при наличии богатейших ресурсов, заложенных и данных в творчестве народного мастерства. По этой причине и в этом именно смысле Кастальский был необыкновенно твердым и стойким проводником всего русского в своих музыкальных сочинениях и трудах.
Духовно-музыкальные сочинения Кастальского составляют большую часть оставленного им композиторского наследства. Но ставить это ему в минус не следует и нельзя. Взятые вне отношения их к клиросу и рассматриваемые объективно, эти сочинения представляют не только количественно огромное, но и качественно богатейшее собрание художественных миниатюр, где блестящие этюды, порою только наброски, соседят с массой вполне законченных картин, хотя и не больших, но поражающей силы и выразительности, где на каждом шагу рассеяны целые десятки и сотни новых неслыханных «слов», являющихся истинным музыкальным откровением. Заупокойная стихира «Сам Един еси» Кастальского – это русский парафраз (хотя и предельно сжатый) моцартовского Requiem’a по вдохновенности и жуткой экспрессивности. «Благообразный Иосиф» равен полотнам тех художников кисти, кои стали «мировыми» за свои «распятия» и «положения во гроб умершего Иисуса». Любое из трех «Верую» способно изумить всех и каждого мастерством «иконописной мозаики», гениально использованной Кастальским для этого обширного текста в манере сборных святцев-месячников с сотней ликов святых. Во всем этом для музыканта не столько важно то, о чем поет, сколько как именно поет творец этих картин. А в том, как Кастальский «пел» – он был высокой марки мастер! Вот это-то и ценно, вот это-то и нужно для искусства и его прогресса. В этом- то смысле духовно-музыкальные сочинения Кастальского суть бесспорный плюс, а не какой-то минус или ляпсус его как художника.
В светских своих композициях и хорах, в опере «Клара Милич», в «Крестьянской симфонии»304, в сюите для фортепиано «Из глубины веков» и другом Кастальский, естественно, дал большой перевес (пред крюками) песенным влияниям. Но особой высоты, той именно, на которую он поднимался в своих духовных композициях, он не достиг здесь, за исключением, впрочем, сочинений для хора...
Кастальский был мастером, и притом несравненным мастером вокального хорового ансамбля. Уменье писать хоры выручало его и накладывало свой яркий оттенок и на обработки для ансамблей народных инструментов. Повторяем, в этом была его настоящая стихия, в которой он оказался на предельной высоте.
Итак, Кастальский жил и работал под двойным воздействием: знамен и песен. От них – его «не как у всех» мелодия, дышащая отзвуками давно прошедших, всегда чем-то влекущих к себе времен; от них – необычная гармония Кастальского, где то и дело поражают смелые и неожиданные обороты и сопоставление ступенных аккордов в стиле песнотворчества старинных мастеров; от них – причудливая ритмика, явно подслушанная Кастальским у песен, выслеженная в крюках, как ни глубоко она в них замурована, всегда напоминающая то простонародную песенную речь, то величавую суровость иконописных сюжетов; от них и формы сочинений в целом, столь далекие у Кастальского от общепринятых и несколько шаблонных рамок, хотя эстетически им и не противоречащие.
Кастальский вырос и стал тем, что он есть – из знамен и песни. Вот в чем объяснение его особого стиля, его несхожести с другими русскими композиторами, его беспримерности. Придет время, оригинальность Кастальского будет понята лучше, шире и оценена по достоинству; тогда Кастальский как композитор станет таким же знаменем для своих учеников и последователей, каким для него служили русские крюковые знамена. В этих чаяниях заключается ручательство сбыточности мечтаний и веры Александра Дмитриевича о полном одолении русской манеры в музыке, которая наверно приобретет себе место и общее признание и распространение наряду с другими. <...>
Комментарии
Публикуемая речь композитора и историка музыки А. В. Никольского – ученика Кастальского по Синодальному училищу – была написана 25–27 марта и прочитана 28 марта 1927 года на заседании ГИМНа, посвященном памяти Кастальского. В Этнографическую секцию ГИМНа, сотрудниками которой были и Кастальский и Никольский, вошли многие другие члены дореволюционной Музыкально-этнографической комиссии (МЭК), знавшие и ценившие заслуги их ушедшего из жизни коллеги. (Информацию об этом заседании см.: Никольский А. Публичное заседание и концерт ГИМНа, посвященные памяти А. Д. Кастальского // Музыкальное образование, 1927, № 3–4, с. 65–66). Выступление Никольского содержало в себе не только оценку вклада его учителя в русскую этнографию, но и точный анализ новаций Кастальского в области церковной музыки. Эту часть не публиковавшегося до сих пор доклада Никольского было сочтено целесообразным поместить в настоящем сборнике. Она воспроизводится по авторской рукописи, хранящейся в ГЦММК (Ф. 234, № 382, л. 9 – 11 об.). Более подробные сведения о самом Никольском можно найти в разделе данной книги: А. В. Никольский. Письма к К. И. Балашевой. Музыкальные заметки..
* * *
Письмо С. В. Смоленского к Н. И. Соболевскому от 9 сентября 1901 года. РГАЛИ, ф. 449, on. 1, № 592
РГИА, ф. 1119, оп. 1, №117.
РГАЛИ, ф. 427, on. 1, № 1253.
Письмо П. П. Сувчинского к С. С. Волковой от 1917 года. РГАЛИ, ф. 723, on. 1, №67.
Письмо А. В. Преображенского к С. С. Волковой от 1 мая 1919 года. РГАЛИ, ф. 723, on. 1, № 61.
Письмо П. П. Сувчинского к А. В. Преображенскому от 1919 года. РГИА, ф. 1109, on. 1, № 116.
Письмо С. С. Волковой к Н. Ф. Финдейзену от 1 мая 1928 года. РНБ, ф. 816, оп. 2, №1231.
В фонде Асафьева в ГЦММК (ф. 171) хранится также письмо В. В. Яковлева от 12 июня 1927 года, в котором Василий Васильевич сообщает, что получил предложение готовить к печати театральные и музыкальные мемуары для издательства «Academia» и собирается, в соответствии с решением комиссии ГАХН, начать с «Воспоминаний» Смоленского. Яковлев указывает также, что рукопись будет печататься с сокращениями и работа распределена между несколькими сотрудниками: казанский период – Ю. С. Никольский, московский – С. С. Попов, петербургский – С. С. Волкова под общей редакцией Яковлева. Этот план не был осуществлен.
Речь идет о первых четырех томах «Дневников», которые охватывают период 1889–1903 гг., то есть время службы Смоленского в Синодальном училище и в Придворной певческой капелле.
Чудовские певчие – хор митрополита Московского, созданный в середине XVIII века и получивший свое название по кремлевскому Чудову монастырю, в котором тогда находилась резиденция московских архиереев. Вплоть до конца XIX века Чудовский хор считался лучшим в Москве. Федор Алексеевич Багрецов был певчим, солистом, а потом регентом этого хора; при нем слава чудовских певчих достигла наивысших вершин. Багрецов сочинял церковную музыку, устраивал духовные концерты. (См. о нем также в разделе сборника, посвященном В. С. Орлову.
При И. Д. Бердникове, который сам в детстве пел в Синодальном хоре и затем отдал училищу 28 лет жизни, началось формирование Синодального училища как самостоятельного учебного заведения со своей образовательной программой. Как говорится в объяснительной записке к проекту устава училища, составленному в 1881 году (не утвержденному), до Бердникова «Синодальный певческий хор и состоящее при нем училище составляли одно целое. Инспектор хора наблюдал за поведением взрослых и малолетних певчих; на наем трех учителей по штату 1857 года назначено было 450 рублей в год, но за скудостью этого вознаграждения в училище был только один преподаватель; для классных занятий была отведена одна только комната, хотя воспитанники и подразделялись на четыре класса...» (Металлов, с. 17). При Бердникове в училище появились преподаватели и врач, был открыт приготовительный класс в дополнение к четырем имевшимся. Металлов называет этого инспектора училища «просвещенным и энергичным руководителем», который уделял особое внимание дальнейшим судьбам малолетних певчих. Тем не менее кончина Бердникова была печальной.
Смоленский вспоминает: «В Синодальном училище долго хранилось предание о «темненькой», которую сделали с инспектором – добродетельнейшим Иваном Дмитриевичем Бердниковым, в которой, как говорил мне один из имевших несчастье участвовать... в этом злодеянии, приняли участие даже взрослые певчие Синодального хора. История эта, о которой мне также рассказали В. С. Орлов и А. Г. Полуэктов, была, конечно, потушена, как очень многое, была так жестока, что будто бы именно вследствие этой дикой и преступной расправы почтенный старец вскоре умер. Историю эту, конечно, потушили и замяли, а портрет Бердникова повесили. В надписи под портретом Бердникова указаны и день юбилея, и день его скорой после того кончины. <...> «Темненькая» состоит в том, что ночью человек 5–6 придерживают одеяло на спящем ученике; один упирает голову страдальца в подушку, чтобы не было слышно крика, остальные свободной от одеяла рукой бьют его сквозь одеяло чем и как попало и затем, по условленному знаку, разом разбегаются во все стороны. Это есть один из самых страшных товарищеских самосудов, редко обнаруживаемых и обставляемых с большою осторожностью» (Воспоминания, том 1, л. 246 об. – 247).
В рукопись «Воспоминаний» между лл. 246 и 247 вклеена написанная рукой Смоленского биографическая справка о Бердникове, из которой явствует, что под «юбилеем» подразумевается 25-летие его службы в Синодальном училище (7 сентября 1853 – 7 сентября 1878), а «портрет его поставлен в рекреационном зале училища при хоре синодальных певчих в память его заслуг на основании указа св. правительствующего Синода от 1 сентября 1880 года», то есть через несколько месяцев после смерти Бердникова (7 января 1880).
В 1880 году, после кончины Бердникова, инспектором Синодального училища был назначен преподаватель греческого языка Петр Семенович Соколов; Н. Ф. Добровольский, служивший до того «младшим учителем», был перемещен на должность «старшего учителя». Инспектором Добровольский стал, по инициативе Шишкова, в 1885 году, после ухода Соколова. Сразу же Добровольский предпринял весьма показательные шаги: он настоял на исключении из программ училища введенных Бердниковым игры на скрипке и теории музыки (восстановлены в 1887 году). По утверждении нового штата училища в июне 1886 года Добровольский стал директором (утвержден в этой должности в октябре того же года), должность инспектора оставалась вакантной, пока не была совсем упразднена.
В декабре 1885 года Смоленский был вызван в Петербург министром народного просвещения И. Д. Деляновым и К. П. Победоносцевым для участия в комиссии по обсуждению программ пения для городских училищ и духовных учебных заведений. Тогда же ему впервые было предложено место директора Синодального училища
При утверждении нового штата училища в 1886 году указано было «существующий ныне обычай Синодального хора петь по вольному найму в приходских церквах и при разных обстоятельствах прекратить, за исключением чрезвычайных случаев, особо каждый раз разрешаемых управляющим» (Металлов, с. 35); компенсацией должно было стать повышение жалованья певчим, но оно оказалось недостаточным.
«Что касается Добровольского, то характерно его мнение о реформе 1886 года, зафиксированное в дневниковой записи Смоленского: «Синодальное училище в прежнем виде», – сказал Добровольский, – было сходно по программе с обыкновенным духовным училищем, и потому отсюда был выход в духовную семинарию. С преобразованием училища этот выход прекратился, и самое училище установлено до того глупо, бесцельно и неопределенно, что оно есть nonsense и скоро должно обнаружиться во всей своей несостоятельности. Уже теперь видны следы его полного разложения. Погубили училище, с ним вместе погубили и хор.
– Как же вы, – возразил я, – отрицая в принципе вверенное вам заведение, служили ему три года?
– Куда же мне деться? Мне ведь есть надо, – ответил Добровольский». (Дневник, том 1, л. 2.)
С приходом Смоленского имя Добровольского не исчезает окончательно из летописи Синодального училища. В 1907 году, после кончины директора Орлова, Добровольский подал прошение о своем возвращении на этот пост. Но прошение, поданное 16 ноября, опоздало: 22 ноября директором был назначен Кругликов.
Эпизод в кавычках перенесен в текст «Воспоминаний» из «Дневника» (том 1, л. 14), поскольку в «Воспоминаниях» он изложен менее подробно. В «Дневнике» Смоленский пишет также, что уже в первый год своего директорства он устроил регулярные «музыкальные ученические вечера»: «На этих вечерах мною контролировались успехи учеников, – ученики приучались к более тщательному приготовлению ответов и находчивости при публике <...> Сначала такие вечера были ужасны по исполнению и слабости программы, ныне мы уже слушаем более толковые исполнения, и требования возвышены до неузнаваемости» (там же).
Организовав ученический оркестр, Смоленский вскоре укрепил его редким энтузиастом своего дела – Анатолием Александровичем Эрарским. «...Услыхав весною 1890 года о его деятельности и о его мысли о детском оркестре, я отправился на Тверскую, где было тогда «Пушкинское общество искусства и литературы», и прослушал там его оркестр... чтобы хорошенько вглядеться, приходил еще три- четыре раза. Когда я завел у себя «Гайдновскую детскую симфонию», которою дирижировал, стоя на табурете, мальчик М. Крылов на первой у нас училищной елке (январь, 1890 год), я понял, что мне нет времени и у меня нет того кроткого упрямства, с каким ведет свое дело Эрарский. Весною 1891 года Эрарский прислал мне билет в свой концерт, и я пришел в сущий восторг от первой половины его концерта и тут же, в антракте, пригласил его перекочевать к нам со всеми своими артистами, суля отличный для него струнный полный оркестр. <...> Много труда стоило мне расчистить почву для нашего детского оркестра в понятиях Шишкова, он все гнул на «Отче наш» и «Под Твою милость» (Дневник, том 1, л. 37).
Не практиковавшиеся в Синодальном училище деревянные духовые Эрарский заменил клавишными органчиками собственной конструкции, имевшими тембровое сходство с флейтой пикколо, большой флейтой, гобоем, кларнетом и фаготом. По заказу были сделаны детские диатонические трубы; вводились ударные инструменты и фортепиано. Оркестр исполнял сочинения Шопена, Грига, Лядова, Аренского, Чайковского в специальных инструментовках Эрарского.
Оркестр стал гордостью училища. Его слушал Чайковский, 25 апреля 1893 года Танеев «отлично прорепетировал скерцо своей симфонии для детского оркестра, удивив ребят своим слухом и знаниями» (Дневник, том 1, л. 76).
В 1895 году Эрарский тяжело заболел, и после его кончины оркестр прекратил существование. Смоленский посвятил этому музыканту статью «Памяти Анатолия Александровича Эрарского» (РМГ, 1897, № 12; была выпущена также отдельной брошюрой). Хлопотами Степана Васильевича на могиле Эрарского на Пятницком кладбище был установлен памятник с надписью: «Основателю первого в России детского оркестра» (памятник сохранился до наших дней).
8 марта 1893 года Чайковский возвратил тетрадь Алексея Петрова с письмом следующего содержания:
«Многоуважаемый Степан Васильевич! Возвращаю при сем тетрадь контрапунктических работ А. Петрова, которую я просмотрел с великим удовольствием. Хвала и честь вам и Василию Сергеевичу! Я вынес из вчерашнего посещения вас самое отрадное впечатление». (Чайковский П. И. Поли. собр. соч., т. 17. М., 1981, с. 60.)
В. С. Орлов преподавал в училище контрапункт с марта 1892 года.
О глубинных причинах, тормозивших утверждение нового устава, говорится в целом ряде дневниковых записей Смоленского:
от 27/28 декабря 1890 года: «Вчера читал я письмо К. П. Победоносцева к А. Н. Шишкову о нашем училище. Митрополит [Иоанникий] провалил в Синоде проект устава нашего училища, говоря, что у нас «духовного мало». Он говорит о нас с яростью, что его «знать не хотят». Амвросий [Харьковский] предлагал похерить все и вернуться к старому духовному училищу» (Дневник, том 1, л. 27);
от 25 ноября 1891 года: «Наконец-то мы расстались со столь не терпящим наше училище митрополитом Иоанникием (переведен в Киев). Неужели новый владыка Леонтий будет таков же?» (Там же, л. 41);
от 1 февраля 1892 года: «Я снова в большом волнении из-за устава. <...> Иоанникия более нет, но атмосфера осталась, конечно, с теми же святыми испарениями и с теми же претензиями святителей. Снова раздались голоса о надобности попа вместо меня, даже монаха» (Там же, л. 47);
от 7 февраля 1892 года: «Наконец, с приездом Саблера, ревизующего здесь «пещь огненную», то есть консисторию, вопрос об уставе нашего училища был поставлен на очередь и предварительно обсужден в частных совещаниях митрополита Леонтия, В. К. Саблера и А. Н. Шишкова. На новом месте совещаний (в Москве, через год и без Иоанникия) все-таки вспомнили о надобности дать те козыри в руки попов, какие и не требовались. Предпочли идти сами навстречу им. С этой целью существующий фиктивно Наблюдательный совет решено переполнить попами, членами Московской Синодальной конторы, «знатоками» церковного пения из попов же, чтобы оправдать заглавие «Синодальное училище церковного пения». Двоих (начальствующих надо мною) из таких членов мне навязывают в заведующие учебною и музыкальною частью. <...> Митрополит же, кроме того, и почетный покровитель училища. Я, конечно, напряг все силы, чтобы парализовать такое направление дела, и объяснил Саблеру и Шишкову всю нелепость таких непрошеных уступок» (Дневник, том 1, л. 50).
Наблюдательный совет при Синодальном училище был учрежден в 1886 году. В состав его, кроме директора, регента, помощников регента и некоторых преподавателей музыкальных дисциплин, должны были входить «знатоки древнего церковного пения», приглашавшиеся управляющим. Среди крупных «светских» музыкантов членами Наблюдательного совета в разное время были Чайковский, директоры консерватории Н. А. Губерт, Танеев, Сафонов, а также Аренский, Кругликов, Василенко и другие. Совет имел широкие полномочия. Он должен был следить за учебными делами, репертуаром и состоянием Синодального хора; заниматься «изысканием и обсуждением мер к охранению и распространению древних напевов православной русской церкви в их первоначальной чистоте и неповрежденности; обсуждением вопросов и предложений по церковно-музыкальному делу, предлагаемых управляющим» (Металлов, с. 41). На Совет возлагались также присмотр за московскими частными церковными хорами и цензура новых духовно-музыкальных произведений. В более поздний период предполагалась даже издательская деятельность.
О работе Наблюдательного совета в годы директорства Смоленского см. ниже в «Воспоминаниях». Подробнее деятельность этого учреждения будет освещена во втором томе настоящего сборника.
До московской службы Шишков был управляющим акцизными сборами во Владимире; подробнее биографию Шишкова см. в кн.: Косаткин В. А. Н. Шишков. Биографический очерк. Владимир, 1909.
С С. И. Миропольским и Д. Н. Соловьевым, членами Учебного комитета Синода, Смоленскому приходилось время от времени сталкиваться. В частности, по поводу Миропольского, автора жестоко раскритикованной им программы церковного пения для духовных учебных заведений, Смоленский писал: «Человек он способный, увлекающийся, бойко пишущий, иногда весьма патетично, – но невозможный флюгер, ибо проповедует, плывя по течению. <...> Припоминаю и И. Д. Делянова, сказавшего мне, что если бы обер-прокурор случился не верящий в Бога, то Миропольский написал бы о том руководящую статью». (Письмо Смоленского к С. А. Рачинскому от января 1887 года // РПБ, ф. 631.)
«Помощник регента Николай Иванович Соколов был также очень типичной фигурой регента львовской выучки, отличный практик, очень плохой музыкант, пожалуй, и совсем неуч, но считавший за собою многие достоинства, выражавшиеся в забавно-министерской физиономии этого сущего холопа, но в известных случаях гордого и злого. <...> Лентяй он был прямо номер 0. Он способен был проводить часовые спевки, решительно ничего не делая, болтая зачем-то о септаккордах, задержаниях и тому подобном перед певчими, не знавшими нот. При таких беседах он сам, видимо, слушал себя, любовался собой и был от того совершенно пошл и противен. Попавшись в разных гадостях, он заставил Шишкова выгнать его, наконец, из Синодального хора. Некоторые его сочинения: «Милость мира» (b dur), «Ныне отпущаеши» (соло тенора с хором), – были любимы в Москве. Они отлично звучат, но не более» (Воспоминания, том I, л. 242 об.).
С уходом из училища в 1886 году регента Д. Г. Вигилева на его место, в обход первого помощника регента Соколова, заступил В. С. Орлов. Имевший в Москве репутацию серьезного музыканта Орлов был поддержан ходатайствами Чайковского, обращенными к Победоносцеву и Шишкову. См. подробнее в разделе сборника, посвященном Орлову.
Официальные занятия Орлова с Танеевым прекратились ввиду размолвки Смоленского с директором консерватории Сафоновым из-за преподавателя скрипичной игры Д. Г. Григорьева. «Поводом к стычке, – пишет Смоленский, – были два обстоятельства: невозможность для г. Григорьева участвовать в симфонических собраниях (дирижировал Сафонов), так как время их репетиций совпало с уроками г. Григорьева в Синодальном училище, и начавшиеся в классе Танеева занятия регента Орлова в консерватории. Сафонов, не разобрав дела, вздумал накричать на меня приблизительно так: «Если вы будете мне мешать пользоваться услугами Григорьева, которыми я дорожу, то, кроме того, что я сделаю по-своему, я выгоню Орлова вон из консерватории». Я помню, что я был страшно взбешен и оскорблен этою дерзостью, тем более что на мое желание объяснить Сафонову, в чем дело и в чем его ошибка, я вновь услыхал: «Мне не об чем с вами говорить». Последовавшее после этого мое приглашение Сафонова в мой кабинет было так внушительно, что Сафонов не решился не принять это приглашение и должен был тут же выслушать от меня надлежащее поучение. Случайно вошедшему Танееву я объяснил, к полной досаде Сафонова, угрозу выгнать Орлова из консерватории, и бедный Сафонов получил прибавку еще и от Сергея Ивановича. После этого случая я вполне расстался с В.И. Сафоновым» (Воспоминания, том I, л. 227).
Сафонов, однако, остался членом Наблюдательного совета, в котором состоял с 1889 года. Занятия же Орлова с Танеевым продолжались частным образом, и притом весьма успешно.
«Дело устроилось внезапно таким образом. После моей поездки в Петербург, где я познакомился с очень многими, я принял участие в редакционных работах Московской Синодальной типографии по изучению нотных певческих книг. Я взял на себя поверку нотного текста Октоиха знаменного роспева и составление новой книги «Трезвоны» (то есть певчие службы на малые праздники). Когда Октоих начали печатанием, Синодальная типография вызвала меня в Москву, и я выехал туда немедленно по окончании учебных занятий в семинарии около 20 декабря 1888 года. Переписываясь с о. Д. В. Разумовским и с моими московскими протоиереями, я уже знал о безнадежной болезни маститого Дмитрия Васильевича и не без тайной надежды подумывал о профессуре в консерватории. Приехав в Москву, я навестил болящего старца, но меня не допустили к нему, так как доктора не позволяли никаких посещений больного. Спустя несколько дней, 2 января 1889 года, знаменитый профессор скончался, и я был на его похоронах. <...> Бегая по музеям и библиотекам, работая в типографии, посещая Львовых... оперу, я отписывал в Казань все мои ежедневные впечатления. Описанием грандиозного зрелища крестного хода на Москва-реку было наполнено письмо 6 января 1889 года и отправлено в полтора часа дня в ящик. Едва я расположился выпить стакан чая (а жил я в Большой Московской гостинице, против Иверской), как вошел ко мне прокурор Синодальной московской конторы Андрей Николаевич Шишков (он же и управляющий Синодальным хором и училищем) и сказал: «Я совершенно разбранился с директором Синодального хора Добровольским и приказал ему подать в отставку; теперь все неудобства, бывшие при первом моем вам предложении года три назад, устранены, и я приглашаю вас вновь занять это место на таких же условиях. Утешьте меня, старика! Я знаю, что вы отлично знаете это дело и обещаю вас спокойную, хорошую службу. Скажите мне прямо: «да!» Я ответил ему тут же: «На условиях, которые я сейчас от вас слышал, я говорю вам без колебания: да, я согласен"». Мы тут же ударили по рукам, и Шишков ушел, обещая сейчас же написать Победоносцеву.
Не прошло и десяти минут после ухода Шишкова, как в мой номер постучались, и я пригласил войти какого-то совершенно неизвестного мне господина. «Я профессор и директор Московской консерватории Танеев и имею к вам дело», – сказал пришедший. Я, конечно, объяснил, что, хотя и никогда не видал Сергея Ивановича, но отлично знаю, кто и каков он, почему и сердечно рад видеть у себя такого более чем дорогого гостя. Сергей Иванович объяснил мне, что в предсмертных беседах покойного о. Д. В. Разумовского было высказано им положительное его желание, чтобы после его кончины консерваторская кафедра истории церковного пения в России была передана именно мне, и что он, Танеев, ввиду заседания Художественного совета вечером сегодня, зашел спросить у меня, узнав о моем пребывании в Москве, согласен ли я, несмотря на гонорар за одну только лекцию в неделю в 100 рублей в год, быть профессором консерватории и преемником Разумовского. Я пригласил Сергея Ивановича выслушать, что, вероятно, судьба устраивает меня в Москве, так как не более четверти часа назад я ударил по рукам с Шишковым; что я считаю для себя за великую честь быть профессором Московской консерватории и преемником знаменитого профессора как бы по его духовному завещанию, почему без всякого колебания заявляю ему вместе с выражениями моего полного согласия и выражения моей глубокой признательности за оказанное мне доверие. Так я сегодня доложу совету и, уверенный в его несомненном сочувствии вам, могу приветствовать в вас моего будущего товарища? – сказал Сергей Иванович, протягивая мне руку. <...>
Между тем в деле о моем переезде в Москву сплелся толстейший узел темных интриг, из-за которых хлопоты А. Н. Шишкова едва-едва не кончились полною неудачею. Началось с того, что к 1 января 1889 года Шишков выхлопотал крест на шею бывшему директору Добровольскому, а 6 января сделал представление об увольнении его же за негодностью. Нашлись люди, вступившиеся по счетам с Шишковым за вполне неизвестного им Добровольского, завопившие в надобной последовательности действий, об охране Синода от самодуров, живущих вне Петербурга, о надобности дать время Добровольскому (это через три-то года!), чтобы доказать свою неспособность быть директором (?!) и т. п. Короче сказать, только 22 июля, по депеше Шишкова, я сел на пароход в Казани, чтобы ехать в Москву, но уже прямо на Никитскую улицу в дом Синодального училища, что стена об стену с консерваторией» (Воспоминания, том I, л. 216–218 и 220–221).
Примечание Смоленского: Письмо Чайковского к Шишкову с рекомендацией Орлова в регенты Синодального хора попало в мои руки в подлиннике и по кончине Чайковского было помещено, вместе с печатным оттиском всего его текста, в первую витрину вместе с портретом и другими автографами Петра Ильича. Это замечательное и очень большое письмо есть ряд мыслей Петра Ильича о значении прошлого и желательном направлении будущего русского церковного пения. Вторая витрина, с первоначальными автографами «Был у Христа младенца сад» и «Отче наш», а равно и с письмами Чайковского ко мне, была устроена мною в Синодальном училище позднее. Вообще только с удалением Шишкова удалось мне хотя немного и исподволь знакомить Москву с сочинениями Чайковского. Из-за покушения моего пропеть за одною из наших раутов-всенощных некоторые сочинения Петра Ильича вышел целый скандал с Шишковым.
Имеется в виду история судебного разбирательства иска директора Придворной капеллы Н. И. Бахметьева к издателю П. И. Юргенсону, который напечатал Литургию св. Иоанна Златоустого соч. 41 Чайковского без цензурного разрешения на то главы Капеллы. Тяжба завершилась в пользу Юргенсона и имела результатом ограничение монополизированных Капеллой прав на цензуру духовно-музыкальных сочинений. Это имело очень большое значение для развития духовно-музыкального творчества. Однако сама Литургия Чайковского достаточно продолжительное время не допускалась к исполнению за богослужениями, что весьма огорчало ее автора (например, ее не разрешили исполнить в 1881 году во время отпевания Н. Г. Рубинштейна). Этот запрет отпал сам собой только после смерти Чайковского.
Судебный процесс был описан Смоленским в статье «О Литургии, ор. 41, соч. Чайковского (из литературно-юридических воспоминаний)» (РМГ, 1903, № 42/43). К моменту написания этой статьи Литургия, по указанию Смоленского, оставалась «до сих пор официально не одобренною для употребления за богослужением». В «Дневнике» Смоленский отметил: «Не без гордости записываю, что Синодальный хор всегда знал при мне Литургию Чайковского и помянул ее исполнением покойного Петра Ильича в третий, девятый, двадцатый, сороковой и полугодовой дни в 1893 году, поминая затем ежегодно этого великого человека в храме Большого Вознесения около 25 октября, и именно исполнением Литургии его сочинения, прибавляя к ней его же запричастный стих «Блажени, яже избрал»» (Дневник, том 2, л. 50).
По-видимому, в этом фрагменте смешаны разные факты. «Знаменитый фельетон об унижении духовенства», написанный петербургским критиком и композитором, профессором Петербургской консерватории Н. Ф. Соловьевым, относится не к опере Чайковского «Кузнец Вакула» (во второй редакции – «Черевички»), а к опере Римского-Корсакова на тот же сюжет, то есть «Ночи перед Рождеством», поставленной значительно позже, в 1895 году.
В рецензии Н. Ф. Соловьева, опубликованной петербургской газетой «Свет» 1 декабря 1895 года, говорилось, в частности: «В опере Римского-Корсакова выступает такой элемент, с которым никак нельзя согласиться. В святую ночь, когда весь христианский мир ликует, когда ангелы при рождении младенца пели: «Слава в вышних Богу», явилась звезда... о которой поется в церкви. Как же изображены моменты этой святой ночи в опере г. Римского-Корсакова? Звезды отплясывают балетные танцы – это факт, а звезда является в виде красивой дамы и проходит по сцене. Дьяк, у которого в голове роятся самые игривые мысли при виде Солохи, поет такую музыку и произносит фразы в таком церковном стиле, что невольно вспоминается благоговейное пение монастырей. <...> Всякий православный согласится, что сцена существует не для того, чтобы самым бесцеремонным образом оскорблять то, что для него так дорого».
В письме к Кругликову Римский-Корсаков констатировал: «В газетах идет травля на мою оперу, а мерзавец Соловьев пишет... доносы в духе религиозного и православного лицемерия» (Римский-Корсаков Н.А. Поли. собр. соч., том VIII. М., 1981, с. 247).
Любопытно, что вскоре после ухода Смоленского из Капеллы Н. Ф. Соловьев стал там помощником управляющего.
Письмо Шишкова к Чайковскому неизвестно.
Примечание Смоленского: Семен Николаевич Кругликов – очень толковый музыкант, отличный мастер в преподавании гармонии и вполне добрый, порядочный, благовоспитанный человек, был преподавателем в Филармоническом училище и затем одно время его директором. В 1894–1898 преподавал гармонию в Синодальном училище, но ушел потому, что Ширинский-Шихматов вздумал потребовать от него диплом, чтобы увериться в его познаниях... Кругликов был в это время директором Филармонии [то есть Филармонического училища]. Позднее они как-то помирились, так как Ширинский-Шихматов понял, что он хватил через край, и Кругликов продолжал свою прикосновенность к Синодальному училищу, состоя членом Наблюдательного комитета.
С. Стамболов вместе с немецким принцем Фердинандом I Кобургским находился у власти в Болгарии с 1887 по 1894 год и проводил враждебную Россию политику. Установленный им диктаторский режим вызывал недовольство болгарского общества. Новое правительство страны восстановило в 1896 году дипломатические отношения с Россией.
Сергей Александрович Рачинский, один из самых образованных людей своего времени, человек, принадлежавший к высшему московскому обществу, в возрасте тридцати трех лет отказался от профессорской кафедры в Московском университете, чтобы посвятить себя учительству в созданной им школе для крестьянских детей в семейном имении Татево Смоленской губернии. В дневниковых записях Смоленский называет своего друга Рачинского «монахом в миру».
Крестный ход вокруг Кремля в память избавления Москвы от вражеского нашествия в 1812 году совершался во второе воскресенье октября.
В творчестве композиторов Нового направления представлено множество обработок любимых в Москве сравнительно поздних напевов Херувимских песен и иных песнопений местной традиции. Например, Кастальский переложил роспевы Херувимских песен «софрониевской», «старо-симоновской», «на разорение Москвы» (иначе– «разоренной»), «владимирской», «Московского Успенского собора», «Милости мира» – «Ипатьевской» и т. д.; у П. Чеснокова есть переложения Херувимской «на Радуйся», «стрелецкой», «на Видя разбойник», «софрониевской», «симоновской» И т. д.
Евангельские стихиры А. Г. Полуэктова не были изданы, и местонахождение рукописи нам неизвестно.
Имеется в виду Дмитрий Николаевич Соловьев – автор духовных композиций и учебников по церковному пению. Он преподавал латынь и пение в ряде петербургских учебных заведений; с 1892 года состоял председателем Комиссии для обсуждения вопросов о постановке преподавания музыки и пения в средних учебных заведениях Министерства народного просвещения; с 1896-го – директором канцелярии обер-прокурора Св. Синода. Соловьев часто выступал в прессе; в его работах «Краткое руководство к первоначальному изучению церковного пения по квадратной ноте» и «Азбука хорового пения с практическими упражнениями и краткой хрестоматией» большое внимание уделяется древним роспевам.
Смоленский являлся крупным знатоком старообрядческого пения и был знаком, по собственному признанию, с полусотней общин разных согласий. О Карповской моленной в Казани он подробно рассказывает в «Воспоминаниях». Приводим небольшой фрагмент: «...Мое желание выучиться петь по крюкам... привело меня... к знакомству с весьма известными в старообрядчестве членами причта Карповской в Казани моленной «австрийского священства», особенно же с Артемием Прокопиевичем Пичугиным, превосходным певцом по крюкам. Я начал у него учиться после того, как в их кругу угомонились обо мне толки как о каком-то чиновнике, может быть, и шпионе, который интересуется пением старообрядцев. <...> Обосновавшись на, так сказать, переполнении себя звуками знаменных мелодий, на полном и твердом их знании наизусть, по слуху, я сейчас же осмыслил для себя в совершенной ясности все тонкости знаменной нотации. Уроки мои с Пичугиным прекратились. <...> «Чего мне тебя учить, – сказал милейший Артемий Прокопиевич, – ты вона какой стал, кабы не твоя трубка (то есть куренье), так и совсем бы к нам в попы – хороший бы поп из тебя вышел"» (Воспоминания, том 1, л. 207– 208).
В предисловии к изданию «Азбуки» Александра Мезенца Смоленский выразил благодарность за помощь представителям казанского старообрядчества. Переехав в Москву, он быстро завязал отношения с московскими старообрядцами; позже, после 1905 года, неоднократно выступал в старообрядческих изданиях. И после ухода Смоленского из Синодального училища там поддерживались дружеские отношения со знатоками древнего пения из старообрядчества, вплоть до предоставления зала для концертов старообрядческих хоров.
В тексте упоминается одна из самых известных в Москве той эпохи молелен старообрядцев белокриницкого согласия, которая располагалась в доме И. И. Шибаева в М. Гавриковом переулке. Позже, в 1911 году, здесь был возведен великолепный храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Имеется в виду сборник «Musica sacra. Sammlung bcriihmler Kirchenchore herausgegcben von A. Dorffel mit Vortragsbezeichungen von C. Riedel» – сборник известных церковных хоров под редакцией А. Дёрфеля с пояснениями К. Риделя в двух тетрадях: первая – сочинения на латинском языке, вторая – на немецком языке. Сборник был выпущен Лейпцигской фирмой «Peters».
Из дневниковой записи Танеева от 6 ноября 1900 года: «В половине шестого поехал в Синодальное училище слушать h moll’ную мессу Баха. Немножко опоздал. После исполнения играл некоторые места Василию Сергеевичу Орлову и высказывал свое мнение об оттенках» (Танеев С. И. Дневники, том 2. М., 1987, с. 207).
Filioque (лат.) – догмат католической церкви, утверждающий исхождение Св. Духа не от Отца, как в православном учении, а от Отца и Сына. – Сост.
При самом начале преобразований в училище и хоре Смоленский, по его собственным словам, оказался «окруженным целым сонмом обозленных людей, которых или прогнал из хора или не отдал которым надлежащего почтения». В газетах стали появляться анонимные заметки. Одну из них, напечатанную 28 декабря 1890 года в петербургской газете «Гражданин» под заглавием «Для кого существует Синодальный хор?», Смоленский характеризует в «Дневнике» как написанную «весьма полуграмотно и ядовито-зложелательно»: «Я советовал А. Н. Шишкову пренебречь этою заметкой как написанною, очевидно, пристрастным человеком. Андрей Николаевич думает, что такую заметку написали или Гнусин (певчий Синодального хора), или бывший наш певчий Добровольский» (Дневник, том 1, л. 27).
О наиболее агрессивном из критиков реформ – Г. Г. Урусове – Смоленский сделал в Дневнике специальную запись:
«Герасим Гаврилович Урусов, человек не без способностей и не без любви к музыке, самоучка наисамолюбивейший и негодяй еще более того, не снискал достоинствами своих сочинений чести быть исполняемым в Синодальном хоре и оттого обратился в злющего нашего врага, по временам продергивающего всех нас то в «Русском листке», то в «Гражданине», то в «Курьере». Суть его иногда весьма задорных писаний, на которые я упорно отмалчиваюсь, состоит в том, что мы поем отлично, но сухо; что мы орган, а не живой голос; что мы стоим дорого, а не дешево; что наши увлечения крюками (?) есть возврат к старообрядству; что мы испечены на «жидовских, консерваторских дрожжах» и не чествуем «неучей» – то есть истово русских певцов, каков он сам, Урусов, последователь Виктора, Феофана, Багрецова; что сочинения Кастальского – разврат, опасный для церкви, и т. д. Урусов написал брошюру под заглавием «Церковь и музыка (старь и новь)», с которою цензор М. В. Никольский прибежал ко мне, испугавшись ее ругательного содержания и не зная, как обойтись с ней в смысле разрешения к напечатанию. <...> М. В. Никольский почему-то настоял в цензурном комитете о запрещении статьи, хотя я нисколько не противился ее выходу в свет, вполне веря, что, увеселивши один ряд читателей, та же статья неминуемо вызовет возражения несогласных с нею людей.
На днях, однако, мне пришлось убедиться, что эта статья, воспроизведенная машиною Ремингтона, гуляет по Москве во множестве копий, конечно, в певческом кругу. Таким образом, цензурный непрошеный отказ оказался лишь к выгоде сочинения г. Урусова и к нашей беззащитности от врага хотя и не опасного, но все же досадного – вроде блохи, кусающей не вовремя или очень прыткой. <...>
Не одному нашему хору приходится терпеть от этого писателя! Бедный регент Чудовского хора С. А. Солнцев также испытал все содержание докладной записки г. Урусова митрополиту, где доказывалось, что чудовские певчие обратились в «песельников», и рекомендовались в регенты всякие неучи, охотно обещавшие г. Урусову пение его сочинений. Митрополит говорил по сему со мною, и я, вступившись за Солнцева, невольно подивился пакостной деятельности г. Урусова. И этакого-то человека вполне серьезно думал наш князь [Ширинский-Шихматов] пригласить в члены Наблюдательного совета! Конечно, и я, и Орлов полезли на стену и с превеликим трудом уговорили сиятельного не удостаивать Синодального училища такой компании.
NB: 14 сентября 1899. К удивлению вышеупомянутая статья, хотя и с большими урезками, напечатана в «Новом времени». (Дневник, том 2, л. 4 об.)
Все-таки Смоленский и его единомышленники вступили в публичную войну с Урусовым и другими «ревнителями». Вот как об этом рассказывает И. В. Липаев:
«...За три-четыре года усиленного труда Орлова и Смоленского хор стал неузнаваем. <...> На концерты ломилась публика. Вокруг хора образовался густой ряд поклонников из лучших музыкальных сил, послушать его дивное пение приезжали из провинциальных городов, а концерты стали событием музыкальной Москвы.
Тем не менее выпады в печати по адресу хора со стороны не понимавших его деятельности продолжались от времени до времени. Степан Васильевич очень внимательно, оказывается, относился к отрицательным заметкам в прессе и с некоторыми мыслями их соглашался вполне. Но вот однажды он просит меня зайти к нему и, не дождавшись, сам приходит ко мне на квартиру. <...> Степан Васильевич вынул книгу с наклейками различных газетных заметок и показал мне места, отмеченные лиловыми чернилами, излюбленными им. Я прочел отметки внимательно. Смоленский долго, в упор смотрел на меня и спросил:
– А? Хороши? Ведь они скачут в угоду непроходимому невежеству! Что это, как не желание подслужиться растленному музыкальному вкусу дьячков и протоиереев? Давайте бороться с такими писаками. Посылайте статью в Питер (это я и сделал), а тем временем будем стрелять по Скворцовым и в Москве [имелся в виду А. Скворцов – автор духовной музыки и рецензент духовных концертов в московских газетах. – Coст.].
И борьба в печати началась. Сам Смоленский поместил в «Московских ведомостях» статью о том, чем должна быть духовная музыка, вслед за ней в той же газете появилась статья А. Т. Гречанинова о музыке и тексте в церковной музыке, на эту тему я напечатал пространную статью в «Русском листке». Фортуна повернулась к нам лицом: точно по мановению волшебного жезла, доступ заметкам лагеря Скворцова с компанией был вскоре перерезан, и с тех пор совершенно прекратилось требование исполнения Синодальным хором произведений домашнего изделия». (Липаев Иван. С. В. Смоленский (из воспоминаний и переписки) // РМГ, 1915, № 35/36, стлб. 545–546).
Очевидно, в памяти мемуариста несколько сместились даты: «три-четыре года усиленного труда Смоленского и Орлова» – это первая половина, от силы середина 1890-х годов; статья же Гречанинова в «Московских ведомостях» («Несколько слов о «духе» церковных песнопений») появилась в феврале 1900 года; блестящая статья Смоленского (за подписью С. С-кий) «Об оздоровлении программ духовных концертов в Москве» – в той же газете 5 ноября 1900 года.
На регентство Кастальского в описываемый Смоленским период и позже существовали разные точки зрения. См. об этом подробнее в комментариях к «Воспоминаниям» А. К. Смирнова.
О результатах хозяйственной и строительной деятельности Ширинского- Шихматова см. в «Воспоминаниях» А. К. Смирнова и в комментариях к ним.
Описанное Смоленским положение дел с собственностью синодальных певчих не подверглось существенным изменениям и в последующий период. Так, уже в 1912 году журнал «Музыка» опубликовал на своих страницах статью «Нищие – наследники миллионов» (перепечатка из газеты «Утро России»), где излагались следующие факты.
В 1901 году собственность синодальных певчих, то есть «Теплые ряды», была отдана в аренду сроком на 12 лет по 235 000 в год. «Но всеми доходами от сдачи в аренду рядов пользовалась уже Московская Синодальная контора, а настоящие, законные владельцы рядов – синодальные певчие – были устранены от всякого пользования доходами. Согласно утвержденным штатам, на содержание всего Синодального хора отчислялось ежегодно лишь 14 000 рублей из общей суммы доходов, достигавших в год 750 000 рублей (имеются в виду совокупные доходы от сдачи в аренду «Теплых рядов» и других построек на земле, с XVII века принадлежавший певчим. – Сост.). Синодальным певчим отказывают даже в пенсии за выслугу лет «за неимением определенного фонда», так как, по заявлению Синода, «доходы с принадлежащих Московскому Синодальному хор домов в Москве расходуются на содержание самого хора и образующиеся при этом остатки весьма незначительны» (Музыка, 1912, № 102, с. 933–935).
Ланкастерская школа (или белл-ланкастерский метод) – педагогическая система, появившаяся в конце XVIII века: в соответствии с ней старшие ученики обучают младших, пользуясь указаниями преподавателей.
О зачислении на службу в Придворную капеллу ряда выпускников Синодального училища см. подробнее в комментариях к «Воспоминаниям» А. К. Смирнова.
В 1893 году Смоленский попытался добиться от Победоносцева решения вопроса о воинской повинности выпускников училища, но безрезультатно. В августе 1896 года Смоленский, пытаясь защитить лучших своих учеников, обратился с письмом на эту тему к Ширинскому-Шихматову:
«Я не получил никакого ответа на секретную бумагу, в которой просил вас предпринять какую-либо меру для отвращения солдатчины, грозящей многим нашим ученикам в предстоящую осень, и той паники, которая смутно чувствуется уже в училище, если наши ученики как не имеющие никаких прав, наравне с неграмотными, подпадут солдатчине в самой тяжкой ее степени. Училище и хор разом треснут по всем швам, если мальчики и их родители узнают о нашей бесправности и непринятии нами каких-либо мер к отвращению грозящей беды. <...>
Позволю себе вновь просить вас об оставлении при Синодальном училище кончивших у нас курс немедленно, а не через два-три года практики, как вы изволите предполагать. Я мотивирую свою мысль тем, что оставляю при училище самых даровитых молодых людей, имеющих в числе своих способностей еще и такую, в которой нуждается училище, которую можно специально развить по окончании курса и потому получить надобного работника. <...> Всех этих молодых людей как специалистов, как людей, отмеченных уже выдающимися к чему-либо способностями, следует учить еще после окончания курса в Синодальном училище. <...> Я имею в виду с помощью своих учеников создать в училище круг своих же учителей, которые бы служили Синодальному училищу именно так, как не могут служить чужие, то есть выученные по-немецки и с виртуозными идеалами ученики консерватории и ничего не понимающие ученики Капеллы». (Дневник, том 1, л. 112.)
Ни один из названных в этом письме учеников (П. и А. Чесноковы, Н. Толстяков, Н. Данилин и другие) не был оставлен в училище, кроме Павла Чеснокова, которого, однако, тоже пытались «выпроводить» в Томск.
«Разделяй и властвуй» (лат,) – Сост.,
«Оказывается, что князь подхватил его за обедней и, гуляя вдвоем, настоял на том, чтобы Орлов высказал особое мнение относительно надобности перемены в направлении обучения в Синодальном училище. Так как мысли В. С. Орлова, вследствие многочисленнейших за семь лет бесед, были мне известны, то я был несказанно удивлен, услышав нечто новое в их частностях, тут же подхваченное князем такими словами: «Вот это именно то, что я всегда думал и желал для Синодального училища, но не умел как не-музыкант ясно высказать. <...> Я всегда настаивал, что нам не надо плохих виртуозов на фортепиано и скрипке, плохих композиторов, не умеющих, однако, ни проиграть на фортепиано «Тебе поем», ни продирижировать обедню; тяжкие, удручающие впечатления я вынес от ложного, по моему мнению, направления обучения в училище, стоящего дорого, обставленного богато и дающего не то, чего все ждут и что именно надо, то есть регентов».
Слова Орлова, конечно, не подали повода ни к чему подобному, потому что заключали в себе мысль, чтобы преподавание было основано на церковном пении и курсе сольфеджио в самых обширных размерах, чтобы к этой «оси» училища были приноровлены все остальные курсы, в которых он полагал бы только выделить особо сильно теорию музыки и ослабить инструментальную игру за счет практических занятий хоровым пением и для придания классам инструментальной игры более (но не исключительно) служебного значения и применения к целям учительским и регентским.
Хотя это именно и расходилось с моим мнением, заключавшим в себе мысль о надобности для наших учеников сильного общего образования – научного и музыкального, следствием которого (разумеется, при наличности надобных регентских курсов) являются регенты, способные лишь выработаться в будущем в отличнейших мастеров и учителей. Я допускал укоризненность этого плана, но настаивал, что он даст менее самоуверенных людей, более убежденных в надобности работать над дальнейшим самообразованием. В частности, по моему плану достигалась и лучшая музыкальность, от которой имеется свободная дорога во все стороны, и, наконец, обращение Синодального училища не в регентскую школу, а в музыкально-певческую и единственную в России академию.
Между тем прения были повернуты в сторону ошельмования всей моей деятельности и констатирования моих якобы увлечений». (Дневник, том 1, л. 117– 119.)
Смоленский неоднократно и настойчиво обращался к ряду московских композиторов с предложением писать для Синодального хора. Ряд новых сочинений должен был исполняться в специальном концерте 16 марта 1898 года, но вмешался Ширинский-Шихматов, который, говоря словам Смоленского, «заменил эту программу всякими Викторами, Бортнянскими и прочим». Лишь 7 октября того же года директору удалось устроить «на свой риск» вечер премьер, чтобы «хоть сколько-нибудь удовлетворить... обидевшихся авторов и уговорить их писать еще для Синодального хора». В этом концерте исполнялись: псалом «Се ныне благословите Господа» М. М. Ипполитова-Иванова, «Отче наш» А. А. Ильинского, Херувимская А. Б. Гольденвейзера, «Тебе, Господи, единому» А. Н. Корещенко, «Не имамы иныя помощи» П. Г. Чеснокова, «Сам Един» А. Д. Кастальского, главнейшие песнопения из Литургии № 1 А. Т. Гречанинова. Как отмечает Смоленский в «Дневнике», по желанию профессоров консерватории концерт был повторен для них 16 октября.
Что касается Рахманинова, то под симфонией подразумевается Первая симфония композитора. В «Дневнике» Смоленский записал: «В этом 93/94 учебном году... привлечен к нам также и даровитый С. В. Рахманинов» (том 1, л. 80). Речь идет о духовном концерте «В молитвах неусыпающую Богородицу», написанном Рахманиновым по просьбе Смоленского летом 1893 года и исполненном в духовном концерте Синодального хора в декабре того же года. Из переписки Рахманинова со Смоленским ясно, что композитора приглашали на педагогическую работу в училище в 1896 году, но он отказался. Тем не менее связь Рахманинова с училищем и хором не прервалась: достаточно напомнить, что знаменитое Всенощное бдение посвящено памяти Смоленского.
Сочинениями, в которых отразилось увлечение Р. М. Глиэра древнерусскими напевами, возможно, является его Первая симфония (1899–1900), а впоследствии Третья симфония – «Илья Муромец». Что касается оперы-кантаты С. Н. Василенко «Сказание о граде великом Китеже и тихом озере Светлояре» (1901), то в ней непосредственно использованы подлинные древние песнопения, выбранные по совету Смоленского.
М. М. Ипполитов-Иванов создал немало добротной и пользовавшейся известностью духовной музыки. Упоминание в этом контексте С. Н. Кругликова вызывает недоумение: нет никаких данных о его композиторской деятельности в каких бы то ни было жанрах.
О свадебных концертах Кастальского см. подробнее в его статье «Моя музыкальная карьера...» и комментариях к ней.
В «Дневнике» Смоленский записывал: «Накануне Нового года вдруг пожаловало к нам часов в девять целое общество колядующих, в которых нельзя было не узнать учеников и учениц консерватории. Этот хор пропел несколько колядочных песен, очень оживленно и осмысленно. Болеслав Леопольдович Яворский, затейщик этого колядования – мой оригинальный слушатель в консерватории, чрезвычайно внимательный, работящий, добровольно оставшийся на второй год, чтобы вникнуть в подробности моего курса. Составленный им кружок изучает русские народные песни, русские обычаи, работая серьезно и усердно. Оттого и колядования этого кружка вышло очень трогательно и мило. Все были одеты строго национально, вели себя серьезно и пели величанье и особенно «Щедрый вечер» очень изящно» (том 2, л. 55).
Имеется в виду статья «О собрании русских древнепевческих рукописей в Московском Синодальном училище церковного пения (краткое предварительное сообщение). Посвящается памяти профессора Московской консерватории прот. Дм. Вас. Разумовского» // РМГ, 1889, №№ 3–14.
Брошюра «Обзор Исторических концертов Синодального училища церковного пения в 1895 году» была издана как буклет к концертам. В библиографическом отделе «Русской музыкальной газеты» отмечалось изящество издания и содержательность «краткого очерка развития русского церковно-музыкального творчества, очень толково написанного и снабженного необходимыми сведениями об авторах произведений, которые составили программу Исторических концертов» (РМГ, 1895, № 12, стлб. 826).
Вероятно, подразумевается «Месяцеслов», то есть двенадцать песен на все месяца годы, вошедший в «Рифмотворную псалтырь» Симеона Полоцкого, с музыкой Василия Титова.
Имеется в виду знаменитый петербургский регент и композитор Александр Андреевич Архангельский; несколько его сочинений входили в репертуар Синодального хора.
Смоленский на протяжении многих лет следил за пением Придворной капеллы. Так, к 1890 году относится интересное сравнение синодальных и придворных певчих, положения Синодального хора и Придворной капеллы:
«О трудах синодальных певчих можно сказать много. На этот хор по причине отживших свое время исторических преданий взвалено множество работы. Синодальные певчие поют все до одной службы в церкви Двенадцати апостолов, все праздничные и воскресные службы в Успенском соборе, у Николы Гостунского, все царские панихиды, ходят во все крестные ходы, словом, до четырехсот с небольшим служб в год, не считая церкви Двенадцати апостолов, где четверо певчих прямо отделены на положение дьячков. Если вспомнить, что каждая служба тянется почти три часа и что необходимы приготовления к службам, то понятна вся масса труда. Императорская капелла поет сто служб, каждая из них немного больше одного часа, и получает денег и натурою чуть не в четыре раза больше. Правда, Капелла поет лучше нас, но зато там каждая служба стоит чуть не три тысячи рублей, а наша около ста. пятидесяти рублей. Такая пропорция денег, однако, совершенно не выдерживает сравнения при суждении о качествах и достоинствах Капеллы и Синодального хора как музыкальных учреждений. По сумме денег мы поем неизмеримо лучше Капеллы, а теперь, после курса больших певчих и начавшегося учения малых, мы, конечно, скоро начнем тягаться совсем серьезно. Разница между нами будет соответствовать различию Москвы и Петербурга. Мы, конечно, уступим в средствах и силе репертуара, во внешнем блеске, но возьмем свое в выучке и в ряде вырабатываемых идей. Предоставим Петербургу выпускать из певчих хорошо выученных музыкантов, годных куда угодно, но флейтистов, скрипачей, контрабасистов, учителей пения a cappella, капельмейстеров и т. п., так как ни Балакирев, ни Римский-Корсаков, в сущности превосходнейшие музыканты, не суть сами по себе «церковные певцы“. Мы, хотя и пахнем ладаном, кутьею и проч., все-таки лучше знаем свое дело и стоим на древнем пении, которое в Питере неизвестно и изгнано совсем, даже не может быть искусственно воссоздано, а у нас в Москве еще живо и популярно. Эти две почвы совершенно различны и несовместимы. За Петербургом стоит музыкальное прозябание и перемалывание из пустого в порожнее, но с властною рукою и в шитом богатом кафтане, а у нас новая музыкально-зарождающаяся жизнь, полная самых блестящих надежд и борьбы». (Дневник, том 1, л. 20–21.)
Спустя несколько лет, в ноябре 1895-го, Смоленский, посетив Петербург, записал:
«Попал на простую спевку [Капеллы] и был очень раздосадован, услышав недостаточно совершенное ее пение. Ныне это только хороший хор, и не более того. Синодальный хор поет, без всякого сомнения, лучше Капеллы, несомненно одушевленнее и изящнее. Про образование Синодального хора уже и говорить нечего. Пение с листа Капелле совершенно недоступно. Мертвечина и вицмундирность пения Капеллы подействовали на меня вполне неприятно, и тем более, что вся атмосфера этого хора проникнута каким-то чванством и нелепейшим самомнением. Я всегда подозрительно выслушивал комплименты Синодальному хору, но теперь сам вижу, что Синодальный хор поет в самом деле лучше Капеллы. (Дневник, том 1, л. 99.)
Усталость Синодального хора от коронационных торжеств была связана, главным образом, с визитами высокопоставленных лиц в училище, инспирированными Ширинским-Шихматовым. Основные коронационные службы пела Придворная капелла, прибывшая в Москву. В самый день коронации, 14 мая 1896 года, Синодальный хор пел литургию в Архангельском соборе Кремля, в то время как в Успенском соборе, где происходила коронация, пела Капелла. Правда, 25 мая, в день рождения императрицы Александры Федоровны, Синодальный хор пел в присутствии царствующих особ литургию на два клироса в храме Христа Спасителя (в Успенском соборе в это время пел Чудовский хор). Известны некоторые песнопения, прозвучавшие за этой службой: Херувимская песнь «царская», «Милость мира» Виноградова, концерт Бортнянского «Господи, силою Твоею возвеселится царь» (Московские церковные ведомости, 1896, №№ 20:22).
В автографе правка карандашом рукой С. С. Волковой: зачеркнута фамилия «Рибопьер» и вписана фамилия «Гудович». Это исправление подтверждается и другими источниками.
Торжества открытия памятника Александру II в Кремле и закладки Музея изящных искусств имени Александра III состоялись в Москве 16 августа 1898 года. Император и императрица прибыли в Москву накануне и вечером посетили Успенский собор, где Синодальный хор встречал их тропарем «Спаси, Господи, люди Твоя». На следующий день утром хор пел литургию в Успенском соборе (в том числе «вечную память» Александру II) и молебен у памятника. В молебне при закладке музея участвовали чудовские певчие. Вечером 18 августа состоялось посещение императором и императрицей Патриаршей ризницы (она располагалась в новом несгораемом помещении у подножия Ивановской колокольни). Здесь снова пел Синодальный хор.
Смоленский внес в «Воспоминания» полный немецкий текст письма Ганса Рихтера и снабдил его следующим примечанием: «Это письмо, как и последующие выдержки из венских газет, списано мною из книжки, в которой были собраны нашим антрепренером концерта (Гутман) все рецензии. Книжка эта в количестве четырех экземпляров было любезна выслана мне в Москву. Я отдал по экземпляру Орлову, Ш2 и в библиотеку Синодального училища. В своем экземпляре я приложил всякие сообщения русских газет и всякие письма и подходящие подробности. В этой же книжке записаны и мои заметки». (Том 2, л. 130.) К сожалению, ни одного экземпляра в России не сохранилось, как не сохранились и программы венского концерта: в «Воспоминания» вклеена лишь обложка программы, представляющая собой двойной фотопортрет Смоленского и Орлова.
Перевод письма Рихтера и выдержки из газет были опубликованы в разных изданиях, в частности, в статье Н. Дмитриева (Н. Д. Кашкина) в «Московских ведомостях» (1899, 30 марта, 5 и 6 апреля), там же в редакционном обзоре «Иностранная печать о Синодальном хоре» (13 апреля), в «Русской музыкальной газете» (1899, № 18). См. также комментарии к публикации статьи А. К. Смирнова.
Приводим немецкий текст письма по рукописи Воспоминаний Смоленского:
«Lieber Freund! Der Synodalchor aus Moskau kommt nach Wien und gibt ein Konzert. Komme hieher! Du wirst einen ungeahnten, grossen Genuss haben. Diesen Chor und der Kaiserlichen Hofkapelle in Petersburg – beide gleich ausgezeichnet – habe ich gehort, und zwar in kirchlichen, wie auch im weltlichen Musikstiicken; ich erklare Dir, dass ich nie und nirgends einen grosseren und vollkommeneren Kunstgenuss gchabt habe. Komme hieher und iiberzeuge Dich selbst, dass ich nicht iibertrieben habe, als ich Dir jiingst von diesen beiden Choren in Ausdrucken der hochsten Bewunderung sprach. Wien. 8 April 1899».
Перевод:
«Дорогой друг! В Вену прибывает Московский Синодальный хор на один концерт. Ты не представляешь, сколь большое наслаждение ожидает тебя. Я слышал этот хор и другой превосходный хор из Петербурга, Императорскую Придворную капеллу – как в церковном, так и в светском репертуаре. Я заявляю тебе, что нигде и никогда не получал большего наслаждения от искусства. Приезжай, и ты убедишься сам, что я не преувеличивал, когда говорил тебе об этих хорах с таким восхищением».
Упоминаемый Смоленским концерт отрецензирован в РМГ И. Липаевым (РМГ, 1899, № 15/16). По утверждению критика, программа полностью совпадала с предназначенной для исполнения в Вене, но на самом деле это было не совсем так. Приводим программу московского концерта:
| П. Чайковский | Верую |
| П. Турчанинов | Тебе одеющагося |
| А. Кастальский | Достойно есть, сербское |
| Н. Римский-Корсаков | Тебе Бога хвалим |
| М. Глинка | Херувимская песнь |
| М. Балакирев | Свыше пророцы |
| Г. Львовский | Господи помилуй (40 раз) |
| А. Гречанинов | Волною морскою |
| П. Чесноков | Высшую небес |
| А. Кастальский | Не имамы иныя помощи. |
Программа венского концерта в зале Музыкального общества (Musikvereinsaale) не сохранилась. Однако она восстанавливается из материалов о поездке Синодального хора, опубликованных в периодике. Всего было исполнено 15 песнопений по программе и 5 «на бис». Из песнопений по программе известно 12:
| Царю небесный (очевидно, обиходного роспева) | |
| А. Кастальский | Милосердия двери |
| М. Глинка | Херувимская песнь |
| Г. Львовский | Господи помилуй (40 раз) |
| П. Чайковский | Святый Боже |
| А. Полуэктов | Тебе поем |
| А. Гречанинов | Волною морскою |
| П. Чайковский | Верую |
| М. Балакирев А. Львов | Свыше пророцы |
| Д. Бортнянский | Херувимская песнь |
| «Господи, силою Твоею» | |
| Херувимская песнь (N 7) | |
Известно также, что среди песнопений, исполненных «на бис», было «Достойно есть» сербское в переложении Кастальского и «Тебе одеющагося» болгарское в переложении Турчанинова.
Сопоставляя эти данные с программой московского концерта перед отъездом в Вену, можно предположить, что в основную программу входили также песнопения «Высшую небес» Чеснокова, «Не имамы иныя помощи» Кастальского и «Тебе Бога хвалим» Римского-Корсакова.
«Ubertreffliches Meistersttlck, welches bei erregt im Musikfreunden grenzenloses Erstaunen und Beurenderung».
«eine ganz eigenartige Erscheinung», так как «schon mit dem ersten Chor, K6nig des Himmels» halten die Sanger die Нбгег in Staunen und Spannung versetzt».
«Es war interessant zu beobachten, wie vaterlich der Direktor von Smolensky fUr alle aber namentlich fUr die kleinen Sopran und AltsMnger sorgte».
«wohl nur im Lande der Knute und der slawischen Unterordnung mGglich».
«Taktstock».
«Stimmschliissel».
«еіп innigen Kontakt», причем он «alle Worte mitsprach, wesshalb alle Sanger die Augen unentwegt auf seinen Mund richteten».
«schlug den Takt (вероятно на 4/4)» und der Chor sang Ihm dem Lobspruch».
«Es ist ein merkwUrdiges Geheimnis des Herm Stephan von Smolensky, welcher als Direktor des Moskauer Sinodalchores fUngiert und militarise)) gekleideten und mit Degen geschmUckten Dirigenten Herm Wassili von Orloff – wie es gelingen konnte, diese Knaben, diese erwachsenen Manner mit ihren phanomenalen Tenoren und bis in die tiefsten, unglaublichsten Algrtindereichende Bassen zu solch transcendentalen Klangwirkungen zu disziplinieren! «Hut ab» vor diesem Geheimnis!» «So feine dynamische Abstttfungen haben wir noch nirgends beobachtet, von anderen Dingen, als Exaktheit, Warme, Rhytmus tadellose Reinheit der Intonation gar nicht zu reden».
«WeltberUhmte russische Basse» доходили у нас «auf dem g der Kontraoktave (!!!) und nicht etwa mit den AllUren eines Bierbasses, sondem mit glockenreinem orgelschOnem Тбпеп» etc.
Die Vollkommenheit dieses a cappella-Gesanges machte auf jeden Нбгег einen machtigen Eindruck und verhalt den Russen zu einem Sieg in der Musikmetropole».
«Серенады» и «Скитальца» (нем.).
События сезона 1899/1900 года нашли отражение в книге Металлова:
«После блестящего выступления в концертах пред венской публикой в 1899 году, Синодальный хор вскоре после того удостоился высокой чести петь за богослужением в Большом Успенском соборе в присутствии их императорских величеств; 2 апреля 1900 года в Вербное Воскресенье, 9 апреля на Пасху и 16 апреля в церкви Спаса за Золотой решеткой и во всех этих случаях был удостоен особенного внимания и восхищения высочайших особ художественным исполнением церковных песнопений. В высочайшем рескрипте на имя митрополита Московского 9 апреля 1900 года, между прочим, было сказано: «Благолепие служения в неделю Ваий в первопрестольном всероссийском храме – московском Большом Успенском соборе, величавая красота древних напевов в умилительном исполнении Синодальным, бывшим патриаршим хором и пережитые нами в Московском Кремле дни Страстной Седмицы навсегда оставят в нас неизгладимую память».
После службы, пропетой хором в церкви Спаса за Золотой решеткой, государю императору было благоугодно осчастливить г. управляющего Синодальным хором князя А. А. Ширинского-Шихматова беседой, относящейся к прекрасному пению Синодального хора: «Синодальный хор поет прекрасно и производит самое лучшее впечатление»; «все звучало очень красиво».
О высочайшем внимании к исполнению хора 2 апреля регент В. С. Орлов рапортовал г. управляющему, что государю императору было благоугодно почтить его милостивыми словами: «Отлично вы пели».
После исполнения ряда песнопений в доме генерал-губернатора великого князя Сергия Александровича регент В. С. Орлов также рапортовал г. управляющему, что государю императору было благоугодно снова осчастливить его милостивой беседой: «До совершенства хор доведен, – только бы вам остаться на этой высоте, дальше идти вперед еще нельзя. Одну вещь, третью в программе – «Вечери Твоея тайныя» – вы пропели мою любимую, а последнюю («Был у Христа младенца сад») вы давно не пели, а сейчас пропели без репетиции. Отлично, отлично, сердечное вам спасибо» (Металлов, с. 78–79).
В «Воспоминаниях» Смоленский приводит также официальное письмо, направленное ему как директору Синодального хора Ширинским-Шихматовым как прокурором Синодальной конторы. Письмо датировано 9 апреля и представляет собой пересказ императорского рескрипта, причем первая фраза письма звучит следующим образом: «В 1-й день сего апреля его императорскому величеству благоугодно было почтить его высокопреосвященство митрополита Московского Владимира высочайшим рескриптом, в коем высокомилостивые слова его величества имеют непосредственное отношение к вверенному моему управлению Синодальному хору».
Неудивительно, что такая формулировка вызвала иронию Смоленского и его помощников, которые в шутку предлагали дать князю возможность хоть раз «поуправлять» хором.
В конце 1900 года, когда отставка Смоленского была уже предрешена, Ширинский-Шихматов направил в Наблюдательный совет училища свои «Предложения», касавшиеся изменений учебных программ, а по сути всего направления деятельности училища. От имени совета Ширинскому-Шихматову отвечал С. Н. Кругликов. Смоленский приложил оба документа к своим «Воспоминаниям», отметив, что в «Предложениях» «во весь рост обрисовываются близорукость князя» и его «желание во что бы то ни стало согнуть Синодальное училище по своему рецепту»; что же касается ответа Кругликова, то он «удивил» Смоленского «своим достоинством».
Приводим оба документа.
«Искренно уважаемый Семен Николаевич! Прилагаю при сем свои мечтания. <...> Будьте добры – уделите немного времени прочтению сей записки и сообщите ваши мысли. Искренно вам преданный А. Ширинский-Шихматов.
Прокурор Московской Синодальной конторы
В Наблюдательный совет Московского
Синодального училища церковного пенияˆПредложенияˆМои личные наблюдения над жизнью Синодального училища и сношения с начальством учебных заведений, где окончившие курс проявляют свою деятельность, более и более приводят меня к убеждению, что выпускаемые училищем воспитанники не имеют желательной практической подготовки к исполнению регентских обязанностей и надлежащего навыка, необходимого для целесообразной и осмысленной передачи знаний другим в должности учителя церковного пения. Эти причины, в связи со сложным трудом, который несут дети, и с недостатком времени для удовлетворения самых насущных умственных потребностей (например, чтения) заставляют меня обратиться к Наблюдательному совету с нижеследующими предложениями, касающимися некоторых перемен в ведении учебных занятий в училище и даже переработки существующих в нем программ преподавания различных предметов.
1) Не будет ли признано Желательным, чтобы воспитанники училища, все без изъятия [то есть и спавшие с голоса. – Сост.], участвовали как во всех спевках Синодального хора, так и во всех службах его в Успенском соборе, а по прекращении всенощных бдений в этом храме – в богослужениях приходской церкви, где школьно-училищный хор должен петь службу под управлением очередного воспитанника? Такое участие приучало бы будущих регентов к богослужебной обстановке, с которой им придется иметь дело в должности регента, знакомило бы их с приемами и правилами, необходимыми для регента, <...> а главное, сроднило бы их с подробностями богослужения, внимание к которым неизбежно для регента, не желающего своими действиями нарушать общий богослужебный порядок. При теперешнем же положении вещей ученик, видевший, например, архиерейское служение в первые годы своего пребывания в училище в качестве участника хора, забывает это служение к выходу из училища, то есть к такой поре, когда ему особенно нужно знать его по обязанности регента. <...>
2) Не представляется ли возможным положенную для первых трех классов программу церковного пения проходить на спевках Синодального хора под руководством регента и его помощника, вместо особых занятий этим предметом в классных комнатах, под надзором отдельного преподавателя? При хоровой спевке в два часа для этого, казалось бы, вполне возможно отделить полчаса; в таком случае воспитанники училища приучались бы не к механическим упражнениям над разными напевами, как это может и, пожалуй, должно быть в классе, а к настоящему хоровому и мелодическому изложению в живом общении со всеми участниками хора. <...>
Того же приема, казалось бы, можно держаться и при изучении курса сольфеджио, с отнесением на этот предмет другого получаса из времени общей хоровой спевки и с оставлением на самую спевку лишь одного часа. <...> При подобной перестановке дела для особых классов сольфеджио довольно по два часа в неделю со специальным назначением этого времени для диктантов.
3) Так как на всех своих спевках Синодальный хор уже имеет дело с партитурой, то имеет ли основание уделять для чтения партитуры особые два занятия в неделю, раз ученики, все без изъятия, будут участвовать в хоровых занятиях? В таком случае было бы полезно связать прохождение названного предмета с обычным хоровым пением установленной гармонии за фортепиано, так, чтобы эти предметы изучались совместно, начиная с шестого класса. <...> Для такого приема изучения достаточно на оба предмета двух занятий в неделю, по одному часу на каждое.
4) Не следует ли преподавание скрипки и фортепиано заканчивать в певческом отделении, то есть в пятом классе, так как для прямых и непосредственных задач регента и учителя церковного пения совершенно достаточно того уменья в игре на этих инструментах, какое можно приобрести за 4–5 лет обучения в первом отделении училища; вырабатывать же учителей фортепиано и скрипки, в ущерб своим прямым обязанностям, училище не призвано и не должно. Кроме того, совместная игра квартетами хоровых партитур и внеклассное свободное время дадут полную возможность для наиболее ревностных и талантливых учеников достигнуть особого мастерства или даже виртуозности в игре на означенных инструментах. <...> Следовало бы организовать чтение за фортепьяно нот преимущественно духовно-музыкального содержания по партитурам и возможно малыми группами на струнных инструментах, по возможности ежедневно, причем было бы вполне достаточно двух часов на все четыре класса.
5) Самые необходимые элементарные приемы управления своим голосом могли бы сообщить мальчику, принятому в училище, регент в хоре и его помощник, а остальное сделало бы опять внимательное отношение к спевкам в связи с прохождением курса сольфеджио. Поэтому, казалось бы, нет заметной нужды в особом преподавании постановки голоса у новопоступивших учеников, тем более что принятая в училище постановка прямо противоположна требованиям, которые предъявляются мальчику как участнику хора. <...> Вместо постановки голоса при первом вступлении мальчика в училище желательно преподавание этого предмета оканчивающим курс воспитанникам, то есть девятому классу. К этой поре у ученика уже сформировывается тот голос, которым он должен будет владеть всю жизнь и которым ему необходимо будет пользоваться в должности регента и учителя для того, чтобы показать другим, как следует исполнять то или другое музыкальное место. <...>
Р. S. Чтобы выгадать время для регентских занятий, следует уроки сольфеджио в 6–9 классах заменить чтением хоровых партитур на хоре всех учеников этих классов совместно, причем по очереди ученики восьмых и девятых классов обязаны смотреть за верностью чтения, для чего готовить назначенную каждому преподавателем пьесу и доводить исполнение лучших произведений до возможного совершенства. Таким образом, на это дело пойдут все уроки сольфеджио. Вместо двух занятий по чтению партитуры за фортепиано довольно одного, а другое на хоре. Сольфеджио в младших классах должно быть соединено с чтением обихода. <...>
Совершенно отсутствует в программах училища очень важный предмет: разбор музыкальных произведений во всех отношениях. Без него не может быть развития вкуса у будущего регента и учителя. Он должен быть веден устно и письменно. Фортепьяно как таковое и скрипка могут быть сохранены в старших классах или совсем опущены. Вместо сего способные могут брать уроки в консерватории, что будет дешевле и целесообразнее. <...> Изучение крюковой семиографии можно начать с шестого класса, закончив сольфеджирование обихода пятым классом».
Примечание С. Н. Кругликова: «Все это получено при прилагаемом выше письме кн. А. А. Ширинского-Шихматова, принадлежит его авторству и было мне прислано им для того, чтобы я сообщил ответные свои мысли. Черновую ответа своего тоже прилагаю. Сем. Кругликов. 14. 1. 1901 г.»
Ответ С. Н. Кругликова:
«Глубокоуважаемый князь Алексей Александрович!
Могу ответить на все ваши соображения только мыслями музыканта-специалиста и музыканта-педагога с опытностью в двадцать лет. <...> Смотрю на Синодальный хор и училище как на учреждения взаимно соприкасающиеся, но имеющие каждое свое самостоятельное значение. Синодальный хор – прекрасное художественное целое, гордость Москвы, а может быть, и всей России. Пусть он стремится к еще большему совершенству, хотя может остаться и таким, каков он теперь. Но Боже сохрани, если его художественный уровень понизится!
Исходя из этого положения, от хора можно требовать лишь такой помощи училищу, которая бы не наносила ущерба самому хору.
Качество хора – в прямой зависимости от его спетости, ансамбля, но и от красоты входящих в него голосов. Чрезвычайно важно также для хорового тембра, для хоровой интонации, если эти голоса, помимо данных природою приятных свойств, не обедняют умением давать звук, правильно распоряжаться дыханием, то есть если они до известной степени поставлены. <...> Поэтому считаю для хора полезным ставить голоса малолетним, вступающим в хор, и вредным для него участие спадышей. Кстати сказать, спадыши эти, участвуя в хоре, не только принесут ему вред, но и себе выгоды не достанут. Вряд ли вместе с ними уместится хор на клиросах Успенского собора. Чтобы покончить с вопросом о постановке голоса, скажу еще, что ее только и можно предпринять или по отношению к детскому голосу, или к голосу вполне физически сложившегося взрослого человека. У ученика девятого класса Синодального училища голос лишь формируется. Здесь о постановке голоса не может быть серьезной речи. Таким образом выпускному ученику остается довольствоваться понятиями о голосовой постановке, приобретенными в детские годы.
Дурно может отозваться на хоре, если бы во имя чего бы то ни было сократить вдвое длительность спевок.
Мне довольно часто приходилось встречаться с бывшими учениками Синодального училища. В лице их я находил всегда таких отличных чтецов нот, каких почти не имело и не имеет среди своих учеников Филармоническое училище. Для меня это доказательство, что в Синодальном училище класс сольфеджио стоит очень высоко. Рядом с констатированием подобного факта бледнеет вопрос, какова собственно система преподавания в этом классе, дающем такие блестящие результаты.
Имею основание думать, что изучение древних церковных напевов в классе, при унисонном исполнении, полезнее, чем на спевках хора, поющего их гармонизацией общепринятой и употребительной, но все-таки итальянско-немецкой. <...> Как светские композиторы наши выработались, изучая произведения русского народного творчества песенного, так истинные композиторы русской духовной музыки вырастут путем воспитания в себе древнего церковного напева во всей его чистоте, а не в западно-музыкальной оправе.
Умению читать хоровые партитуры надобно тоже учиться в классе, а не на спевке, и вот почему: Синодальный хор давно сформировался и идет в своем учении музыкальных творений все дальше и дальше, а не начинает своих изучений в конце каждого августа с начала, как это делает ученик низшего класса, знакомящийся с партитурой, скажем, литургии придворного роспева, давно хору знакомой.
Хотелось бы мне также, чтобы Синодальное училище выпускало из среды своих воспитанников не регентов старого типа, так много повредивших делу русской духовной музыки, не регентов-ремесленников, а регентов-музыкантов, с развитым вкусом, с действительными знаньями. Для такой цели надо, конечно, ввести в программы занятий устный и письменный разбор музыкальных произведений, подробный во всех отношениях, если такой предмет еще там не практикуется, но и не надо сокращать объем преподавания игры на скрипке и фортепиано. Тот и другой инструменты сослужат большую службу будущему регенту в деле его служения и в деле его художественного развития. С техникой, дающей возможность осилить на скрипке голос какой-нибудь Херувимской, а на фортепиано что-нибудь вроде седьмого номера Херувимской Бортнянского, далеко не уйти. Кстати и практический вопрос: чем жить регенту далекого провинциального захолустья, если он свое ничтожное жалование не сможет увеличить уроками на скрипке и фортепиано? <...>
Мне кажется, цель Синодального училища такова: окончивший там курс должен быть серьезно образован, развит и обладать положительными музыкальными знаниями. Все остальное сделают талант, свободно-разумный труд и постепенно приобретаемый опыт.
Мне даже кажется (развивая несколько вышесказанную мысль), что от Синодального училища надо ждать чего-то еще более важного. Регенты без особенно разностороннего образования могут выходить из музыкальных классов при духовных и учительских семинариях, из специальных регентских классов, имеющихся в разных епархиях. Таких питомников в России много. Московское Синодальное училище на все наше обустроенное отечество – одно. Ему одному под силу заботиться об образовании композитора русской духовной музыки, перед которым теперешние передовики в этом отношении покажутся лишь сынами переходного времени.
С совершенным почтением преданный и всегда готовый к услугам Сем. Кругликов».
В отчете П. И. Нечаева, ревизовавшего деятельность Синодального училища по поручению Синода, было отмечено, что учебно-воспитательная и хозяйственная части находятся в удовлетворительном состоянии и в них можно отметить лишь частные недостатки. Однако большинство этих частных замечаний было направлено против самостоятельности директора и на усиление власти прокурора Синодальной конторы (например, директор не мог самостоятельно решать вопросов приобретения книг в библиотеки, установления мер наказаний для воспитанников и вообще не имел права в отсутствие прокурора хоть в чем-то изменять заведенные ранее порядки). В отношении Смоленского ревизор вынес также особое определение, где говорилось: «Смоленский при хорошем знании церковного пения, а также любви к нему и к музыке был бы весьма полезным деятелем, если бы при этом обладал надлежащим административным тактом, внимательнее относился к внутренней стороне училищной жизни и не размерял задач училища введением в учебные занятия воспитанников некоторых музыкальных требований, уместных более в консерватории, чем в строго церковно-певческом училище». Далее Смоленскому ставилось на вид стремление к самовластию и превышение прав директора: «И, хотя в действительности уставом с точностью определены права и обязанности директора училища, а равно и указанные подчиненные его отношения к прокурору Синодальной конторы, г. Смоленский доселе не может примириться со своим положением и при каждом удобном случае пытается выходить из пределов полномочий, предоставленных ему уставом». (Металлов, с. 81.)
Нижеследующий фрагмент текста заимствован из четвертого тома «Дневника» Смоленского, посвященного службе в Придворной певческой капелле (РГИА, ф. 1119, on. 1, № 8, л. 65–69). 3 ноября 1902 года Смоленский в первый раз после отъезда из Москвы навестил древнюю столицу и сделал потом запись о своих впечатлениях от встреч с дорогими ему местами и людьми.
Речь идет о Кружке преподавателей хорового пения, созданном в Москве в октябре 1900 года по инициативе Д. И. Зарина и Смоленского. Кружок имел целью «содействие рациональной постановке школьного пения»; в его уставе значились такие формы деятельности, как просмотр и оценка новых изданий и руководств по хоровому пению, составление библиотеки соответствующего профиля, организация хоровых исполнительских собраний и практических уроков. (Подробнее см.: Липаев Ив. Из Москвы Ц РМГ, 1901, № 19–20, стлб. 527–528.)
После смерти Смоленского С. С. Волковой удалось собрать некоторые воспоминания о нем. Этот материал исследовательница намеревалась поместить в предисловии к изданию Воспоминаний. Согласно ее записи, предисловие составлялось по просьбе Б. В. Асафьева. Фрагмент публикуется по рукописи Волковой (РГАЛИ, ф. 723, on. 1, № 29, л. 26–31).
«Мое первое знакомство со Степаном Васильевичем Смоленским относится к 1891 году, когда он был директором Московского Синодального училища. К тому же времени относится следующий отзыв бывшего певчего Синодального хора И. Е. Бохина, состоявшего в хоре с 1891 по 1896 год. С этим певчим мне пришлось в одном имении летом 1917 года участвовать в церковном хоре. Хор пользовался цифирными нотами Смоленского, а также его нотной партитурой всенощной, и это привело к разговору и отзыву, тут же мной записанному по возможности дословно, в присутствии самого И. Е. Бохина.
Как человек Смоленский стремился довести людей до дела в учебном смысле. Он говорил взрослым певчим: «Старайтесь дольше учиться, не торопитесь с заработком, чтобы впоследствии не оказаться недоучками. Певцом вы можете быть в любом хоре, а здесь, в училище, пользуйтесь случаем учиться. Здесь вам дают квартиру, содержание и бесплатное обучение». Многие поступали на жалованье в 29 рублей 40 копеек при готовой квартире с отоплением, на своих харчах, причем Смоленский не дозволял петь на стороне. Он сказывал, что сам смолоду не добивался заработка, а добивался науки: «Будущность ваша впереди, – говорил он, – и она вас неожиданно найдет». При этом он был участлив и страшно ревностен к маленькой жизни людей. Он многих удерживал от пагубных привычек и наблюдал за поведением певчих. Увещания его многих спасли. «При мутной голове – какое же учение», – замечал он бывало.
Вставал он раньше всех, ложился позже всех. В старом здании, еще до перестройки, кабинет его был внизу; у окон не было занавесок, и всегда видно было его сидящим за работой при лампе до поздней ночи. Днем он из этого окна мог наблюдать за проходившими в классы взрослыми певчими, жившими в то время в двух упраздненных монастырях – Крестовоздвиженском на Воздвиженке и Георгиевском на углу Дмитровки и Георгиевского переулка; да на самом дворе училища было еще квартир пятнадцать. Классы начинались с восьми часов утра. Смоленский, исполняя свой долг, часто заходил в классы, следил за учениками и преподавателями. <...> С детьми Смоленский был обходителен, даже ласков, а по учению был взыскателен. Иногда он с детьми гулял, обыкновенно с целью показать им что-либо. Он водил их и на Вербное Воскресенье, покупал детям золотых рыбок, чтобы они сами за ними ухаживали.
Последняя подробность из рассказов бывшего певчего напомнила мне другую, раньше слышанную, о посадке американского винограда у стены училища, выходящей во двор. По указанию Смоленского воспитанники сами сажали этот виноград, ухаживая каждый за посаженным им растением.
Припоминаются также живые рассказы одного архимандрита, встреченного мною в глуши одной приволжской губернии. Он воспитывался в Казанской семинарии, где Смоленский в то время преподавал географию, и вспоминал его с любовью. Однако в младших классах любили посмеяться над живыми жестами учителя. Однажды перед уроком будущий архимандрит, взобравшись на кафедру, стал перенимать учителя и не заметил, как тот вошел. Учитель же обнял его и, поцеловав, сказал: «Какая же ты у меня славная обезьяна».
Одно время распространялись слухи, будто Смоленский бьет учеников в Синодальном училище или по крайней мере допускает телесные наказания. Я спросила певчего Бохина, не знает ли он, на чем основаны эти слухи. Бохин удивился, сказав, что впервые слышит об этом и что за четыре года пребывания в Синодальном хоре никогда ничего похожего не слыхал, хотя находился в постоянном общении с детьми. На мой вопрос самому Смоленскому по тому же поводу он ответил, что в молодости поднимал семь или восемь пудов – в точности не помнит. «Да и теперь, – сказал он, – что бы осталось от ребенка, если бы я его тронул?!» Его отношение к телесным наказаниям было совершенно отрицательное, несмотря на его осведомленность о западных системах воспитания. По многим отзывам, Смоленский всегда любил детей, щадил и опекал их. Своих детей у него не было. Он был хороший семьянин, к родным был внимателен и участлив. По отзыву Е. Л. Верещагиной, урожденной Львовой, знавшей семью Смоленского в Казани, на первый свой заработок он сюрпризом купил для своей матери в подарок комод.
Смоленский очень жалел больных и при уходе за ними бывал нежен и умел, как старая няня; перевязки делал отлично и особенно бережно, со свойственной ему аккуратностью. Соблюдая порядок в собственных денежных делах, он и жена его всегда готовы были прийти на помощь ближним. После смерти их говорили, что они многих выручали из беды, помогая втайне. Этим, вероятно, и объясняется, что при скромном строе их жизни у них не оказалось сбережений на черный день.
При всем том и при всей глубокой к нему привязанности многих людей, всегда вспоминавших его с горячей признательностью, он не имел репутации «доброго человека». Он был горяч и настойчив, хотя и старался, по его словам, действовать «с кротким упорством». Часто, однако, в нем закипало ретивое, и упорство его тогда переставало быть «кротким». Когда Смоленский, при такой своей неуступчивости, сталкивался с непониманием и упрямством в людях власть имущих, то «находила коса на камень». Так его отставляли от дел в разгаре его деятельности, в то самое время, когда были достигнуты успехи изумительные, когда он приближался к достижению заветных целей в налаженном и любимом труде. И в эти горькие дни многие сослуживцы не только не заступались за него, но и не выказывали ему сочувствия. Два раза пришлось ему покинуть хорошо налаженное и крепнущее дело – в Синодальном училище и в Капелле. Большинство его подчиненных, из бывших воспитанников училища и из певчих, мною встреченных, хранят о нем глубокую благодарность; но случалось встречать и таких, притом даже из людей хороших, которые были очень не расположены к нему и тяготились всем складом его характера. Эти люди находили нрав его крутым. <...> Никто не оспаривал его горячей преданности делу, его энергичной деловитости, его безупречной честности. Но его приемы обращения вызывали раздражение и какую-то досаду.
Наоборот, обращение регента В. С. Орлова делало его крайне популярным. Он стоял гораздо ближе к певчим, его талантливость и обаяние привязывали к нему взрослых и детей; петь под его твердым и вдохновенным управлением было для многих из них наслаждением. До сих пор певчие с гордостью вспоминают, как он свободно читал двенадцатиголосные партитуры. Многие певчие не могли отдать себе отчета в том, насколько направлял Смоленский артистическую деятельность всего хора и самого В. С. Орлова. <...> Совместные труды пылкого организатора и знатока Смоленского и несравненного регента В. С. Орлова довели Синодальный хор до степени лучшего хора в России. Выдающиеся критики Вены, Рима и Берлина признали этот хор лучшим в Европе и во всем мире».
В концерте Синодального хора 3 ноября 1902 года были исполнены:
1-е отделение
1. В. Комаров. Стихиры на Воздвижение, знаменного роспева, на два голоса;
Господи, спаси и Трисвятое, знаменного роспеваˆ2. А. Аренский. Херувимская С dur (№ 3)
3. П. Самарин. Блажен муж, московского роспеваˆ4. А. Кастальский. В память вечнуюˆДогматик 5-го гласаˆ5. П. Чесноков. Великое славословиеˆ2-е отделение
1. А. Копылов. Блажени, яже избрал
2. П. Чайковский. Херувимская F dur (№ 3)
3. М. Ипполитов-Иванов. Се ныне благословите ГосподаˆСе что доброˆ4. А. Гречанинов. Свете тихий
Благослови, душе моя, Господа
Впечатления Смоленского подтверждаются другими источниками, в частности, воспоминаниями хормейстера В. А. Булычева:
«Орлов, сделавшись директором училища, стал предаваться своим обычным запоям. При Смоленском он себя несколько сдерживал, а тут, сделавшись начальником, на свободе он совсем предался своей пагубной страсти, которая скоро свела его в могилу. Он почти бросил управлять хором, поручив это Кастальскому и его помощнику, бывшему ученику Синодального училища П. Г. Чеснокову. Последний как регент был много способнее Кастальского, не имевшего и тени дирижерских способностей. Но он любил дирижировать сам и, конечно, этим понижал качество исполнения хора...» (Булычев В. А, Жизнь и искусство (правда о моей жизни). Рукопись, т. 3. ГЦММК, ф. 274, № 24.)
А. Т. Гречанинов в книге «Моя жизнь» вспоминает: «...Я решил написать обедню. Работа шла быстро, и к весне она была закончена. В Москве тогда пользовался большой славой хор Синодального училища, директором которого был С. В. Смоленский. К нему я и отправился со своим новым произведением. Высокого роста, в очках, сутуловатый, некрасивый, но бесконечно симпатичный, умница и добродушный Степан Васильевич принял меня как автора любимых им романсов с необычайным радушием; а когда узнал, что я принес на его суд только что законченную обедню, радушие его удвоилось. Он сейчас же позвал регента хора В. С. Орлова, засадил меня за рояль, и тут же я должен был проиграть от начала до конца всю обедню... Решено было, что за лето будут расписаны партии и осенью обедня будет исполнена под управлением Орлова. С этого дня началась моя дружба с С. В. Смоленским, продолжавшаяся до самой его смерти» (Гречанинов А. Т. Моя жизнь. Нью-Йорк, 1951, с. 67–68).
Премьера Литургии № 1 состоялась 7 октября 1898 года. «Прошло немного времени, – продолжает Гречанинов, и я написал два хора: «Воскликните Господеви“ и «Волною морскою». В них я впервые взял в качестве материала старинные церковные напевы и попевки и в обработке старался держаться ближе к ладовому характеру самих напевов, избегая, например, хроматизмов и больших скачков в мелодии, итальянской слащавости и проч. <...> В исполнении хора Синодального училища эти два мои песнопения имели громадный успех... В 1899 году Синодальный хор отправился в Вену, и в программе венского концерта были эти два хора, которые так же, как и в Москве, имели и там очень большой успех» (с. 69–70).
Деятельность Бердникова на посту инспектора малолетних певчих, а с 1860-х годов – инспектора училища заслужила самую высокую оценку современников. Экзаменаторы отмечали, что обучение поставлено замечательно, ревизоры были довольны и ответами учеников, и общим их развитием, и внешней благовоспитанностью; указывалось также, что зубрежки нет и в помине, речь и письменные работы – осмысленные. Прокурор А. Потемкин в докладной записке 1881 года писал, что Бердников являлся все время душой обновления и усовершенствования обоих учреждений, хора и училища. Смоленский в письме к Н. Ф. Финдейзену от 3 ноября 1897 года констатировал, что училище в старом его виде благоустроено трудами Бердникова, отдавшего этому делу двадцать пять лет своей трудовой жизни, и что после Бердникова училище и хор пришли в полнейший упадок. (См. о Бердникове также в «Воспоминаниях» С. В. Смоленского и комментариях к ним.
По косвенным данным, которые несколько расходятся с данными, приведенными в книге Металлова, можно сделать вывод, что Кашкин преподавал теорию музыки с осени 1872 по весну 1874 года.
Имеются и другие свидетельства о голосе Орлова. Так, Смоленский дважды – в «Воспоминаниях» и в цитированном выше письме к Финдейзену – говорит об Орлове как о дисканте Синодального хора. Регент В. Зверев после прослушивания братьев Орловых сделал пометку на их прошении: «На испытании мальчики Орловы оказались к пению очень хорошими» (РГАДА, ф. 1183, on. 1, кн. 40, № 183). Василий Орлов находился в составе Синодального хора с июля 1870 по декабрь 1872 года.
Орлов поступил в училище при Синодальном хоре в возрасте 13 лет, что являлось скорее исключением, чем нормой. Как более старший и более развитый он, бесспорно, мог влиять на товарищей. Об успехах Орлова свидетельствуют пометки инспектора Бердникова на полях ряда документов. Июль 1872 года: «Его [дяди] хлопотам обязаны своим настоящим устройством и старшие Орловы, из которых один особенно (Василий), уволенный когда-то отцом из Заиконоспасского училища, в настоящее время в нашем училище один из лучших учеников» (РГАДА, ф. 1183, оп. 10, ч. 3, № 3). Январь 1873: «Учатся и ведут себя Орловы хорошо, а Василий отлично хорошо» (РГАДА, ф. 1183, оп. 10, ч. 4, № 18). Январь 1874: «На проведенном 4 января испытании воспитанников училища, обучающихся игре на скрипке, все тринадцать оказали значительные успехи, в особенности воспитанники 4 класса Василий Орлов и Петр Сергеев» (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, ч. 4, № 234).
Официально в 1870-х училище так не называлось, но в быту уже тогда встречалось наименование «Синодальное училище», например, в прошениях на имя прокурора Московской Синодальной конторы.
Это могло быть в 1873/74 учебном году, когда Орлов посещал высшее отделение четвертого класса, возможно, теорию музыки вместе со взрослыми певчими. Теоретические занятия взрослых, как видно, имели место уже в начале 1870-х годов.
По всем документам Орлов окончил училище в мае 1874 года и в том же году поступил в Московскую консерваторию.
Орлов слушал у Кашкина лекции только по истории музыки в 1879/80 учебном году.
С некоторых пор это стало необходимым условием для тех, кто занимался регентской деятельностью в архиерейских, кафедральных и частных хорах или желал получить соответствующее место. Орлов тоже держал экзамен на получение аттестата от Придворной капеллы, и 16 февраля 1881 года ему был выдан аттестат первого разряда № 580 за подписью Н. Бахметева. В нем указано, что Орлов имеет надлежащие познания для обучения певчих простому церковному пению и пению одобренных новейших духовных сочинений, но пение при богослужении концертов, равно как и собственных сочинений и переложений, не получивших одобрение Капеллы, ему воспрещается.
Если первый год после окончания училища Орлов жил на деньги, остававшиеся на счетах его и брата Александра в Синодальной конторе, то в августе 1875 года он вынужден был поступить на службу. Официально на педагогическое поприще Орлов вступил в сентябре 1879 года, заняв место учителя пения в Московском реальном училище на Б. Никитской улице, напротив консерватории. Жил он в это время в номерах Руднева на Тверской.
Литургия св. Иоанна Златоуста ор. 41 сочинялась Чайковским в мае 1878 года, а вышла в свет в январе 1879 года.
Где и когда состоялось это исполнение, до сих пор остается не выясненным. Еще при жизни Орлова в биографическом очерке о нем, опубликованном в РМГ (1903, № 52) за подписью «Л.» (И. Липаев), говорилось об исполнении Литургии в церкви Комиссаровского технического училища (в Благовещенском переулке). В некрологе, появившемся в «Московских церковных ведомостях» (1907, № 46–47), указана церковь Б. Вознесения (на Б. Никитской). В сборнике «Памяти В. С. Орлова» данное событие перенесено в церковь Николы в Хлынове (Хлыновский тупик). Думается, последняя версия вызывает наибольшее доверие: типография Мамонтова находилась в Леонтьевском переулке неподалеку от храма Николы в Хлынове, где, по-видимому, и пели любители из типографии под управлением Орлова.
Еще труднее определить дату исполнения. Ясно, что она относится к периоду между первым исполнением Литургии, состоявшимся в Киеве 8 апреля 1879 года в университетской церкви (хор университета под управлением Станиславского), и московской премьерой сочинения в экстренном концерте ИРМО 18 декабря 1880 года (хор П. Сахарова под его управлением). Источники говорят, что во время исполнения Литургии Орловым в церкви присутствовал автор и что Орлов в это время еще учился в консерватории. Учитывая сроки всех приездов Чайковского в Москву в 1879 и 1880 годах, представляется, что наиболее удобным во всех отношениях моментом для исполнения Литургии было пребывание композитора в Москве со 2 по 11 апреля 1880 года; воскресенье приходилось на 6 апреля, когда и могло состояться интересующее нас событие.
В одном из документов Орлов отмечал: «...Я занимался изучением игры на скрипке всего три года, а между тем знаний, приобретенных в столь, по-видимому, короткий срок, оказалось вполне достаточно для руководства хором фабричных служащих в типографии Мамонтова и для достижения очень хорошего успеха, если судить об успехе по тому сочувственному отзыву, которого удостоился хор от многих преподавателей консерватории» (ГЦММК, ф. 36, № 97).
Организаторами Русского хорового общества явились дирижер К. К. Альбрехт и любитель хорового пения И. П. Попов. В 1877 году они собрали небольшой мужской хор и разработали устав будущего общества, которое с 1878 по 1917 год играло заметную роль в распространении светского хорового пения а сарреlla в Москве.
Известный в Москве церковный хор Н. А. Смирнова в ноябре 1882 года вместе с дирижером В. Войденовым вошел в состав РХО уже в качестве духовной певческой капеллы. Совет старшин общества хотел назначить руководителем капеллы Войденова, но певчие потребовали Орлова, который был приглашен и оставался на этом посту до весны 1886 года. Работа Орлова дала замечательные результаты, однако тяжелое материальное положение капеллы не позволило ей широко развернуться. Последним дирижером этого коллектива стал Ф. А. Иванов (1886–1888).
Спевки Русского хорового общества (исполнительные собрания) проводились в стенах консерватории, все имущество и библиотека РХО находились там же. Дирижерами РХО после Альбрехта состояли профессоры и директоры Московской консерватории Аренский, Сафонов и Ипполитов-Иванов. В 1886–1887 годах Чайковский уделял большое внимание деятельности РХО и певческой капеллы, которую в 1885 году отделили от общества и содержали на пожертвования частных лиц.
Это случилось позже, а именно в сентябре 1886 года.
Из двух претендентов – Н. И. Соколов и В. С. Орлов – предпочтение было отдано второму как даровитому и многообещающему регенту. Узнав из письма Орлова об освобождающемся месте регента Синодального хора и о желании Орлова занять это место, Чайковский 26 февраля 1886 года, опережая естественный ход событий, обратился к обер-прокурору Синода К. П. Победоносцеву с предложением кандидатуры Орлова, а 27 февраля написал крайне важное письмо московскому начальнику Синодального хора А. Н. Шишкову:
«Ваше превосходительство милостивый государь Андрей Николаевич!
В ответ на почтеннейшее письмо ваше позвольте прежде всего поблагодарить вас за лестное обращение ваше ко мне. Значение, которое вы придаете моему отзыву в таком важном вопросе, радует меня в высшей степени, так как я живейшим образом сочувствую процветанию нашей церковной музыки и знаю, что содействуя по мере сил к назначению В. С. Орлова старшим регентом при Синодальном хоре, оказываю тем самым услугу делу, которому предан всей душой.
В. С. Орлов пользуется в музыкальном мире Москвы такой превосходной репутацией музыканта вообще и специалиста по церковному пению в особенности, что я мог бы ограничиться лишь несколькими словами для того, чтобы должным образом воздать ему справедливость. Но мне хотелось бы указать на некоторые особенные причины, по коим я бы желал именно его видеть во главе синодальных певчих, причем должен оговориться, что г. Соколова вовсе не знаю и не имел случая оценить его достоинств и прав на имеющуюся в виду вакансию.
Мы переживаем чрезвычайно важную эпоху в деле русской церковной музыки. Начиная с конца прошлого века, вследствие неблагоприятных исторических условий, она постепенно уклонялась от своего настоящего пути в сторону итальянско-католического стиля и, несмотря на то, что у нас, благодаря нотным книгам, издаваемым Св. Синодом, сохраняются во всей их подлинности древние оригинальные напевы, утратила свой первоначальный характер и органическую связь со всей обстановкой и общим строем православного богослужения. Навязанный русской церкви чуждый ей стиль до такой степени прочно, однако, водворился в ней, что ежедневно мы можем быть свидетелями того странного факта, что лица, интересующиеся этим делом, восстают против даже самых скромных попыток возвратить нашей церкви тот строй богослужебного пения, который искони составлял драгоценнейшее достояние ее. Не далее, как несколько лет тому назад такого рода попытки, вследствие весьма странного недоразумения, подвергались гонению со стороны лиц, которые, казалось, должны бы были сочувствовать искоренению ложного направления нашей нотной церковной музыки. Но обстоятельства изменились. В настоящее время, когда, как мне хорошо известно, сам государь император горячо сочувствует делу возрождения, когда русским композиторам уже не возбраняется посвящать свои способности и усердие родной церкви, когда, напротив, они к тому поощряются и когда число людей, понимающих истинные потребности православного богослужебного пения, с каждым днем увеличивается, – в такое время чрезвычайно важно, чтобы во главе первенствующего столичного певческого хора стояло лицо, относящееся к делу не рутинно-ремесленно, а авторитетно, с сознанием святости возложенной на него миссии. Такое лицо прежде всего должно обладать солидным музыкальным образованием; затем ему нужна опытность в технике своего дела и, наконец, оно должно быть на высоте современных требований в области церковного пения, не будучи, однако ж, настолько фанатически предано идее реформы, чтобы, получивши власть, действовать круто, односторонне, без должной осмотрительности и серьезности. По моему мнению, никто больше В. С. Орлова не соответствует всем означенным требованиям. Будучи прекрасным музыкантом, будучи практически знаком со своей специальностью (ибо он в малолетстве сам был певчим, а теперь уже несколько лет состоит регентом известного вам хора), будучи умным человеком, притом воодушевленным горячей любовью к делу, – он, в случае назначения, поставит хор синодальных певчих на подобающую высоту и, без всякого сомнения, оправдает возлагаемые на него надежды. Позволю себе смело, решительно и горячо рекомендовать В. С. Орлова вашему вниманию. В надежде, что рекомендация эта посодействует осуществлению искреннейшего желания моего, чтобы Синодальный хор попал в достойные руки, покорнейше прошу вас, многоуважаемый Андрей Николаевич, принять уверение в совершенном моем к вам уважении и преданности, с коими имею честь быть вашего превосходительства, милостивый государь, покорнейшим слугою П. Чайковский».
(Чайковский П. И. Поли, собр. соч., т. XIII. М., 1971, с. 290–292).
Летописец московской музыкальной жизни И. В. Липаев, на глазах которого совершалось чудо преображения Синодального хора, впоследствии вспоминал:
Не знаю, насколько легко себя чувствовал от нового труда В. С. Орлов, на которого всей практической частью обрушился труд с певчими, но С. В. Смоленский нередко в разговорах о хоре схватывался за голову руками и вскрикивал: «Ах, этот хор, он режет наши силы безмилосердно! Вы взгляните на Василия Сергеевича, на кого он стал похож? Ну, да никто, как терпение...» И действительно, едва ли уже не с начала 1890-х годов начали таять силы великого регента, а сердце падать в своей неустанной работе. Бывало встретишь его желтого, изнеможенного, еле передвигающего ноги и спросишь: «Откуда?» «Со спевки!..» – упавшим голосом ответит регент. Однако за три-четыре года усиленного труда Орлова и Смоленского хор стал неузнаваем. Его отношение к делу стало примерным, как и само исполнение. На концерты ломилась публика. Вокруг хора образовался густой ряд поклонников из лучших музыкальных сил. Послушать его дивное пение приезжали из провинциальных городов, а концерты стали событием музыкальной Москвы» (РМГ, 1915, № 35–36, стлб. 544– 545).
Рецензент журнала «Музыка и пение» Ст. Ф. Е. (Ф. Е. Степанов) писал: «Синодальный хор усердно продолжает пропагандировать церковную музыку в духе народных древних напевов. Он время от времени в своих концертах доставляет возможность познакомиться со многими интересными произведениями современных музыкальных авторов, он идет своим намеченным путем неуклонно, он единственный в России хор в смысле образца, желающий усовершенствоваться в постановке хорового пения, и чем больше знакомишься с внутренней стороной его пения, тем больше удивляешься богатству, силе, глубокой прочувствованности, красоте, гибкости и разнообразию выражения исполнения им духовно-музыкальных произведений, под управлением его дирижера-художника В. С. Орлова. Смотря и на внешнюю сторону хора (замечательную дисциплину), видя, что каждый стоящий в храме чтит своего дирижера за главу и талант, эффект усиливается прогрессивно. На его духовные концерты стекается множество московской публики и приезжают и иногородние за сотни верст» (1902/03, № 6).
В это время в Синодальном хоре сложилась довольно запутанная ситуация. С назначением Орлова на пост директора место регента как бы стало вакантным, однако Ширинский-Шихматов не торопился назначать на него Кастальского, прекрасно понимая, что Орлов без хора не сможет жить. Ширинский-Шихматов перевел Кастальского из помощников в исполняющего обязанности регента, оставив за Орловым фактическое руководство хором. Должность помощника предполагалось держать вакантной до появления кандидата, который в будущем мог бы занять место регента. Летом 1901 года на должность помощника Орлов пригласил П. Г. Чеснокова. Кастальский в ноябре того же года сообщал Смоленскому, что время спевок распределено следующим образом: два дня – Чесноков, два дня – Кастальский, один – Орлов, шестой день – приготовление к службам. В январе 1902 года вводится должность второго помощника – специально для Н. М. Данилина. По этому поводу А. В. Преображенский писал Смоленскому в Петербург: Вчера вечером в присутствии Наблюдательного совета проходила апробация Данилина в роли регента Синодального хора. Для меня это было новостью. Объяснение было такое, что, мол, остаются лишние 600 рублей, которые девать некуда и которые пригодятся Данилину. Теперь у Синодального хора целых четыре регента – Орлов, Кастальский, Чесноков и Данилин. В одной скорлупе – 4! Могут ли они долго ужиться в ней?» (Письмо от 11 января 1902 года. ЦГИА, ф. 1119, оп. 1, № 164). В этой ситуации Орлов сохранил за собой ответственные выступления и духовные концерты хора, за Кастальским и его помощниками оставались службы в Успенском соборе. Взаимоотношения четырех регентов, действительно, были напряженными. Так, и Чеснокову, и Данилину (который к тому же не поладил со взрослыми певчими) в мае 1904 года пришлось уйти. На их место взяли человека «нейтрального» – П. В. Власова. Но все-таки, когда в конце 1906 года Орлов почувствовал себя хуже, он вторично – и теперь уже с полным сознанием важности такого решения – пригласил Данилина в хор как своего очевидного преемника.
Получив от Чеснокова известие о кончине Орлова, Смоленский сделал дневниковую запись: «Как директор покойный не подлежит критике, так как его заставили быть директором, и он, в сущности, не мог и работать, не имея для директорства ни ума, ни способностей, ни образования, ни даже и определенного, вне прокурорского самодурства, служебного положения. <...> Я лично всегда высоко уважал Орлова-регента и всегда дружил с ним...» (ЦГИА, ф. 1119, on. 1, № 12). Еще раньше, в марте 1902 года, Кастальский так обрисовал положение Орлова: «Василий Сергеевич со времени своего назначения директором до того разозлился, получая постоянно только одни тяготы и даже самые злые оскорбления, что невыносимость его положения, вероятно, была замечена сильно и выразилась с такой трудно передаваемой яркостью, что появление этой статьи меня, по крайней мере, сильно обрадовало» (Письмо к Смоленскому // РГИА, ф. 1119, on. 1, № 146). Речь идет о статье К.П.С. «П. И. Чайковский и Московский Синодальный хор» в «Московских ведомостях» (1902, 27 февраля): в ней раскрывается историческое значение Синодального хора в возрождении древнерусских певческих истоков и особенно подчеркивается роль Орлова.
Орлов страдал эндокардитом – воспалением сердечной оболочки. По словам его дочери Надежды Васильевны, все началось с осложнения после инфлюэнцы.
О последних месяцах жизни Орлова красноречиво говорится в записке прокурора Ф. П. Степанова, направленной в Петербург за два дня до кончины регента с просьбой помочь его семье: «Орлов более двадцати лет стоит во главе дела по церковному пению в России, его заслуги общегосударственные. Он создал направление и школу в церковном пении в духе русской церковности и русской старины, пропагандировал эту школу своим Синодальным хором, который он довел до неподражаемого совершенства, и был руководителем всех регентов России, которые смотрели на него как на учителя своего и доброго советчика. Ныне Орлов весьма серьезно болен и лежит, не вставая, более двух месяцев, средств у него абсолютно никаких. Лечение страшно дорого стоит, и семья его кругом задолжала, не жалея ничего, лишь бы дать ему возможное облегчение. <...> Помочь более нет возможностей, а положение самое критическое – денег больше негде достать» (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, ч. 2, № 54). Синод удовлетворил просьбу Московской Синодальной конторы, выделив средства на пособие семье, а потом на погребение.
Похороны Орлова превратились в грандиозное прощание с великим художником. «Московские церковные ведомости» (1907, № 48) поместили полный отчет об этом дне: «Похороны Василия Сергеевича отличались необыкновенной торжественностью, и вполне наглядно здесь высказалась та любовь, уважение и признательность усопшему, которые он снискал среди духовенства, начальствующих лиц и многочисленных своих учеников и почитателей памяти. У его гроба были совершены панихиды преосвященными епископами Трифоном, Анастасием, оо. архимандритами, протоиереями и многочисленными священниками. Всех панихид было совершено до тридцати. Панихиды были отслужены по желанию различных учреждений, где служил усопший, а также содержателей певческих хоров Москвы и певчих. За панихидами присутствовали массы почитателей памяти усопшего. 13 ноября дубовый гроб с прахом усопшего был перенесен из его квартиры в залу Синодального училища. Здесь накануне погребения заупокойную всенощную совершал преосвященный Серафим, епископ Можайский, с протопресвитером Успенского собора, оо. архимандритами Гавриилом, Афанасием и Арсением и многочисленным духовенством. Все время у гроба непрерывно совершалось чтение псалтыри воспитанниками Синодального училища. 15 ноября в 8 с половиной часов утра к гробу почившего собралось многочисленное духовенство, преподаватели, воспитатели и воспитанники Синодального училища и масса почитателей памяти покойного. О. протоиереем Н. И. Пшеничниковым была совершена лития, после которой преподавателем Синодального училища г. Левитским была произнесена надгробная речь; при пении Синодальным хором «Святый Боже» процессия направилась в храм Б. Вознесения. Масса публики шла за гробом и стояла по пути. Гроб был внесен в громадный Вознесенский храм, уже переполненный до тесноты публикой, поставлен на траурный катафалк и закрыт покровом из серебряной парчи. На гроб были возложены серебряные венки от управляющего Придворной капеллой графа А. Д. Шереметева, от преподавателей Синодального училища и из живых цветов и металлические от прокурора Синодальной конторы, от воспитанников Придворной капеллы, от воспитанников Синодального училища, от Московской консерватории, от содержателей певческих хоров Москвы, от певчих частных певческих хоров и др. В 10 часов утра началась заупокойная литургия, которую совершал преосвященный епископ Серафим с оо. архимандритами Борисом, Гавриилом и Арсением, о. протопресвитером Успенского собора В. С. Марковым, оо. протоиереями И. Д. Арбековым и В. И. Благовещенским, духовником почившего И. С. Воздвиженским и пятью священниками. Синодальный хор под управлением А. Д. Кастальского превосходно исполнил песнопения из Литургии Чайковского. Вместо запричастного стиха преподавателем Синодального училища о. Металловым была произнесена проповедь. В храме находились: прокурор Синодальной конторы действительный статский советник Ф. П. Степанов, профессора консерватории, члены Наблюдательного комитета Синодального училища, преподаватели и бывшие ученики Синодального училища, масса регентов и преподавателей церковного пения и почитатели памяти почившего. Народу собралось так много, что обширный храм был переполнен до полноты. Тысячная толпа публики окружала во время богослужения храм. В 11 с половиной часов утра началось отпевание, на которое вышли преосвященные епископы Трифон, Серафим и Анастасий, оо. архимандриты Борис, Аристарх, Гавриил, Афанасий, Арсений, о. протопресвитер, оо. протоиереи И. Д. Арбеков, В. М. Славский, В. И. Благовещенский, А. С. Горский, Н. И. Пшеничников, В. Г. Субботин и восемнадцать священников. Перед началом отпевания преподавателем Синодального училища о. Богословским было произнесено надгробное слово. Во время отпевания были произнесены речи о. Строгановым, братом почившего священником села Капотня, инспектором Синодального училища Степановым и воспитанником Орловым. В два часа дня закончилось отпевание; при колокольном звоне гроб был вынесен из храма и по совершении преосвященным епископом Анастасием литии процессия направилась к Синодальному училищу, где была отслужена лития, а оттуда в Алексеевский монастырь. Всю дорогу впереди гроба шли преосвященный Анастасий, архимандрит Гавриил и восемь протоиереев и священников. Перед церквами совершались литии с колокольным звоном. Содержатели десяти частных певческих хоров Москвы послали для сопровождения гроба и пения литий по 25 человек певчих от каждого хора, которые были разделены на несколько групп по всему пути следования процессии. Гроб все время несли на руках бывшие воспитанники Синодального училища, его сослуживцы и ученики, образовавшие громадный хор, непрерывно исполнявший «Святый Боже». За гробом следовала тысячная толпа и длинная вереница экипажей. В 4 часа вечера процессия прибыла в Алексеевский монастырь. При торжественном колокольном звоне навстречу вышло монастырское духовенство, которое при пении Синодального хора совершило литию. Гроб на руках сослуживцев и бывших учеников усопшего понесли к могиле, приготовленной на новом кладбище близ Всесвятской церкви. Преподавателем училища Дубининым и бывшим воспитанником Гребневым были произнесены надгробные речи, после которых преосвященный Анастасий совершил последнюю литию и гроб при колокольном звоне был опущен в могилу и засыпан землею. Печальный обряд закончился в 4 с тремя четвертями часа вечера. На могильный холм был водружен крест и возложены венки».
Алексеевский женский монастырь «близ Красного пруда» (нынешняя Верхняя Красносельская улица) был основан в XIV веке, закрыт около 1930 года и почти разрушен; кладбище уничтожено.
Церковь Всех Святых, около которой был погребен Орлов, сохранилась частично. Перед уничтожением кладбища родственникам усопших было предложено перенести прах, однако семья Орлова не имела на это средств.
В течение 1906/07 учебного года группа преподавателей и членов Наблюдательного совета активно работала над пересмотром и уточнением учебного плана, программ по музыкальным и научным предметам, а также над составлением нового проекта устава и штата Синодального училища и хора с положением о правах и преимуществах служащих и учащихся – в связи с задуманным преобразованием училища из среднего в высшее музыкально-учебное заведение. Прошло три года, прежде чем Синод после согласований и поправок утвердил программы. Борьба за устав и штат продолжалась еще несколько лет, но так и не увенчалась успехом.
Речь идет об Исторических концертах Синодального хора в феврале-марте 1895 года под управлением Орлова.
На это указывали также рецензенты и сами «синодалы», например, Н. Голованов и Н. Белкин. Можно смело утверждать, что духовная музыка Чайковского была особенно близка Орлову и любима им, что Орлов был ее лучшим исполнителем, а Херувимская из Литургии – вершиной его дирижерского искусства.
Специально композицией Орлов не занимался ни с Чайковским, ни с Танеевым, но в данном контексте «теорию композиции» следует понимать широко.
И все же Орлов не избежал участи многих регентов, пробовавших свои силы в композиции. Чаще всего это были малохудожественные сочинения, так что появился даже специальный термин – «регентская литература». В отличие от коллег Орлов не исполнял собственные сочинения. Только после его кончины, специально к концерту «Памяти В. С. Орлова» 16 декабря 1907 года, Синодальным хором были разучены и исполнены под управлением Кастальского два орловских переложения – «Дева днесь» (греческого роспева) и «Како не дивимся» (догматик знаменный третьего гласа); благодаря этому они сохранились в литографированных партитурах. В первую годовщину, 10 ноября 1908 года, хор вновь исполнял эти сочинения в зале училища при открытии бюста Орлова, и еще раз, 14 декабря 1908 года, одно из них прозвучало в духовном концерте хора.
Обычно после первого отделения Орлов шел в свою квартиру, а из зала туда спешила его жена, чтобы поменять рубашку, мокрую от волнения и напряжения. Там дирижер пил чай, иногда в присутствии гостей, также приходивших из зала.
Иногда Орлов так и поступал: он уезжал на несколько дней в какой-нибудь ближний монастырь для отдыха.
Как рассказывала дочь Орлова, однажды после ссоры с Ширинским-Шихматовым Орлов принес ему прошение об увольнении. Князь порвал прошение со словами: «Вас, Василий Сергеевич, из училища могут только вынести».
В эти годы Орлов был членом Общества любителей церковного пения и членом Комиссии по осмотру и изучению памятников церковной старины города Москвы.
Приведем свидетельство брата дирижера, священника Иоанна Орлова: «Позволь мне в последний раз поблагодарить тебя за твою отеческую заботливость обо мне как о младшем брате. С самых ранних лет лишившись родителей, ты для меня заменил их. Так, еще в детстве, во время пребывания моего в Синодальном училище, не забуду, как один мой легкомысленный поступок угрожал мне гибелью и только твое лишь заступничество спасло меня. И во все последующее время ты всегда был заботлив, сердечен и внимателен ко мне. Да не ко мне только, а ко всем родным. Сколько раз тебе приходилось благоустроить жизнь покойного брата Платона, сестры Евдокии. Сколько благодаря тебе и твоей просьбе благоустроено племянников и племянниц, и двоюродных братьев» (из речи на похоронах 15 ноября 1907 года – сб. «Памяти В. С. Орлова»). В некрологе, опубликованном в журнале «Баян» (1907, № 11), читаем: «Нельзя умолчать о В. С. Орлове, как и о человеке. Несмотря на массу занятий и не имея отдыха, он всегда был готов побеседовать со всяким регентом-провинциалом, не взирая на происхождение и на популярность последнего. В беседах он был прост, приветлив, и каждый, побывавший у него, всегда уходил обновленным и с подъемом духа».
Яркую характеристику Орлову дает В. А. Булычев в неопубликованных воспоминаниях «Жизнь и искусство» (ГЦММК, ф. 277, № 24, т. 3, с. 307–308): «С Орловым и Кастальским у меня были довольно отдаленные отношения. У Орлова в гостях я был раза два-три, познакомился с его толстущей женой, кажется, Еленой Николаевной, сыновьями и дочками, которых было что-то много. Принимали меня очень радушно, но сам Орлов как-то меня стеснялся, видимо, стыдясь своих запоев, и музыкальных разговоров, кроме самых ординарных, мне заводить с ним не удавалось. Будучи очень талантливым регентом, в общемузыкальном отношении он был малоразвитым человеком и как-то боялся высказывать свои суждения. Он жил в директорской квартире, и сидели мы за тем же столом, за которым я когда-то сидел со Смоленским, но дух всей обстановки был иной: я чувствовал себя почетным гостем, но не другом и приятным собеседником на почве любимого искусства. В этой семье приходилось вести самые обыкновенные, мещанские разговоры о дороговизне и неудобствах квартир и о городских происшествиях. Конечно, все это не могло содействовать моему сближению с этим мне симпатичным и односторонне талантливым человеком».
Чтобы лучше понять натуру Орлова, обратимся к свидетельству его дочери Надежды Васильевны. Вспоминая отца, она рассказывала, что характер у него был тяжелый, властный, несколько деспотичный, а сам он по натуре – очень нервный, принимавший все близко к сердцу. Курил он много – не переставая, постоянно. Отец запомнился дочери как человек молчаливый, скромный, малообщительный, предпочитавший уединение, любивший тишину и очень страстно природу. Всегда правдивый, он был таким и в общении с детьми, которых любил и защищал. К тем, кто ему нравился, относился тепло, а кто не нравился – с холодной вежливостью. Мало кто мог похвастаться дружбой с ним. Был он по природе домоседом, концерты посещал редко, и то – послушает чуть-чуть и уходит. О событиях жизни, книгах, концертах и выставках ему рассказывали дети, которых у него было четверо и суждениям которых он полностью доверял.
Кругликов-рецензент писал в 1894 году: «Синодальный хор в настоящее время – лучший из духовных хоров Москвы. Он хорошо подобран по голосам, отлично спелся; его регент г. Орлов человек музыкальный, получивший основательное музыкальное образование в Московской консерватории. Дарование и вкус регента сказываются в характере исполнения хора: оно прежде всего ритмично, чего нельзя никак сказать про большинство хоров церковных певчих, во главе которых стоят обыкновенно регенты-практики без солидного общемузыкального образования. Синодальный хор поет замечательно стройно. Его fortissimo полно и не крикливо, pianissimo – нежно и красиво. Но не все в Синодальном хоре доработано до степени, когда уже никаких упреков сделать нельзя. Его мужские голоса несколько давят детские, а это особенно заметно в pianissimo» («Артист», 1894, № 33).
Нужно заметить, что Кругликов находился под обаянием таланта и дирижерской манеры (противоположной Орлову) знаменитого регента Чудовского хора Ф. А. Багрецова, поклонником которого Семен Николаевич оставался до конца жизни.
Автор ведет отсчет со дня преобразования хора патриарших певчих дьяков в Синодальный хор, то есть с начала XVIII века.
В Москве, наряду с возникавшими и исчезавшими частными певческими хорами, на протяжении многих десятилетий соперничали два постоянных больших профессиональных хора – Синодальный и Чудовский. Слава и успех каждого из них зависели прежде всего от руководителей. Так, Чудовский хор на протяжении тридцати с лишним лет возглавлял высокоталантливый регент Ф. А. Багрецов, и в этот период чудовские певчие пользовались любовью и вниманием москвичей. После кончины Багрецова в 1874 году слава хора стала меркнуть. (Подобным же образом петербургская Придворная певческая капелла достигла зенита мастерства во времена директорства А. Ф. Львова, когда хором руководили выдающиеся регенты Г. Я. Ломакин и А. И. Рожнов.) С приходом в Синодальный хор Орлова, а затем Данилина коллектив занял первенствующее положение среди духовных хоров России и вплоть до 1918 года твердо держал пальму первенства. При этом в предшествующий период, при регентах В. Звереве и Д. Вигилеве, Синодальный хор, находясь в ряду лучших духовных хоров Москвы, все же не выделялся какими-то особыми исполнительскими качествами.
Это подметил и С. В. Рахманинов, сказав однажды: «Что особенно ценно в этой организации – это ее спаянность, ее внутренняя дисциплина, основанная, с одной стороны, на товарищеских отношениях всех хористов друг к другу и к своему регенту, и в то же время подчинение хора единой воле и авторитету своего руководителя» (письмо к Е. С. Елинскому от 19 ноября 1935 года // Рахманинов С. В. Литературное наследие, т. 3. М., 1980, с. 64).
По поводу отношений дирижера с хором можно добавить следующее: мальчики-певчие обожали Василия Сергеевича, а взрослые уважали его. Орлов, так же, как и Н. Г. Рубинштейн, имел редкий дар вдохновлять исполнителей и вселять в хор артистическое воодушевление. Приведем всего лишь один факт: после особенно удачных выступлений мальчики в порыве энтузиазма выносили Орлова на руках со сцены и несли до дверей квартиры, причем жена регента бежала открывать, боясь, что дети уронят Василия Сергеевича.
Орлов знал себе цену, хотя никогда не говорил об этом вслух, и желал, чтобы к Синодальному хору относились с подобающим вниманием и ни при каких обстоятельствах не унижали его артистического достоинства. Видимо, поэтому при Орлове участие хора в частных службах было сведено к минимуму.
По свидетельствам «синодалов», певших под управлением Орлова в середине 1900-х годов, он плохо владел инструментом. Иногда на его репетициях за роялем сидел Данилин или кто-то из старших учеников. На репетициях и концертах он пользовался невысокой подставкой, дирижировал резко, почти все время одной правой рукой. Жесты были небольшие, перед собой, на уровне груди.
Никольский не говорит о слухе Орлова, а между тем, по словам дочери регента, он еще мальчиком поражал окружающих совершенно особенным, изумительным слухом.
Как вспоминал певчий Н. Белкин, мальчики в партиях сливались в один голос: этому способствовала как тембровая подобранность голосов, так и работа на спевках по слиянию голосов в унисоне. Особенно запомнился Белкину унисон в начале песнопения Кастальского «Сам Един».
По рассказам московского старожила А. Л. Вознесенского, он слышал пение хора под управлением Орлова в день похорон Войденова, причем одно сочинение было исполнено на невероятном pianissimo. «Я замечал, что взрослые певчие порой по мощи и красоте отдельных голосов уступали другим хорам. Зато вместе пели так слаженно, художественно и артистично, что тягаться с ними было невозможно. Это как Художественный театр, где не было чудо-актеров, а был ансамбль, естественность, правда жизни», – говорил Вознесенский.
О том же писал С. Н. Кругликов в рецензии на концерт Синодального хора: «...Оттенки Орлова грешат некоторой манерностью и преувеличенностью: слишком часты резкие переходы от очень громкого звука к очень тихому. Впрочем, это упрек не одному Орлову. Он вообще относится к нашим концертным и театральным дирижерам. Со времен Эрдмансдерфера Москва забыла, что значит художественная простота исполнения. Нам преподносят не столько музыку, сколько звуковые эффекты. Все подчеркнуто, чтобы контрасты выходили разительнее. Правильного перехода от forte к piano нет, он заменен скачком от fortissimo к pianissimo. По счастью, у Орлова нет резких контрастов, но и его forte и его piano утрированы. Это уже не эффекты, а манера. Манерность в передаче духовной музыки еще, конечно, менее желательна, чем при исполнении светской музыки» («Артист», 1894, № 33).
В рецензии Ст. Ф. Е. в журнале «Музыка и пение» (1902/03, № 6) говорилось: «После исполнения Синодальным хором сочинений Кастальского приходится сознаться, что все наши и особенно провинциальные регенты не умеют исполнять сочинения Кастальского и уродуют их <...>. Регентам можно смело рекомендовать идеальный хор – Синодальный как единственно могущий исполнять мастерски эти сочинения».
Журнал «Баян» в заметке об организации фонда имени В. С. Орлова писал в 1908 году (№ 12): «Русские композиторы чутко прислушивались к пению своих произведений Синодальной капеллой и на нем опознавали и проверяли силу и размер своих дарований. Директора школ, настоятели монастырей, епископы русской церкви и знатоки церковно-певческого дела стремились поставить во главе своих частных хоров людей, воспитавшихся на музыкальных преданиях и практике Синодального хора. Из Болгарии и Якутской области посылались молодые люди на выучку в хор, руководимый Орловым; даже простых синодальных певцов охотно приглашали в преподаватели пения и управители хорами при городских школах, полках, приютах <...>. Даже обычные спевки Синодального хора под управлением В. С. Орлова постоянно посещались москвичами и жителями других городов, являлись живой школой вкуса и понимания в сфере церковного песнотворчества. Таланты, знания, вкус, чувство В. С. Орлова учили и воспитывали всю церковно-певческую Россию».
Нападкам подвергалась сама дирижерская манера Орлова. В книге Н. Зипалова «Ф. А. Багрецов» (Владикавказ, 1914) читаем: «Эта неприличная и непристойная православному храму манера дирижирования – вырисовывать музыкальное содержание пьесы посредством открытых, резких, порывистых движений руками и прибегания к театральной аффектации пошла в Москве и распространилась со времен покойного регента Синодального хора, а позже директора Синодального училища церковного пения В. С. Орлова и, к сожалению, прочно привилась у регентов – учеников Синодального училища, «которые во время дирижирования позволяют себе совершенно недопустимое в храмах, во время богослужения, размахивание руками, сжимание и разжимание ладоней и тому подобные телодвижения, возбуждающие смех и смущение в богомольцах...» («Московский листок»). А между тем Синодальный хор поставлен во главе других хоров в Москве, манера пения им исполняемого и манера дирижирования у регентов этого казенного хора должна служить образцом для всех!» (с. 25).
Речь идет об Обиходе церковного пения Синодального хора, изданном под редакцией Кастальского в двух частях: «Всенощное бдение» (1912) и «Литургия. Архиерейское служение. Молебны. Панихида. Отпевание. Праздничные прокимны и антифоны» (1914). Этому изданию предшествовал выход в конце 1900-х годов двух литографированных сборников под названиями «Литургия» и «Всенощное бдение». Позднее, в середине 1910-х годов, Кастальский начал готовить новую редакцию Обихода.
В начале 1905 года в стенах Синодального училища по инициативе Орлова развернулась работа над осмогласными напевами. О том, как это происходило, писал в 1910 году журнал «Гусельки яровчаты» (№ 9): «Испытавший сам все неудобства от отсутствия хорошо обработанного обихода церковного, знаменитый регент Синодального хора Василий Сергеевич Орлов одно время весьма горячо работал над осмогласными напевами. Он образовал так называемую обиходную комиссию, в которую вошли: В. С. Орлов, А. Д. Кастальский, А. С. Фатеев, Д. И. Зарин, П. В. Власов, протоиерей В. М. Металлов и священник Д. В. Аллеманов. В течение полутора лет, имея по два заседания в неделю, комиссия успела установить определенную редакцию напевов стихирных («Господи, воззвах») и тропарных («Бог Господь») и распеть все стихиры и тропари воскресные. Особенно внимание комиссии было обращено на согласование музыкальных и текстовых предложений, а также и на пунктуацию текста. Впоследствии В. С. Орлов поручил о. Аллеманову гармонизовать обработанные комиссией осмогласные напевы, причем делал немало руководственных указаний по части гармонизации для большого хора. При жизни В. С. Орлова была сделана гармонизация неизменяемых песнопений всенощного бдения и три первых гласа для всех родов молитвословий («Господи, воззвах», «Бог Господь», ирмосов и прокимнов)».
Первый выпуск Обихода церковного пения, содержащий неизменяемые песнопения в гармонизации Аллеманова, был издан в 1908 году, второй выпуск, «Осмогласие», – в 1910-м.
Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. М., 1955, с. 151.
См. письмо Н. А. Римского-Корсакова к С. Н. Кругликову от 30 апреля 1885 года // Римский-Корсаков Н. Литературные произведения и переписка. Поли. собр. соч., т. VIII, с. 149.
Письмо Н. А. Римского-Корсакова к С. Н. Кругликову от 13 июня 1885 года // Там же, с. 149–150
Письмо Н. А. Римского-Корсакова к С. Н. Кругликову от 7 октября 1885 года // Там же, с. 154.
Полный текст писем Ширинского-Шихматова и Кругликова помещен в комментариях к «Воспоминаниям» Смоленского.
РМГ, 1915, № 39– 40, стлб. 583.
Смоленский С. В. Дневник. РГИА, ф. 1119, on. 1, № 12, л. 126–127.
Письмо А. Д. Кастальского к С. В. Смоленскому. РГИА, ф. 1119, on. 1, № 12, л. 126 г.
Металлов В. М. Синодальное училище церковного пения..., с. 116.
Приводим фрагмент письма Кастальского к Смоленскому от 23 ноября 1907 года, в котором рассказывается о представлении Кругликова персоналу и учащимся училища:
«Дорогой Степан Васильевич! Сердечное спасибо вам и Анне Ильиничне за поздравление. Для меня день Ангела в этом году вышел очень своеобразным: в пять часов был собран хор и учителя, и прокурор привел Кругликова и прочитал телеграмму (полученную 22-го) от обера или Роговича – о назначении Кругликова исправляющим обязанности директора, причем держал некоторую «речь» (ахинейного свойства) и закончил: «Пусть Александр Невский и Митрофан (23 ноября) возьмут вас (Семена) под свое покровительство». (О моих именинах он, кажется, забыл.) Семен тоже что-то путал в ответе, между прочим сказал, что хор должен петь отлично и без регента (!)... Начал ходить на уроки и прочее.
Музыкальная Москва крайне удивлена... Меня кто ни встретит, первый вопрос: «Неужели Кругликов назначен?» Вчера в консерватории Борис Юргенсон мне сказал: «В таком случае и мне можно будет попасть к вам в директора». <...>». (Из письма А. Д. Кастальского к С. В. Смоленскому. РГИА, ф. 1119, oп. 1, № 12, л. 126ж–126ж об.)
В своей оценке атмосферы, царившей в те годы в Синодальном училище, Кругликов не одинок. Из письма Кастальского к Смоленскому от 2 декабря 1907 года:
«Дорогой Степан Васильевич! Отвечаю вам прежде всего на вопрос: неужели на Никитской все пропадает? Неужели завелась гниль, а с высоты птичьего полета (понимая его и прямо, и иносказательно) – все как будто обстоит сносно. <...> Но страхи взять на себя что-нибудь самому, без оглядки на высшее начальство, создали то, что на сие «высшее» оглядываться стали все, кончая прислугой и ребятами. При этом, конечно, всякие «пифийские» резолюции не замедлили создать ту милую атмосферу, где ближайшие люди только поворачиваются во все стороны: «это откуда?», «это зачем?». А для хотя наружного укрепления этих резолюций, конечно, всегда находятся «услужливые», которые разделывают «и нашим, и вашим», лишь бы играть «видную» роль...
Ребятишки у нас сейчас порядочные в общем, в старших классах – немало способных и любознательных, преподаватели ровные. Но «дух жив» благодаря единоличным решениям всяких вопросов, благодаря отсутствию «самостоятельной прямой» – принятой единодушно всеми, этого «духа жива» давно уже нет в Синодальном училище. Не мечтал я о директорстве, как вам известно, но мечтал об этом «духе живе». Как музыкальное училище, даже и с историей музыки и народной музыкой (Кочетов), где большую дозу времени отвели теории, широко поставленной, – оно может быть со временем и видным учреждением. Но там, где каждый отбывает только свою «повинность», соприкасающуюся со «шкурным вопросом», где у каждого за спиной что-то подглядывает, где простое, прямое слово часто принимается как упрек, как вызов – там ожидать дружной работы и настоящего расцвета, по-моему, нельзя. Гниль находится, по-моему, в поведении высших по отношению к подчиненным и сих последних обратно (из-за «шкуры»). Лишь бы мне – а другим как угодно. <...>». (Из письма А. Д. Кастальского к С. В. Смоленскому. РГИА, ф. 1119, oп. 1, № 12, л. 132 об. –132в.).
В числе людей, помянувших Семена Николаевича Кругликова после его смерти, был известный московский критик и фельетонист В. М. Дорошевич, который нарисовал словесный портрет своего коллеги: «У него были добрые, усталые, снисходительные глаза. В глубине которых, в самой глубине, прыгала едва заметная искорка насмешливости. Добрая, усталая, благожелательная улыбка. Чуть-чуть, едва приметно, ироническая. Мягкая, несколько ленивая, медленная походка. Он шел в жизни медленно, не торопясь, лакомясь жизнью. Он любил жизнь, ее радости и умел ими лакомиться. Настоящий гастроном жизни. Заходила речь об еде, – он говорил со вкусом умевшего тонко поесть человека. <...> Он говорил о красотах Альп, Рейна, старинных французских замков так, что подмывало взять билет и поехать. <...> В нем была масса вкуса. И ни капли педанта. Ни на грош фарисейства. За всю жизнь он не израсходовал ни одного фигового листика. Он был скептик, и в нем было немножко философского безразличия человека, много видевшего на своем веку» (Дорошевич В, М. Петроний оперного партера // Избранные страницы. М., 1986, с. 308–309).
Дело в том, что духовно-цензурный комитет имеет обыкновение представляемые в цензуру сочинения пересылать на предварительный просмотр в Наблюдательный совет Синодального училища и свое «дозволяется» дает по соображению с теми отзывами, какие делает этот совет. В этом смысле здесь и говорится о «цензорстве» С. Н. Кругликова. – Примеч. А. В. Никольского.
Лисицын М. Москва и Синодальный хор // Музыка и пение, 1905/06, № 11, с. 5.
Программы музыкальных предметов и истории искусств Московского Синодального училища церковного пения. (в объеме курса высшего музыкально-учебного заведения.) М., 1910.
Письмо А. Д. Кастальского к И. В. Липаеву от 12 февраля 1913 года. РГАЛИ, ф. 795, oп. 1, № 16, л. 2–2 об.
Прибавление к «Церковным ведомостям». 1914, № 22, стлб. 1007–1009.
Иванов В. (Держановский В. В.) Преобразование Синодального училища // Музыка, 1914, № 182, с. 373–376.
Сравнительная таблица общеобразовательных и музыкальных предметов по специальности теории музыки консерваторий и Московского Синодального училища // Музыка, № 182, с. 384–385.
См. комментарий 4 к разделу «Из писем 1917–1918 годов».
Кастальский А. Д. Из воспоминаний о последних годах. См. публикацию в настоящем сборнике.
Письмо А. Д. Кастальского к А. В. Затаевичу. ГЦММК, ф. 6, № 322, л. 2 об.
Записка А. Д. Кастальского от 25 августа 1926 года по поводу доклада Н. Я. Брюсовой о реорганизации хорового подотдела МГК. ГЦММК, ф. 12, № 268, л. 2–2 об.
Никольский А. В. Записка о ликвидации ГИМНа [1931 год]. ГЦММК, ф. 294, № 266.
Родословная А. Д. Кастальского очень интересна и достойна отдельного изучения. Отец композитора – известный в Москве протоиерей Д. И. Кастальский – родился в 1820 году в семье И. Е. Даниловского. Первоначально церковнослужитель храма подмосковного села Кусково, в начале XIX столетия Даниловский был поставлен в дьяконы Введенской церкви в Дмитрове. По свидетельству Д. И. Кастальского, его отец получил дьяконство благодаря иконописному искусству. Большой знаток древнерусской иконописи, Иван Егорович, очевидно, обладал незаурядным дарованием; образ его письма находился даже в Успенском соборе Кремля. Димитрий Иванович унаследовал от отца способности к живописи. Однако делом его жизни стало пастырское служение и богословие. По окончании Дмитровского духовного училища, Вифанской духовной семинарии и Московской духовной академии (1844 год) Кастальский четыре года служил профессором Казанской духовной академии, завершив в это время магистерскую диссертацию по патрологии. В 1848 году Димитрий Иванович возвратился в Москву, поступив на службу в Московскую духовную семинарию, где преподавал патрологию, логику, психологию, латинский и немецкий языки. По переезде в Москву он начал печататься в церковных журналах.
В 1850 году Димитрий Иванович женился на дочери священника, воспитаннице Александровского института Ольге Семеновне Грузовой и в 1852 году принял священный сан. Рукоположение совершил духовный наставник Кастальского митрополит Московский Филарет.
С 1853 года началась служба Димитрия Ивановича в Ремесленном учебном заведении (ныне – Московский государственный технический университет им. Баумана), где он являлся законоучителем и священником Мариинской церкви. Следующей вехой его биографии стало назначение к церкви Петра и Павла на Басманной улице, а в 1877 году – возведение в протоиереи и назначение настоятелем Казанского собора.
В зрелые годы Димитрий Иванович приобрел известность как духовный наставник, проповедник, преподаватель и автор богословских работ, как основатель Филаретовского женского училища. Много сил было отдано Кастальским приведению в порядок архива бывшего настоятеля Казанского собора А. И. Невоструева.
Из формулярного списка о службе и должностях лиц, служивших в ведомстве Московской Синодальной конторы, следует, что происходивший из потомственных дворян А. Д. Кастальский действительно обучался во Второй московской гимназии, однако курса не закончил и по прошении отца был уволен из восьмого класса (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, ч. 2, № 71,1905 год)
В упомянутом формулярном списке датой поступления Кастальского в консерваторию назван 1876 год. Кстати, консерваторского курса Кастальский также не завершил: 16 ноября 1878 года он оставил учебу по домашним обстоятельствам.
Впервые Литургия Чайковского прозвучала под управлением П. И. Сахарова в ноябре 1880 года в закрытом концерте Московской консерватории, а 18 декабря этого же года – в экстренном собрании Русского музыкального общества.
Кастальский проживал в Козлове (ныне город Мичуринск) в 1882–1884 годах. Известно, что в организации местного оркестра ему помогал инспектор Московской консерватории К. К. Альбрехт. (См. письмо А. Д. Кастальского к К. К. Альбрехту от 5 марта 1884 года. ГЦММК, ф. 37, № 1911.)
«Пьянистом» композитор назван на афише концерта, проходившего в 1886 году в Витебске, куда Кастальский приехал во время гастролей по западным городам русской провинции с некоей начинающей певицей. Во время концертов он нередко исполнял фортепианные миниатюры, например, мазурки Шопена.
Интересно, что, сам того не желая, Кастальский в своих ранних работах сбивался на «русский стиль». Так, 26 января 1883 года он писал невесте в Москву из Козлова: «А засел я за них [хоралы Баха] опять-таки из-за своих маршей, которые, чтоб им пусто было, все не получаются у меня желаемой формы и все выгибаются в сторону, хотя часто и очень интересную, но все-таки не ту, которую мне надо. То вместо «рабочего0 марша выходит какой-то эпически-наивный марш древнего славянского какого-нибудь князя, то какой-нибудь торжественный и вместе грубоватый, тоже в русском духе, спасибо, хоть довольно недурной (по-моему), но все не то, чего я хочу, марш русского рабочего...» (Кастальская Н. Немногое об отце // А. Д. Кастальский. Статьи. Воспоминания. Материалы. М., 1960, с. 102.)
В марте 1887 года новый регент Синодального хора В. С. Орлов попросил К. К. Альбрехта порекомендовать недорогого учителя фортепиано в Синодальное училище. 20 октября того же года на эту должность в училище поступил Кастальский. (Он не был зачислен в штат и служил по вольному найму.) Не исключено, что именно Альбрехт напомнил Орлову о его бывшем соученике по консерватории. Так же, как и Орлову, рекомендацию Кастальскому дал Чайковский. Скорее всего, она носила формальный характер: Кастальский не принадлежал к числу прилежных учеников и нередко пропускал уроки Чайковского по гармонии, считая их скучными.
Особой любовью современников композитора пользовалось сербское «Достойно», входившее в клиросный и концертный репертуар Синодального хора. Об особенностях исполнения этого сочинения пишет в своих воспоминаниях, опубликованных в настоящем сборнике, А. П. Смирнов.
«Милосердия двери» – одно из первых сочинений Кастальского, появившихся в репертуаре Придворной певческой капеллы после того, как управляющим ее в 1901 году был назначен С. В. Смоленский, с первых шагов начавший популяризацию достижений Нового направления в Петербурге. Это сочинение в исполнении Капеллы произвело столь сильное впечатление на о. Иоанна Кронштадтского, что Смоленский счел нужным сообщить об этом автору: «Дорогой мой Александр Дмитриевич! Сегодня посетил Капеллу о. Иоанн Кронштадтский и ему было исполнено ваше сочинение «Милосердия двери». Хотя и не ахти какой музикус наш дорогой гость, но было очевидно сильнейшее впечатление им полученное, была истинно-трогательно угаданная им наличность обиходных мелодий и самое ясное наслаждение, которое тут же всем высказал по поводу вашего сочинения. Непосредственная, чуткая натура о. Иоанна поняла молитвенность вашего сочинения, и, горячо молясь, он был неподражаем, умилителен, слушая ваши звуки. Должно быть, его молитва передалась певцам, и «Милосердия двери» уже со слов «надеющийся» зазвучала чрезвычайно мощно и возвышенно. Этот рост одушевленного исполнения поднимался до самого конца, в котором, несмотря на diminuendo звука, впечатление выросло до степени подавляющего. Затем о. Иоанн, которому только и были исполнены две вещи («Свете тихий» киевского роспева), очень интересовался вами, и я, конечно, рассказал ему все. Целую вас крепко со всеми вашими. Сердечно ваш С. В. Смоленский». (Письмо С. В. Смоленского к А. Д. Кастальскому от 6 ноября 1901 года // Музыка, 1916, №248, с. 163.)
Опубликованная в 1898 году Херувимская песнь напева Московского Успенского собора была первым сочинением Кастальского, основанным на роспеве этого храма. Впоследствии композитор еще дважды обращался к роспевам Успенского собора – в антифоне «Блажен муж» (1900) и «Великом многолетствовании» (ок. 1912).
Согласно документации архива Московской Синодальной конторы, в феврале 1899 года по ходатайству А. А. Ширинского-Шихматова Синод выделил 150 рублей для напечатания сочинений помощника регента Синодального хора А. Д. Кастальского (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, ч. 1, № 28).
Критик Н. И. Компанейский, вслед за И. В. Липаевым полагавший, что знаменная Херувимская Кастальского открывает новую эру в русской духовной музыке, писал об этом сочинении следующее: «Но есть в печати и еще лучшие образчики русского стиля, например, Херувимская знаменного роспева А. Кастальского. Это настоящий русский орнамент, самые изящные, тонкие кружева. Смотря на ноты – кажется неясная путаница, но зазвучит, и все голоса побегут своими дорожками, друг дружке помогают, один другого наряжает и подталкивает вперед; слушаешь и дивишься, ждешь, когда же начнется повторение. Нет, опять все новые и новые комбинации. Играешь каждый день, и все ново, все интересно. Что же это за композитор, после которого не хочешь слушать Баха и Гайдна? Композитор этот русский народ, у которого тысячи подголосков и оборотов уже были выработаны и прилажены к роспеву. Кастальский понял русский стиль, у него русское ухо и душа, и он сумел подслушать и записать то, что звучало вокруг роспева. Приведенные два сочинения в духе православной церкви потому, что они в ее стиле, они народны. Написать подобную Херувимскую песнь мог только хороший техник, образованный музыкант; она очень сложна. Разрушьте ее, и вряд ли другому будет по силам ее собрать вновь, а между тем, я уверен, что простой мужик будет ей подпевать, как давно известной ему песне». (Компанейский Н. И. О стиле церковных песнопений // РМГ, 1901, № 39, стлб. 925–926.)
Речь идет о второй редакции кондака «Дева днесь» для большого хора (1903), где Кастальский значительно усилил роль подголосков в дискантовой партии. Приведем строки письма Кастальского к X. Н. Гроздову, объясняющие, почему композитор был доволен своей новой редакцией: «Посылаю вам свои только что напечатанные новости и еще «Дева днесь» для большого хора, которая звучит много интересней, чем в ранее напечатанной редакции (например, на словах «волсви же со звездою» – в верхнем голосе продолжается на слове «вят» («славословят») славословленье ангелов. Это звучит в голосах очень недурно, особенно если дисканты поют dolce (корифеи)» (ГЦММК, ф. 370, № 499, л. I). В 1916 году композитор осуществил переложение кондака редакции 1903 года на малый хоровой состав. До сих пор неопубликованная рукопись хранится: РГАЛИ, ф. 952, oп. 1, № 269, л. 1.
Переделка знаменных ектений, впервые опубликованных в 1898 году, была предпринята Кастальским в связи с концертом капеллы Л. С. Васильева в марте 1905 года с программой, состоящей из песнопений всенощного бдения Кастальского.
Действительно, из двух опубликованных в 1898 году «Милостей мира» Кастальского особую любовь слушателей, благодаря выразительному соло альтов, мастерски исполнявшемуся маленькими «синодалами», завоевала «Милость мира» № 2. Анализу двух упомянутых сочинений посвящены специальные разделы материалов С. А. Шумского, помещенных в сборнике.
Детальный разбор этого сочинения, опубликованного в 1898 году под названием «"Бог Господь» и тропари в Великую Субботу на утрени», был сделан Н. И. Компанейским в статье «Современное демество» (РМГ, 1902, № 49, стлб. 1228–1235).
Имеются в виду изданные в 1898 году Старо-симоновская херувимская песнь и «Милость мира» Ипатьевская, в основу которых Кастальский положил напевы московского Симонова и костромского Ипатьева монастырей. Согласно воспоминаниям «синодалов», Старо-симоновская херувимская входила в число излюбленных сочинений регентов Синодального хора. Этому произведению также уделено место в анализах С. А. Шумского.
«Достойно есть» роспева царя Феодора существует в двух редакциях, первая из которых опубликована в 1900 году, а вторая содержится в литографированных нотах Синодального хора 1906 года. Это произведение пользовалось заслуженной любовью многих хоров. Известен интересный и понравившийся автору опыт исполнения «Достойно» в 1914 году хором И. И. Юхова с «колокольным звоном», который имитировал тамтам. (Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 17 марта 1914 года. ГЦММК, ф. 370, № 524, л. 2.)
Хор Кастальского «Отче наш» носит подзаголовок «мелодия по старой рукописи», Роспев, положенный в основу этого сочинения, действительно был заимствован из старинной рукописи библиотеки Синодального училища. (Письмо А. Д. Кастальского к С. В. Смоленскому от 13 августа 1902 года. РГИА, ф. 1119, oп. 1, № 146, л. 20.)
Работа над упомянутыми сочинениями – «Господи, воззвах» и «Да исправится молитва моя» со стихирами и стихами знаменного и обычного роспевов, а также «Догматиками богородичными» восьми гласов, в первой редакции изданных в 1901 году, потребовала от композитора большого напряжения сил, поскольку он ставил перед собой задачу нетрафаретной обработки положенных в основу этих сочинений роспевов. Догматики и воззвахи Кастальского исполнялись Синодальным хором за службами в Успенском соборе, являясь непременной частью репертуара Успеньева дня – престольного праздника храма.
11 ноября 1903 года Кастальский подарил Рахманинову ноты кондака «Со святыми упокой» и икоса «Сам Един» со следующей дарственной надписью: «Глубокоуважаемому Сергею Васильевичу Рахманинову от А. Кастальского в знак напоминания ему о том, что есть на белом свете область, где терпеливо, но настойчиво ждут вдохновений Рахманинова» (ГЦММК, ф. 18, № 1078).
«Практическое руководство к выразительному пению стихир при помощи различных гармонизаций» было опубликовано в издательстве П. Юргенсона в Москве в 1909 году.
Все перечисленные Кастальским сочинения вышли в свет в издательстве П. Юргенсона в 1903 году.
О тесной дружбе, связывавшей Кастальского и Орлова, писала в своих воспоминаниях дочь композитора Н. А. Кастальская: «В детстве наша семья и семья Василия Сергеевича Орлова, директора и дирижера училища, были очень близки. В. С. Орлов был наирусейший человек, строгий на вид, с усами, бородой и большими серыми глазами. Чувствовалось, что ему недолго жить, – по той мрачности, которая им иногда овладевала. С детьми он был ласков, шутлив и добр. На эстраде – бог и повелитель! Каждое его выступление с хором было событием. После концертов они с отцом молча и крепко обнимались. Василий Сергеевич был яркой фигурой. Его звали «русский Никит».
В 1907 году, когда Василий Сергеевич умер, жена покойного подарила его шитый мундир отцу. Выйдя в этом мундире на эстраду, отец обратился к хору: «Василия Сергеевича с нами больше нет... Пойте так же хорошо, как и при нем. Это – его», – и потянул мундир за воротник». (Кастальская Н. Немногое об отце, с. 107.)
Работа над реконструкцией русских средневековых песнопений, которой Кастальский был вынужден заниматься после отъезда Смоленского в Петербург, доставила композитору немало хлопот. По завершении своего труда он писал ученому: «Посылаю вам доказательства <...> моей благодарности, а пожалуй и утешения для вас, что нива, которую вы оставили там у нас за железной дверью внизу, – что нива эта иногда дает плоды тому, кто над ней поработает и попотеет. А пропотел я над ней не раз и не два... Одно слово в заключение: вполне осатанел, и даже давал зарок больше не браться за программы исторических концертов с показанием «развития обиходных напевов и их гармонизаций». Пришлось переглядеть, перекопать массу; за каким-нибудь болгарским «кирие елейсон» целыми неделями гонялся, да все одному. Покорно благодарю, запыхался! <...> Вранья там по исторической части может быть немало, может быть наш чугунный зад – Металлов – даже и запротестует (он еще толком не видел результатов моей возни с рукописями), – все это суета перед мыслью, что наша церковная песня часто и прежде (двухголосное демество) вырывалась на свет Божий, ее ловили, тискали, прятали в «сюртуки, пиджаки» гармонизаций – и опять вырвется и запоет свободно, легко, громко на смех всем блюстителям церковности и «национальности», которая понимается в смысле «не шей ты мне, матушка, красный сарафан» или «не томи родимый"». (Письмо А. Д. Кастальского к С. В. Смоленскому от 29 января 1902 года. РГИА, ф. 1119, oп. 1, № 146, л. 10–10 об.)
Первый Исторический концерт Синодального хора, в первом отделении которого прозвучали выполненные Кастальским реставрации средневековых роспевов, а во втором – авторские композиции XVIII–XX веков, состоялся 19 декабря 1901 года (повторение – 13 января 1902 года) в зале училища под управлением Орлова. Второй Исторический концерт (10 марта 1902 года, 15 марта – повторение) был посвящен переложениям одноголосных роспевов, выполненным авторами конца XIX – начала XX века.
Премьера «Пещного действа» в исполнении певчих Синодального хора под управлением Кастальского состоялась 18 марта 1907 года в открытом заседании Комиссии по изучению памятников церковной старины Москвы и Московской епархии, которое происходило в Епархиальном доме. Исполнению сопутствовала лекция, прочитанная протоиереем В. М. Металловым. 10 и 12 апреля 1909 года в зале Синодального училища состоялось театрализованное исполнение «Пещного действа». Певчие были одеты в новые парадные костюмы, в роли чтеца выступал викарий Московской епархии епископ Трифон. На концерте присутствовала великая княгиня Елизавета Федоровна – большая почитательница пения Синодального хора.
Полное собрание духовно-музыкальных сочинений П. И. Турчанинова в пяти книгах под редакцией Кастальского было издано в 1905 году.
Начало директорства Кастальского в Синодальном училище совпало с рядом московских юбилеев и празднеств, в числе которых было обретение и перенесение мощей святителя Гермогена, открытие памятника Александру III и музея его имени, столетие войны 1812 года, трехсотлетие дома Романовых. Эти события сопровождались приездом царя Николая II. Приобретший большую известность как композитор, пишущий в модном тогда «русском стиле», Кастальский получил заказы на некоторые юбилейные сочинения. О своих опытах в области кантатного жанра композитор более подробно, нежели в статье, рассказывает в письме к X. Н. Гроздову: «В последнее время мы с вами сделались какими-то кантатмахерами... Мне посчастливилось особенно: за заказом через вас (12-й год) последовал тут же заказ (но без денег) на кантату в память Гермогена, которую собираются здесь праздновать 17-го февраля; затем мне предстоит состряпать нечто подобное к празднованию «дома Романовых» (это на 13-й год). Признаюсь – хоть бы и поменьше, и то хорошо. Главное, в этих стряпаньях требуется всегда скорость (срок), к которому я вообще в работе музыкальной приспособлен мало. Собственно, на ваше предложение я согласился ввиду того, что мне говорили, что я должен написать на 12-й год. Получив предложение от вас, я подумал, что все равно придется стряпать – так уж выгодней получить деньги какие ни есть, чем писать «в сухую», на авось... По крайней мере теперь, если будут приставать, скажу: я уже сделал! Кой-что начальное состряпал, но думаю порыться в песнях для мелодического материала – не будет ли складней. Присланный текст хотя и гладок, но уж очень глубок (в образном смысле, как говорит наш Санька), ни черта из него не выжмешь, хотя вообще кантатные тексты всегда по возможности дурацкие, традиция своего рода. Вот не найдется ли у вас при случае досуга пошарить где-либо текста для прославления Гермогена... Наш Степанов мне предложил положить на хор послание москвичей по другим городам, написанное под влиянием послания Гермогена (!!). Собственно, это можно сделать, только вообразив себе сцену (а ля Мусоргский) чтения народом этого послания (с разными повторениями фраз, даже возгласами и проч.). Словом хор, по-моему, выйдет сценическим, читающим это послание, а не посылающим... А наверное есть песни тех времен и событий – это было бы более подходящим». (Письмо А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову от 12 октября 1911 года. ГЦММК, ф. 370, № 614, л. 12–12 об.)
В сохранившемся фрагменте автографа статьи дана несколько иная характеристика Данилина: «С назначением меня на должность директора Синодального училища (в 1910 году) заведование хором перешло в руки выдающегося регента, свободного художника Московского Филармонического училища Н. М. Данилина, ранее окончившего Синодальное училище» (ГЦММК, ф. 12, № 439).
Упомянутые концерты состоялись 26 ноября 1910 года в зале училища, 16 и 21 декабря того же года – в Большом зале консерватории.
Всенощная ор. 44 В. И. Ребикова была написана в 1911 году. Ее возникновению предшествовало письмо Кастальского, который писал Ребикову 6 октября 1910 года: «Рахманинов написал целую Литургию, – мы ее учим – это событие в музыкальном мире. Да и вещь в общем весьма симпатичная, хотя стиль и пестроватый... Знаете, было бы очень недурно, если бы и наши новаторы вроде Ребикова, Скрябина и прочих изобразили бы что-нибудь сногсшибательное на церковный текст – воевать, так воевать. Нет, серьезно, вы попробуйте» (ГЦММК, ф. 68, № 276, л. 2). Результат был действительно «сногсшибательным»: в стремлении воссоздать «подлинное» древнехристианское пение Ребиков довел принцип стилизации до абсурда. Почти все сочинение написано параллельными созвучиями, в каждой части своими – октавами, секстаккордами и даже квартами и квинтами. Выдержанные в «ориентальных» ладах сольные эпизоды также весьма оригинальны. Так, песнь Симеона Богоприимца предназначена для «старческого тембра», приветствие Архангела Гавриила Богоматери «Богородице Дево, радуйся» – для «молодого тембра» и т. п.
Первая часть Обихода церковного пения под редакцией А. Кастальского – Всенощное бдение – была опубликована в литографии В. Гроссе в Москве в 1912 году; вторая часть – Литургия, архиерейское служение, молебны, панихида, отпевание, праздничные прокимны и антифоны – в 1914 году.
О гастролях Синодального хора 1911 года см. в заграничных письмах Кастальского и Н. Н. Сокольского, опубликованных в настоящей книге.
Концерт Синодального хора в зале петербургского Дворянского собрания состоялся 10 марта 1911 года. В его первом отделении исполнялись шесть номеров из Литургии Рахманинова, второе отделение было посвящено сочинениям Кастальского.
Подобное мнение бытует и до сих пор. Согласно классификации исследователя русской церковной музыки И. А. Гарднера, «петербургская» школа явилась результатом многолетней деятельности петербургской Придворной певческой капеллы. Она может быть разделена на старую «петербургскую» школу, наиболее ярким представителем которой являлся Бортнянский, и новую «петербургскую» школу, возглавлявшуюся А. Ф. Львовым, а позже – А. А. Архангельским, то есть композиторами с эклектическим, вне национальной окраски стилем. «Московская» школа духовных композиторов сформировалась в конце XIX – начале XX века при Синодальном училище церковного пения и Синодальном хоре. Основным представителем этой школы являлся Кастальский – композитор ярко выраженной национальной ориентации. Однако по мере распространения увлечения традициями в духовной музыке новые веяния охватили и Петербург, где в начале XX века сформировалось петербургское крыло Нового направления (М. А. Лисицын, Н. И. Компанейский, М. А. Гольтисон, С. В. Панченко), нередко соперничавшее с Москвой в смысле верности национальным традициям.
Празднование 25-летнего юбилея Синодального училища, в 1886 году преобразованного из низшего четырехклассного училища при Синодальном хоре в среднее музыкальное учебное заведение, состоялось с 5 по 7 ноября 1911 года. Наибольшей торжественностью отличался первый день празднования, когда в зале Синодального училища был отслужен молебен, прочитан доклад об историческом пути училища, принимались приветствия различных делегаций, а в заключение была исполнена кантата Кастальского «Стих о церковном русском пении», написанная специально к юбилею. Доклад В. М. Металлова был основан на материале созданной им к юбилейному году книги «Синодальное училище церковного пения в его прошлом и настоящем» (М., 1911); текст доклада опубликован в этом же издании (с. 138–149).
На следующий день, 6 ноября, состоялся концерт из сочинений выпускников училища; прозвучали хоры П. и А. Чесноковых, Н. Ковина, Н. Толстякова, К. Шведова, А. Воронцова, И. Соколова, В. Степанова, Н. Голованова, А. Чугунова. 7 ноября в зале училища был устроен ученический концерт. Празднования каждого дня завершались повторением юбилейной кантаты Кастальского.
Судьба этой самой монументальной музыкально-исторической реставрации Кастальского сложилась несчастливо. Представленное в 1913 году на рассмотрение жюри Российского музыкального издательства, сочинение, несмотря на положительный отзыв Рахманинова, было отклонено как «сырой материал», после чего автор в течение ряда лет лелеял мечту осуществить сценическую версию «Праздников». Не успев завершить ее до революции, композитор надолго отложил работу и вернулся к ней в 1920-е годы, решив сделать новую редакцию сочинения, соответствующую иной исторической обстановке. Однако и этому замыслу не суждено было осуществиться. Вскоре после похорон Кастальского его сын писал Асафьеву в Ленинград: «Дорогой Борис Владимирович! Хочу вам кое-что прибавить относительно «Праздников». Папа видел, что в СССР эта вещь напечатана быть не может, так как там очень много Бога в разных видах, – поэтому он затеял вывернуть их на современный лад: с комитетами, комсомольцами, исполкомами и т. п. – но окончить этого не успел. Хотел ввести некоторый сюжет, заканчивающийся свадьбой, – тоже не окончено. Может быть, тексты с Богом и прочей идеологией заменить другими? Хоть я и думаю, что лучше с этим подождать и может быть попробовать за границу, если тут не выйдет. Ваш А. Кастальский». (Письмо А. А. Кастальского к Б. В. Асафьеву от 12 января 1927 года. РГАЛИ, ф. 2658, oп. 1, № 528, л. 5 об.)
До настоящего времени ни в России, ни за границей «Картины народных празднований» полностью опубликованы не были. При жизни автора увидели свет лишь несколько отрывков из этого сочинения (см. «В помощь жертвам войны». Сборник общества Музыкально-теоретическая библиотека в Москве. М., 1916, с. 58–59). В 1960-е годы сын композитора А. А. Кастальский подготовил к печати отдельные фрагменты черновой авторской рукописи, поместив их в сборнике документов и материалов, посвященных А. Д. Кастальскому (А Д. Кастальский. Статьи. Воспоминания. Материалы, с. 174–266).
Обстоятельная рецензия Б. В. Асафьева на духовно-музыкальные сочинения Кастальского, вышедшие из печати в военные годы («Разбойника благоразумного», «Царю небесный», задостойник в День Св. Троицы, «Христос воскресе», тропарь св. мученику Ермогену), а также «Образцы церковного пения на Руси в XV–XVII веках» помещена в журнале «Музыка» (1916, № 248, с. 158–160). Следует отметить, что количество написанных Кастальским после 1910 года духовных хоров невелико. Внимание композитора в это время было сосредоточено главным образом на кантатно-ораториальных жанрах, на административной, педагогической и научной работе.
В ГЦММК хранится интереснейшее письмо Кастальского к X. Н. Гроздову от 25 марта 1914 года, в котором композитор подробно описывает свою полемику с Рахманиновым по поводу идеи «Картин русских народных празднований»:
«Рахманинов. Я вчера (то есть когда он получил) получил на рассмотрение ваши «Празднования» (он член жюри Российского музыкального издательства) и пришел с вами объясниться: почему вы представляете свой труд как материал, без настоящей разработки, не в партитуре и даже не в настоящем клавире. Я пришел уговорить вас взяться за эту работу и разработать ее вполне... Это так ново, так интересно, какие удивительные подробности (даже в тексте) в обрядах. Мне просто самому захотелось взяться... Ведь вам за эту работу кто хочешь даст (то есть за материал) сколько хотите, чтобы вы уступили ее. Стравинский, – это прямо для него клад! Он вам 100 тысяч за это даст! А в таком виде, как вы представляете, хоть я и буду отстаивать вашу работу, – я боюсь, что она окажется неприемлемою... (Решается вопрос большинством голосов – закрытыми конвертами, где изложено мнение каждого члена жюри – потеха!) Возьмитесь, хоть частию сделайте ее с разработкой, в оркестре (ведь там прямо постоянно так и просится на оркестр и развитие!). Неужели можно оставлять такую работу в таком несовершенном виде?! Ведь вы и то часто прорываетесь, то там, то тут начинаете разрабатывать, прибавляете от себя, то здесь, то там... и проч., и проч...
Я: Что мою работу могут в жюри забраковать, так как она не отвечает требованиям «симфонической разработки» и проч. – як этому приготовлен, ибо это мне и поначалу приходило в голову самому... Ну что же делать: так – так так! Я готовил свою работу 1) для любителя, садящегося за фортепиано и могущего в вечер-два пробежать целый годовой круг народных обрядов, сконцентрированных и ритуально, и музыкально в нечто целое; 2) я готовил эту работу для деревенских спектаклей, с дерзновенной надеждой, что народ, увидав свое же забытое детище, может быть увидит, что его мужицкое творчество не так уж примитивно-топорно, что совеститься за него ему, пожалуй, и нечего...
Рахманинов: Ну а дальше что? Любитель за фортепиано; народные спектакли; да вы любителя-то считаете за слишком примитивного – не хотите дать ему настоящего клавира с выписанными голосами, с развитым, художественным аккомпанементом... Ведь вы постоянно хотите сам вырваться из этих кусочков и кусочков!
Я: Кусочки – это собственно характер народного творчества, они получают иной вид потому, что каждый кусочек (то есть куплет, строфа) повторяется много раз, и он (народ) его варьирует при повторении. А если я прорываюсь, то значит не мог утерпеть.
Рахманинов: Вот это вариирование вы и должны были сделать.
Я: А тогда моя работа вышла бы вчетверо длиннее – невозможно ее дать в один вечер... Да если бы мне ее заказали, то на это уйдет еще три года. Рахманинов: А зато какова работа! Меня просто зависть берет, что у меня нет такого материала.
Я: Что ж, вот мой материал и даст вам возможность творить, что хотите... А что такое изложение не ново у меня, посмотрите мои «Из минувших веков» – в таком же роде. Им пользуются и историки на лекциях, и пробуют воспроизводить концертно – никто мне не говорил, что недостает разработки!
Рахманинов: Это очень интересно.
Из сего диалога проглядывает полная возможность непринятия моих «Праздников» у Кусевицкого. Ибо если Рахманинов не воспринял в таком «сыром» виде, то об остальных и говорить нечего. До решения пройдет еще недели 2–3 (вещь-то трудная, а народ – все занятой...). «Не Юргенсону же сдавать такую работу», – говорит Рахманинов, а я ему: «Что же, я Юргенсону уже сдал четвертую тетрадь «Торжище в древней Руси» – то есть, мол, коль не берете, так черт с вами. Но в общем разговор интересный, наводящий на мысль» (ГЦММК, ф. 370, № 625).
Известны четыре письма С. В. Рахманинова к А. Д. Кастальскому из Ивановки от 19 июня, 6 и 30 июля и 22 августа 1910 года, свидетельствующие о том, что, создавая Литургию, Рахманинов прибегал к советам Кастальского. В одном из писем он писал: «Решаюсь беспокоить именно вас, так как от всего сердца вам верю и буду стараться идти по той же дороге, по которой вы идете, и которая только вам одному и принадлежит». (Рахманинов С. Литературное наследие, т. II. Письма. М., 1980, с. 14–16,18, 22–23.)
Отношения Кастальского и Рахманинова носили дружеский характер, и Сергей Васильевич был нередким гостем в семье своего старшего коллеги. Сын Кастальского вспоминал, что незадолго до премьеры Всенощной Рахманинов отдал его отцу на просмотр готовую партитуру. Через некоторое время он пришел к нему на квартиру, однако не застал дома. Исправив в партитуре несколько нот, Рахманинов стремительно вышел: было очевидно, что он очень озабочен мнением Кастальского о результате его труда.
Литографированная Всенощная с правками Рахманинова и несколькими исправлениями Кастальского хранится в ГЦММК (Ф. 12, № 487).
Далее в автографе статьи Кастальского следует зачеркнутая фраза: «Перед первым исполнением его Всенощной мне пришлось поддать жару в газетах, чтобы больше обратить внимание публики на это сочинение. Об этом меня просил А. Д. Самарин. После первого исполнения успех был обеспечен» (ГЦММК, ф. 171, № 90, л. 2). За три дня до премьеры Всенощного бдения в «Русском слове» вышла заметка Кастальского следующего содержания: «Новое сочинение С. В. Рахманинова Всенощное бдение несомненно является крупным вкладом в нашу церковно-музыкальную литературу, а предположенное 10-го марта его исполнение – целым музыкальным событием среди пестрых программ великопостных концертов настоящего сезона. Сравнительно с Литургией автор в новом сочинении делает крупный шаг вперед, отрешившись от «партесной» манеры сочинять церковные напевы. Он их берет прямо из Обихода. Но надо слышать, во что претворяются простые бесхитростные напевы в руках крупного художника. А в этом всё. Ведь одни и те же краски в раковинах и у богомаза, и у художника Божией милостью.
Подошел ли Рахманинов близко к стилю – об этом, конечно, могут возникнуть споры. Но пластическая простота изложения «Благослови, душе моя», «Богородице Дево», оригинально поэтическая выразительность в сопровождении пения Симеона Богоприимца, «звоны» в «Шестопсалмии», ликующее «Хвалите имя Господне», сильное по настроению «Великое славословие» и, наконец, победное «Взбранной воеводе», все эти песнопения, несомненно, говорят много за Рахманинова. Особенно ценно в художнике его любовное и бережливое отношение к старым нашим церковным напевам. И в этом залог хорошего будущего нашей церковной музыки» (Русское слово, 1915, № 54).
Интерес композитора к русскому фольклору проявился уже в студенческие годы. В 1902 году Кастальский становится членом Музыкально-этнографической комиссии, а через несколько лет – товарищем ее председателя. Наиболее интенсивная исследовательская работа в области фольклористики, непрерывно продолжавшаяся вплоть до самой смерти Кастальского, началась в 1914 году и увенчалась написанием двух трудов: «Особенности народно-русской музыкальной системы», который был издан при жизни автора в 1923 году, а также ее расширенного варианта, опубликованного в 1948 году В. М. Беляевым под заголовком «Основы народного многоголосия».
Кастальский с 29 мая по 1 декабря 1881 года служил вольноопределяющимся в артиллерийской бригаде имени его величества Карла Прусского, располагавшейся в Спасских казармах в Москве.
Упоминаемые сочинения – «Баталия» и «Шествие» – явились откликом композитора на начало Первой мировой войны и, судя по материалам его литературного архива, представляли собой симфонические картины, основанные на религиозных песнопениях стран Антанты и немецких песнях. Оба сочинения завершены не были, в отличие от реквиема «Братское поминовение», клавир которого вышел в свет в ноябре 1916 года. Ставший крупнейшим музыкальным памятником жертвам великой войны, реквием представлял собой попытку художественного воплощения традиций отпевания умерших в разных странах и континентах.
Из наиболее содержательных рецензий, посвященных «Братскому поминовению», могут быть названы две статьи Б. В. Асафьева: «Братское поминовение» А. Кастальского // Хроника журнала «Музыкальный современник», 1917, № 16, с. 1–5; Впечатления и мысли // Мелос. Книга первая. Пг., 1917, с. 88–90.
«Предшественником» Кастальского в создании заупокойной мессы оказался директор Придворной певческой капеллы А. Д. Шереметев. Посредственный композитор-любитель, он написал Реквием памяти Н. А. Римского-Корсакова, умершего в 1908 году.
Имеется в виду письмо Кастальского к X. Н. Гроздову от 25 апреля 1916 года (ГЦММК, ф. 370, № 547).
Концерт Синодального хора из сочинений Кастальского, на котором впервые были исполнены три номера из «Братского поминовения» в изложении для хора а саррellа, состоялся 6 марта 1916 года и произвел на слушателей неизгладимое впечатление. Рецензент «Русских ведомостей» писал об этом событии: «Исполнялись отрывки из «Братского поминовения павших героев». <...> Уже первый из исполненных отрывков, – разработанная обиходная мелодия «Со святыми упокой» – повергла слушателей в благоговейное настроение. Ведь нельзя словами рассказать, как гениально сливалась всем известная глубочайшая обиходная мелодия с контрапунктическими орнаментами высоких мужских голосов, – орнаментами, за душу хватающими своей скорбью. А дальше настроение лишь углублялось и крепло, так как безмолвное вставание всей аудитории при пении «Вечной памяти» оказалось вполне естественным, внутренне необходимым. Иные крестились при этом, кто-то подавленно всхлипнул, забелели платки, и многие украдкой смахнули нежданную слезу». (Цит. по статье: [Среди печати.] «Открытие» Кастальского // Музыка, 1916, №249, с. 173.)
Версия «Братского поминовения», озаглавленная «Вечная память героям. Избранные песнопения панихиды», вышла в свет в начале 1917 года в издательстве П. Юрген сон а. Изменения в партитуре в сравнении с редакцией 1916 года свелись к упразднению аккомпанемента, изменению порядка следования частей в соответствии с чинопоследованием панихиды, к замене русского, латинского и английского текстов песнопений на канонический церковно-славянский текст; некоторые поправки были внесены и в хоровые партии.
Взаимная неприязнь Кастальского и музыковеда Л. Л. Сабанеева – горячего приверженца мистико-символистского направления в современной русской музыке – особенно явственно проступила в 1920-е годы, когда Сабанеев выступил с открытым отрицанием идеи Кастальского о существовании системы в народном музыкальном творчестве. (Сергеев А. Рождение нового // Советская музыка, 1949, № 11.)
Можно указать еще на два источника, где содержатся варианты программ предметов «церковные формы» и «церковный стиль»: Музыка, 1914, № 184, с. 390– 391; ГЦММК, ф. 12, № 205.
Работа над песнопениями Страстной Седмицы и Пасхи, начатая в январе 1917 года и периодически возобновлявшаяся вплоть до начала 1918 года, так и не была завершена. Из письма Кастальского к Асафьеву от 9 мая 1918 года можно заключить, что этот цикл хоров композитор писал по настоянию Сувчинского (РГАЛИ, ф. 2658, oп. 1, № 581, л. 19 об.).
Сохранилось несколько экземпляров «воззвания», которое Кастальский, очевидно, стремился распространить среди своих коллег. Один из экземпляров предназначался для посылки в Петроград и назывался «Музыкальная прокламация из Москвы». Написанное в апреле 1917 года, «воззвание» после октябрьского переворота было отредактировано и, по всей видимости, вновь было пущено в дело пропаганды «родного художества» (см.: ГЦММК, ф. 12, № 186).
Всероссийский съезд хоровых деятелей, открывшийся в Москве в здании Синодального училища церковного пения 23 мая 1917 года, был шестым и последним дореволюционным хоровым форумом. В нем принимали участие свыше 100 депутатов со всей России. Почетным председателем был избран Кастальский, председателем – А. В. Никольский. Одной из главных тем, обсуждаемых на этом представительном собрании, была организация на местах хоровых обществ и объединение их во всероссийский союз. Большое место заняло также обсуждение бесправного социального положения регентов, испытывающих притеснения со стороны духовенства и церковных старост. Съезд поручил своему представителю Д. И. Зарину выступить с докладом на эту тему на предстоящем в июне 1917 года Всероссийском съезде духовенства и мирян. Депутатами был вынесен ряд постановлений, в частности, о признании за регентами и учителями церковного пения права на пенсии, об обязательном введении обучения пению в программы всех учебных заведений. В рамках съезда прошли концерты Синодального хора (27 мая) и хора под управлением М. Е. Пятницкого. Состоялось также чествование прокурора Синодальной конторы Ф. П. Степанова.
Новым обер-прокурором Синода, 2 марта 1917 года вошедшим в состав Временного правительства, был известный думский деятель В. Н. Львов, с именем которого связано зарождение обновленческого движения в русской православной церкви. При поддержке Львова 7 марта 1917 года в Петрограде был образован «Всероссийский союз демократического православного духовенства и мирян», возглавляемый А. И. Введенским и другими. В своих публикациях на страницах «Голос церкви» и журнала «Соборный разум» представители этого движения критиковали канонический строй церковного управления и призывали к его модернизации. С целью проведения в церковную жизнь «демократической» церковной политики Львов неоднократно приезжал в Москву (см. раздел «Из писем 1917–1918 годов»). Однако деятельность Львова во Временном правительстве была недолгой. 21 июля вслед за А. Ф. Керенским он подал в отставку и вместе с ним участвовал в организации корниловского мятежа. К активной церковно-политической деятельности Львов вернулся в 1922 году по возвращении в Россию из эмиграции. Вплоть до 1927 года, когда он по обвинению в уголовном преступлении был выслан в Томск, Львов работал в Высшем церковном управлении и являлся одним из наиболее активных лидеров движения «Живая церковь».
Имя американского дипломата Чарльза Крейна (Крэна) неоднократно встречается в материалах, связанных с историей церковного пения в первой четверти XX века. Так, он упоминается в книге А. Т. Гречанинова «Моя жизнь» (Нью-Йорк, 1951) как почитатель творчества композитора, оказавший ему моральную и материальную поддержку после октябрьского переворота. С именем Крейна связана также уникальная попытка создания подобия Синодального хора в Америке – факт в России малоизвестный и заслуживающий особого внимания.
Получивший блестящее образование, владевший многими европейскими, славянскими и восточными языками сын владельца мануфактуры Чарльз Крейн был одним из культурнейших людей Америки своего времени. Будучи президентом унаследованной от отца компании, директором Национального банка республики, он одновременно являлся авторитетным специалистом по Востоку и России. Во время своих многочисленных поездок в Россию в начале века в качестве бизнесмена и дипломата он приобрел многих друзей в художественном мире страны, познакомился и искренне увлекся ее искусством. Особым пристрастием Крейна стало русское церковное пение, которое американский меценат решил распространить у себя на родине. В 1911 году он пригласил на работу в Америку русского регента И. Т. Горохова и шестерых взрослых певцов, которые составили основу будущего хора, певшего за службами в храме св. Николая в Нью-Йорке. Мальчики-певчие были набраны среди американского русскоязычного населения и, подобно маленьким певцам Синодального хора, стали получать при хоре общее и музыкальное образование. В летнее время детей вывозили на отдых в штат Массачусетс, где на берегу моря располагалась биологическая лаборатория, существовавшая на средства Крейна.
С 1913 года русский соборный хор, состоявший из шестерых мужчин и около двадцати мальчиков, одетых в кафтаны, напоминавшие парады Синодального хора, начал давать концерты, сопровождавшиеся громким успехом. 24 (11) июля 1913 года Иван Горохов писал Кастальскому в Москву: «Американцы очень интересуются русской музыкой вообще и церковной в частности. Ваши произведения на них производят самое лучшее впечатление. Американцы выражают восторг и сожаление, что до сих пор не имели возможности слышать русскую церковную музыку. Регенты (органисты) осаждают меня просьбой дать им номера произведений, которые я исполняю своим хором. Критики пишут много статей о моем хоре и ставят его в пример американским хорам. Все газетные и журнальные отзывы пока очень лестные, как о хоре, так и о церковной музыке. Пока все хорошо, только тоска по родине часто беспокоит» (РГАЛИ, ф. 662, oп. 1, № 40). Концерты хора состоялись в Гарвардском университете, в Карнеги-холл; был сделан тур по городам Восточного побережья. 2 февраля 1914 года произошло выступление капеллы в Вашингтоне перед президентом Вильсоном и другими государственными сановниками.
Завершение истории этого коллектива отчасти походило на судьбу Синодального хора: после революции Св. Синод прекратил финансирование православных храмов в Америке, и собор св. Николая в Нью-Йорке был продан с аукциона. Хор распался. Некоторые из его участников продолжили музыкальное образование, некоторые поступили в семинарии и стали священнослужителями, некоторые занялись бизнесом и другими светскими профессиями. Регент хора И. Т. Горохов, по всей видимости, нашел себе работу в другом православном храме и умер в Америке в 1949 году.
Пристально следивший за военными сводками Кастальский не мог не откликнуться на столь важное для России событие, которое горячо приветствовало русское общество. Не исключено, что он присутствовал во время яркой речи, сказанной 6 июня на Всероссийском съезде духовенства и мирян членом чрезвычайной американской миссии Моттом, в которой тот сообщил о вступлении США в войну на стороне России и об огромных ассигнованиях, выделенных американским правительством на военные нужды. По завершении речи участники съезда устроили гостю овацию и, встав с мест, пропели многолетие и тропарь Св. Духу.
Помимо американского номера «Души раб Твоих» («Rock of ages») Кастальский написал и опубликовал в издательстве П. Юргенсона две другие новые части своего реквиема – «Какая сладость» («Diesirae») и «Блажени усопший» («Beatimortui»). Очевидно, они были написаны уже после отсылки воспоминаний в «Мелос», поскольку в одном из писем этого времени Кастальский просит Б. В. Асафьева вставить в статью следующий фрагмент: «На предложение Юргенсона внести поправки во второе издание клавира «Братского поминовения» (первое уже разошлось) решил дополнить его (кроме американского номера) еще румыно-французским (румынские напевы и французские военные сигналы) для сопрано и тенора соло; а также греко- французско-португальским на текст А. Толстого «Какая сладость в жизни сей» из «Иоанна Дамаскина» – для баса соло. Оба эти номера должны внести некоторое оживление среди большинства тягучих по темпу остальных. Работа над этими пьесами далась нелегко, ибо пришлось выдерживать весьма сильную звуковую конкуренцию: каждый вечер в открытые окна свободно неслись из дома визави (да и теперь частенько несутся) отчаянные вопли какой-то певицы вперемежку с не менее отчаянным тенором (с цыганским репертуаром). А от ворот навстречу им летели балалаечные и гармошковые звуки, причем каждая штучка продолжалась не менее получаса. Но я боролся храбро, не дезертировал и.… кончил-таки» (РГАЛИ, ф. 2658, оп. 1, №581, л. 13).
Речь идет о контрнаступлении австро-германских войск на юго-западном фронте в направлении Тарнополя, где 30 июня (13 июля) неприятель прорвал фронт 11-й русской армии.
Командировки старшеклассников на регентскую практику в различные храмы и монастыри страны были новым явлением училищной жизни 1910-х годов. Приведем один пример, связанный с будущим хормейстером Большого театра С. А. Шумским, который в 1910 году, являясь учеником восьмого класса, направлялся в качестве послушника на должность регента Заиконоспасского монастыря в Москве. К 1916–1917 годам относятся сведения об организации в училище экспедиций «для обследования церковных напевов». С этой целью летом 1916 года в районы Волги, Северной Двины и Урала был отправлен помощник регента Н. С. Голованов.
В книге А. Н. Гладкого начало поездки Синодального хора описано следующим образом: «После напутственного молебствия 22 апреля поездом № 5 Московско-Брестской железной дороги, провожаемый родственниками, знакомыми и благожелателями, тронулся в путь Синодальный хор. На первых шагах случилась неудача. Рассчитывали на два полных вагона третьего класса. <...> На деле же, когда явился хор на вокзал, один из этих вагонов был уже наполнен посторонней публикой. <...> И только на следующее утро в Смоленске был прицеплен второй вагон. Следующая ночь и вообще путь до Варшавы был проведен спокойно и не теснясь. Обедали в пути на станции Барановичи, а ужинали в Орше; конечно, телеграммами была заблаговременно заказана горячая пища и в Орше, и в Барановичах. По всей линии был заготовлен кипяток, и певчие утром, и вечером, и в полдень пили свой чай с закусками, купленными в Москве» ([Гладкий А. Н.] Поездка Синодального хора за границу..., с. 9).
Программа концерта Синодального хора 24 апреля в зале Варшавской филармонии:
| Смоленский С. | Кто Бог велий |
| Толстяков Н. | Архангельский глас, знаменного роспева (ор. 2. № 2, трио с хором) |
| Бортнянский Д. | Кто Бог велий (двухорный концерт) |
| Чесноков П. | Хвалите имя Господне, знаменного роспева (ор. 11. № 5) |
| Гречанинов А. | Херувимская (из Литургии ор. 29) |
| Чайковский П. | Свете тихий, киевского роспева (из Всенощной ор. 52) |
| Рахманинов С. | Во царствии Твоем |
| Слава… Единородный Сыне | |
| Да исполнятся уста наша (из Литургии ор. 31) | |
| Кастальский А. | От юности моея |
| Ныне отпущаеши (№1, для баритона с хором) | |
| Свете тихий (№ 3) | |
| Верую (№ 1) |
Упомянутый в письме рецензент «Варшавского дневника», советник по особым поручениям при канцелярии варшавского генерал-губернатора А. В. Затаевич был организатором концертов Синодального хора в Варшаве. Впоследствии он стал одним из ближайших друзей Кастальского. Очевидно, вынужденный в 1915 году в связи с военным временем эвакуироваться из Польши, Затаевич с 1918 по 1920 год жил у Кастальских в их московской квартире. В 1920 году он уехал в Оренбург, где активно занялся собиранием местного музыкального фольклора. В 1925 году в Оренбурге вышел в свет составленный Затаевичем сборник «1000 песен киргизского народа», предисловие к которому написал Кастальский.
В 1930-х годах Данилин, будучи руководителем Государственного хора СССР, предполагал пригласить к себе в помощники В. П. Храпчевского. Не исключено, что речь идет о том самом хормейстере Храпчевском, что упомянут в варшавском письме Кастальского.
В Варшаве детская группа хора вместе с дядьками расположилась в школе солдатских детей лейб-гвардии Литовского полка и питалась в его столовой.
Прощайте, господа (итал.).
В Риме Синодальный хор поселился в первоклассном отеле «Виктория», который находился в одной из лучших частей города возле садов «Пинчио», занимавших площадь около семи квадратных километров и украшенных скульптурами и руинами. Однако главную их достопримечательность составляла основанная фамилией Боргезе вилла Умберто, где находились великолепная коллекция античных статуй и картинная галерея.
Римская выставка состояла из четырех разделов: археологического, ретроспективного, этнографического и художественного. На археологической экспозиции были представлены античные и римские скульптуры, на ретроспективной – коллекция экспонатов, рассказывающая о жизни древнего Рима. В этнографическом отделе находился ряд павильонов, где были сделаны макеты достопримечательностей Италии, в художественном отделе – произведения искусства разных стран.
Интерьеры японских павильонов напомнили Кастальскому росписи на коробках с чаем, которые в то время в разговорной речи назывались «цибиками».
Россия хорошая (итал.).
Все малыши прекрасны (итал.)
Неоднократно упоминаемая в письмах Кастальского Via Арріа – древняя римская военная дорога, устроенная цензором Аппием Клавдием Цеком в 312 году до Рождества Христова. Путешествие по ней было самой интересной из ближайших загородных римских экскурсий, во время которой можно было видеть останки римских сооружений, гробниц, в том числе катакомбы св. Калликста.
3 (16) мая состоялся первый, исторический, концерт Синодального хора в Риме. Приводим его программу:
Вонеми небо. Унисон конца XV – начала XVI века.
На реце вавилонстей. Демественное двухголосие XVII века.
На вербии посреди ея. Демественное трехголосие XVII века.
Воспойте нам, знаменного роспева. Партесное многоголосие XVII века.
| Титов В. | Многолетие |
| Сарти Д. Бортнянский | Отче наш |
| Д. Турчанинов П. | Кто Бог велий |
| Львов А. | Тебе одеющагося, болгарского роспева |
| Глинка М. Львовский Г. | Вечери Твоея тайныя |
| Чайковский П. | Херувимская |
| Римский-Корсаков | Господи, помилуй |
| Н. Кастальский А. | Свете тихий |
| Чертог Твой вижду, обычного роспева | |
| Дева днесь, знаменного роспева | |
| С нами Бог, знаменного роспева |
Кастальский упоминает очень популярное в его время сочинение Г. Ф. Львовского «Господи, помилуй», исполнявшееся на всенощной накануне праздника Воздвижения и состоящее из 40-кратного повторения молитвы «Господи, помилуй». Одна из итальянских газет писала: «Это последнее произведение, исполняемое в русских церквах в день Воздвижения Креста Господня, построено на одной короткой теме, которая повторяется много раз в быстром темпе: сначала эффектное diminuendo (что должно совпадать с опусканием Креста), доходящее до едва слышного pianissimo, затем постепенное crescendo (которое совпадает с поднятием Креста), приводящее к fortissimo. Этот номер, характерный своей простотой, был исполнен великолепно». (Русский хор в зале «Аугустео» // Памяти Н. М. Данилина, с. 31.)
Популярность у неискушенных слушателей этого довольно среднего по художественному уровню сочинения, порой затмевавшего более серьезные, но менее эффектные произведения, раздражала Кастальского, в своих письмах окрестившего хор Львовского «Господи, помилуй 40 раз».
«Кореа» – название римского цирка, построенного на месте мавзолея императора Августа. В конце 1900-х годов цирк был превращен в концертный зал, получивший название «Аугустео». Зал был круглой формы с верхним светом и вмещал свыше 4000 человек.
Покупка неспелых вишен чуть было не обернулась хору большими неприятностями, так как болезнь певцов повлекла за собой слух, что русские привезли в Рим холеру. Это грозило хору карантином.
На втором, «национально-русском», концерте Синодального хора в Риме, состоявшимся 19 (6) мая в зале «Аугустео», прозвучали следующие сочинения:
| Кастальский А. | Свете тихий (№ 2) |
| Благообразный Иосиф | |
| Тебе поем (№ 2) | |
| Отрывок из «Пещного действа» | |
| Сам Един | |
| Калинников В. | Милость мира |
| Тебе поем (№ 2) | |
| Гречанинов А. | Волною морскою (ор. 19, № 1) |
| Толстяков Н. | Архангельский глас |
| Чесноков П. | Тебе поем, киевского роспева (ор. 3, № 2) |
| Смоленский С. | Кто Бог велий |
6 (19) мая праздновался день рождения императора Николая II.
Следует уточнить некоторые из названных Кастальским сочинений, исполнявшихся в третьем римском концерте Синодального хора, посвященном новейшей церковной музыке: Херувимская № 3 А. Аренского, «Тебе поем» ре минор К. Шведова, «Верую» № 1 А. Кастальского.
Добрый день, моя дражайшая (итал.).
По поводу интереса, который проявил к выступлению Синодального хора глава католической церкви, А. В. Затаевич в одной из своих статей писал: «Сам папа Пий X, не могший принять Синодальный хор у себя в Ватикане, слушал третий концерт по телефону» (Памяти Н. М. Данилина, с. 244).
Приводим фрагмент заметки корреспондента «Русского слова» М. Первухина, ставшего свидетелем триумфа русского искусства в Риме в 1911 году:
«Рим переживает настоящую «русскую неделю». Где бы вы ни появились, – везде вы услышите русскую речь, увидите характерные русские лица, увидите типичных русских людей, немного растерянных от непривычки очутиться неожиданно в широкой интернациональной толпе, поэтому конфузливых и немного робких. Если же не увидите русских, то уж во всяком случае услышите о русских. А говорят теперь здесь о нас много, говорят на разные лады: бранят, хвалят, критикуют и поют дифирамбы. Говорят о нации, о народе, о нашем внутреннем строе и о внешней политике. Но всего больше говорят о нашем искусстве. И на это есть действительно большие основания, есть много поводов. Открылся русский художественный павильон на выставке, – заговорили о нашей архитектуре, о живописи, о скульптуре. Хвалят Репина, Серова, наших молодых художников. Бранят павильон, сравнивая его с богатой усыпальницей, не находя в нем ничего типично русского. Выступил наш балет. Сначала отнеслись холодно. Публику неблагоприятно подготовила местная пресса, задумавшая провалить русский балет, конкурирующий с итальянской оперой. Но впечатления от враждебной искусственной агитации хватило только на первый спектакль. Последующие пошли с блестящим успехом. Балет посетила королевская чета. В театре уже стало трудно доставать билеты, он переполнен. О нашем балете заговорили как о единственном художественном балете во всей Европе. Теперь внимание публики занято новой русской новинкой, а именно – нашим Синодальным хором, приглашенным выставочным комитетом дать в Риме три духовных концерта. <...>
Как и надо было ожидать, первый концерт русского хора в колоссальном зале концертном «Аугустео» <...> не привлек много публики. Итальянцы вообще мало знакомы с русской музыкой, и им почти совершенно неизвестна наша духовная музыка. Лишь с основанием «Аугустео» римская публика стала шире знакомиться с нашими композиторами на симфонических концертах, и такие наши авторы, как Чайковский, Римский-Корсаков и Бородин, стали уже любимцами итальянцев, с исполнением же нашим, и в особенности хоровым, они не знакомы. Синодальный хор не рекламировался. Газеты молчали. Публика была и мало осведомлена, и мало заинтересована. В результате на первом концерте было менее трех тысяч слушателей, тогда как «Аугустео» вмещает до пяти.
Но надо было видеть удивление этой публики после нескольких номеров, пропетых нашим хором, – удивление, вскоре перешедшее в восхищение чистотой исполнения и богатством голосовых средств Синодального хора. Аплодисменты, сначала сдержанные, по мере исполнения хором программы становились все более и более настойчивыми, бурными, и публика не останавливалась до тех пор, пока угрюмый, равнодушный к одобрениям Данилин не возвращался на эстраду для повторения». (Первухин М. Синодальный хор в Риме // Русское слово, 1911, № 5/Ѵ.)
Чуть было не сорвавшийся по вине итальянского импресарио концерт во Флоренции был в конце концов организован проживавшими в Италии соотечественниками, в первую очередь художником Д. К. Степановым. Концерт поддержала и вдовствующая итальянская королева Маргарита, а русская великая княгиня Мария Павловна взяла его под свое покровительство. Программа этого концерта, проходившего в зале, предложенном хору для выступления маркизом Пуччи, была следующей:
| Аренский А. | Херувимская (№3) |
| Чесноков П. | Хвалите имя Господне |
| Во царствии Твоем | |
| Рахманинов С. | Слава… Единородный Сыне |
| Да исполнятся уста наша | |
| Тебе поем | |
| Гречанинов А. | Херувимская |
| Шведов К. | Тебе поем |
| Кастальский А. | Ныне отпущаеши (№1) |
| Достойно есть, сербского напева | |
| Верую (№ 1) | |
| Свете тихий (№ 3) |
Здравствуй, дражайшая (итал., лат.).
Корреспонденция «до востребования» (франц.)
Брюнн – главный город австрийского маркграфства Моравии. Его славянское название – Брно.
Поскольку зал посольства был невелик, в этом концерте принимала участие лишь часть Синодального хора.
Программа концерта 13 (26) мая в венском Софиензале:
| Римский-Корсаков Н. | Чертог Твой вижду |
| Бортнянский Д. | Кто Бог велий |
| Чесноков П. | Во царствии Твоем |
| Рахманинов С. | Слава… Единородный Сыне |
| Тебе поем | |
| Гречанинов А. | Херувимская |
| Чайковский П. | Свете тихий |
| Кастальский А. | Ныне отпущаеши (№ 1) |
| Свете тихий (№ 3) | |
| Верую (№ 1) |
Знаменитый австрийский дирижер Ганс Рихтер впервые услышал Синодальный хор во время приезда в Москву в январе 1899 года и с тех пор стал его горячим поклонником. Известно, что когда в апреле 1899 года хор посетил Вену, Рихтер приглашал к себе в гости Смоленского и Орлова.
Хозяин венской гостиницы «Бельведер» первоначально принял расположившийся в его заведении Синодальный хор крайне недружелюбно, однако после того, как побывал на первой репетиции, так растрогался, что стал осыпать хор любезностями. Помимо угощения для взрослых из отличного винного погреба гостиницы, он вручил маленькому солисту И. Шорину золотой за его «ангельское пение».
14 (27) мая совершалось празднование коронации императора Николая II и императрицы Александры Федоровны.
Позволю себе обратиться к вам, моя дорогая жена (нем.).
Зал Международной гигиенической выставки был современным архитектурным сооружением и, несмотря на неплохую акустику, обладал по мнению «синодалов» многими недочетами – отсутствием высокой эстрады, производящим шум освещением и др. Однако сама выставка вызвала большой интерес московских гостей; особенно понравился павильон «Der Mensch», где в громадном зале была развернута подробная экспозиция о жизни и болезнях человека, а также поразивший воображение маленьких певчих бактериологический отдел.
Первый концерт Синодального хора в Дрездене, происходивший в зале гигиенической выставки, состоялся 29 (16) мая.
В составе хора на этих гастролях находились два октависта – Д. И. Шишлов и И. П. Молочков. Д. И. Шишлов был заштатным священником Воронежской епархии. В 1916 году он оставил Синодальный хор, вернулся в Воронежскую губернию и поступил на работу в общество «Кооперация». Заштатный протодьякон И. П. Молочков также ушел из Синодального хора в 1916 году. По ходатайству Саратовской духовной консистории он был переведен на протодьяконскую должность в Саратовскую епархию.
Возвращаясь к их участию в заграничных гастролях Синодального хора, следует сказать, что рецензенты немецких газет были поражены тем, что октависты опускались в нижнем регистре до ля контроктавы. Однако судя по литографированным нотам Синодального хора, октависты-«синодалы» могли брать и более низкие ноты – ля бемоль и соль контроктавы.
Второй дрезденский концерт, повторявший программу второго римского концерта от 19 (6) мая, происходил 30 (17) мая.
Имеется в виду сумма гонорара за концерт – 1200 рублей.
Приведем программу Синодального хора на третьем дрезденском концерте 31 (18) мая:
| Чесноков П. | Хвалите имя Господне |
| Во царствии Твоем | |
| Рахманинов С. | Слава… Единородный Сыне |
| Да исполнятся уста наша | |
| Тебе поем | |
| Гречанинов А. | Херувимская |
| Шведов К. | Тебе поем |
| Кастальский А. | Ныне отпущаеши (№ 1) |
| Достойно есть, сербского напева | |
| Верую (№1) |
Синодальный хор прибыл в Москву 23 мая. Его встречу А. Н. Гладкий описал так: «Прибыли в Москву 23-го утром пыльные, грязные, но здоровые духом и телом, бодрые и гордые успехами и той славой, молва о которой бежала впереди нас. По пути, где ни останавливался хор – всюду знакомые и незнакомые поздравляли с успехом. Встретили хор многие педагоги училища, все остававшиеся при нем воспитатели и эконом, а также родные и знакомые хористов. По прибытии на Никитскую все мальчики были немедленно отправлены в баню, и в два часа после обеда было отслужено благодарственное молебствие о благополучном возвращении хора из-за границы» ([Гладкий А, Н.] Поездка Синодального хора за границу..., с. 51).
Вероятно, речь идет о представителях обществ хоругвеносцев, которые до революции существовали при некоторых храмах Москвы, в том числе и при Успенском соборе Кремля.
Значительная часть московского духовенства действительно приветствовала новый режим, о чем свидетельствует хотя бы следующее постановление Московского столичного совета благочинных от 7 марта 1917 года: «приветствовать со всей радостью заявление обер-прокурора В. Н. Львова о новом направлении церковной деятельности» поддерживать Временное правительство безотносительно к его политическим основам и т. п. Однако оппозиция новому курсу церковной политики, состоящая из представителей монархически настроенного духовенства, была не менее сильна. Одной из ключевых фигур здесь был митрополит Московский Макарий, который новыми церковными властями был объявлен ставленником Г. Распутина. Многократно приезжавший в Москву Львов склонял московское духовенство обратиться к митрополиту и потребовать от него добровольного ухода на покой. Владыка не без борьбы удалился в Николо-Угрешский монастырь. 19 июня 1917 года Московский епархиальный съезд духовенства и мирян избрал на Московскую митрополичью кафедру архиепископа Литовского и Виленского Тихона Беллавина. «На покой» по обвинению в связи с Распутиным был отправлен и митрополит Петроградский Питирим. Весь состав старого «распутинского» Синода был обновлен; из прежних участников в нем остался лишь архиепископ Финляндский Сергий. По всей видимости, «чистка» коснулась и низших монархически настроенных церковных чинов.
Придворный напев – певческая редакция богослужебных роспевов, принятая в хоре русского императора – Придворной певческой капелле. По мнению исследователя русской церковной музыки И. А. Гарднера, «мелодии придворного напева представляют собой довольно бессистемное смешение весьма сокращенных, применительно к сокращенному и упрощенному уставу придворных церквей, гласовых напевов разных роспевов, преимущественно киевского. <...> Получившаяся в результате сокращений крайняя бедность мелодии, во всех гласах строчно-периодической формы, искупалась четырехголосной гармонией великолепно обученного придворного хора. Гласовое пение свелось к хоровому аккордовому чтению с краткими каденциями в конце фраз». (Гарднер И. А. Богослужебное пение русской православной церкви, т. П. Джорданвилль, 1982, с. 285–286.)
Сформировавшийся в начале XIX века и насаждавшийся в церквах России в течение столетия, придворный напев для представителей Нового направления стал символом антинационального церковного стиля. Об отношении Кастальского к придворному напеву свидетельствуют следующие строки его письма к Б. В. Асафьеву от 16 марта 1917 года: «Происхождение его [придворного напева] не в чем ином, как в духовно-музыкальном лакействе (чтобы служба продолжалась не более одного часа и чтобы «пение не развлекало молящихся особ»). Из придворной сферы эта гадость разлилась по всей Руси неизбывно. Ведь ей не менее полутораста лет... Я в своей статье с наслаждением «разберу» ее суть и «значение». Это «простое» пение – убийца и религиозности, и музыки, и идеалов церковных... Это чистейшее мещанство – без подмеси, мещанство причем интернациональное» (РГАЛИ, ф. 2658, oп. 1, № 581, л. 1–1 об.).
Кастальский попал в немилость к царю Николаю II в 1914 году, когда приехавший в Москву по случаю начала Первой мировой войны государь неожиданно высказал негативное отношение к Синодальному хору и его репертуару. В церковной прессе этот случай описывался следующим образом: «Николай II сильно нервничал за обедней в Успенском соборе и по окончании обедни подозвал к себе управляющего Московской Синодальной конторой Ф. П. Степанова. Свидетель этой сцены передавал мне, что Николай II в сильном возбуждении кричал на Степанова: «Государыня и я не могли молиться, это – безобразие. Это вы с вашим Кастальским развели от Варшавы до Перми – эти оперные мотивы. У меня в Царском простые солдаты поют лучше ваших ученых певчих"». (Хроника московской епархиальной жизни // Московские церковные ведомости, 1918, № 11, с. 4.).
В отличие от упомянутых «Баталии» и «Шествия», новая гармонизация в народном духе гимна «Боже, царя храни» А. Ф. Львова на текст В. А. Жуковского была композитором осуществлена и послана письмом к X. Н. Гроздову. Ныне хранится в фонде последнего в ГЦММК (Ф. 370, № 537, л. 15).
Сразу после Февральской революции среди музыкантов был поднят вопрос о новом национальном гимне. Одни предлагали воспользоваться какой-либо популярной мелодией, другие считали, что на новые слова нужно сочинить и новую музыку. 10 марта в «Русской музыкальной газете» появилось сообщение о том, что композитор А. К. Глазунов «набросал эскиз нового гимна». Осуществил ли он свое намерение до конца – остается неясным. Известны опыты других, менее знаменитых авторов. Это «Русский гимн свободе» – слова и музыка В. Корсунского, «Возрождение» – музыка П. Швачкина, слова Н. Вильде, «Песнь свободной России» – слова и музыка С. А. Чернецкого, «Пали цепи» – музыка Ю. М. Давыдова, «Гимн свободе» – слова и музыка В. Г. Пергамента, «Русская марсельеза» С. Волянской и др.
Редакция «Русской музыкальной газеты», объявившая конкурс на лучший стихотворный текст гимна, сочла наиболее удачным опытом «Гимн свободной России» А. Т. Гречанинова на стихи К. Д. Бальмонта. Историю создания этого сочинения, точно так же, как и свои впечатления от февральских событий, Гречанинов описал в мемуарах: «Весть о Февральской революции 1917 года была встречена в Москве с большим энтузиазмом. Народ высыпал на улицы, у всех в петлицах красные цветы, и люди восторженно обнимаются, со слезами на глазах от счастья. Мы с Марией Григорьевной тоже в толпе, но недолго: нужен новый гимн. Я бросаюсь домой и через полчаса музыка для гимна уже была готова, но слова? Первые две строки:
Да здравствует Россия,
Свободная страна,
я взял из Сологуба, дальнейшее мне не нравилось. Как быть? Звоню Бальмонту. Он ко мне моментально приходит и через несколько минут готов и текст гимна. Еду на Кузнецкий мост в издательство А. Гутхейль. Не теряя времени, он тотчас же отправляется в нотопечатню и в середине следующего дня окно магазина А. Гутхейль уже украшено было новым «Гимном свободной России». Весь доход от продажи идет в пользу освобожденных политических. Короткое время все театры были закрыты, а когда они открылись, на первом же спектакле по возобновлении в Большом театре гимн под управлением Э. Купера был исполнен хором с оркестром наряду с «Марсельезой». <...> Но недолго продолжалось опьянение свободой, – показались признаки кровавой революции, приближался Октябрь. Наконец, он наступил, а вместе с ним пришли холод, голод и почти полное исчезновение духовной жизни». (Гречанинов А. Т. Моя жизнь. Нью-Йорк, 1961, с. 108–109).
Речь идет об инспекторе Синодального училища К. П. Успенском, после Февральской революции занявшем активную позицию по поводу реформирования Синодального училища, а позже – Народной хоровой академии. Взгляды Успенского – врача и богослова по специальности – расходились со взглядами директора. Так, последний резко негативно относился к стремлению Успенского приравнять общее образование в училище к гимназическому курсу, что, по мнению Кастальского, привело бы к снижению успеваемости по музыкальным предметам.
«Конюшенной» частью в кругу Кастальского, очевидно, называли придворное ведомство, часть владений которого, в том числе и жилой дом Придворной певческой капеллы, располагалась на Большой Конюшенной улице в Петербурге.
В связи с дороговизной жизни в военное время и ожидаемым перерасходом ассигнованных на содержание училища в 1916/17 учебном году средств Хозяйственное управление при Св. Синоде предложило Синодальному училищу, подобно другим духовным учебным заведениям, «сократить занятия». Речь шла о закрытии училища на два-три месяца. Обсуждение этого предложения на правлении Синодального училища 12 декабря 1916 года закончилось постановлением, что занятия прекращены быть не могут, так как это негативно отразится на исполнительском уровне Синодального хора: «Закрытие училища не только лишит хор возможности усовершенствования последнего, но и разрушит налаженную столетием хоровую работу. Через какой-нибудь год хор придется создавать заново». (РГАДА, ф. 1183, оп. 9, ч. 2. № 36, л. 3 об.) Правление училища поддержал и протопресвитер Успенского собора Н. А. Любимов, направивший в Синодальную контору доклад о том, что даже временное закрытие Синодального училища повлечет прекращение пения за службами в Успенском соборе: одни взрослые певчие взять на себя обязанности всего хора не смогут, тем более что 11 из 30 человек уже призваны на военную службу. В результате было решено закончить учебный год на несколько недель раньше, а именно 18 марта. Для получения дополнительных денежных средств было предложено увеличить плату по найму квартир, сдаваемых Синодальным училищем.
Одной из характерных черт российской жизни после Февральской революции стало образование многообразных профессиональных объединений, в том числе и в синодальном ведомстве. Так, вскоре после революции в Москве был образован союз диаконов и псаломщиков, главной целью своего объединения ставивших «борьбу с архиерейским гнетом»; 14 марта было организовано общество духовных певцов и певиц Москвы, обсуждавших меры «свержения власти хоросодержателей». Синодальное училище тоже не осталось в стороне от «демократических реформ», начав выработку системы самоуправления и, по всей видимости, борьбу с единовластием директора. Путем голосования был избран исполнительный комитет, в который Кастальский не попал. Он настолько обиделся на своих сослуживцев, что даже упомянул об их «подарке» в первоначальном варианте статьи «Из воспоминаний о последних годах». В письмах 1917–1918 годов можно не раз встретить его сетования на исполнительский комитет, состоявший из не-музыкантов, не понимавших специфики обучения в сугубо музыкальном учебном заведении.
Ф. П. Степанов был отстранен от службы в феврале 1918 года; его преемником по должности прокурора Синодальной конторы стал Д. П. Андреев.
Речь идет о стихотворном «Воззвании к русским музыкантам» (см. статью «Из воспоминаний о последних годах»).
С 16 августа 1917 года по 7 сентября 1918 года в Москве проводился Поместный собор Русской православной церкви, главным деянием которого стало восстановление патриаршества в России. Многие приехавшие на Собор участники (в их числе – министр вероисповеданий А. В. Карташев и помощник министра С. А. Котляревский) разместились в здании Синодального училища, занятия в котором, согласно указу Синода от 25 июля 1917 года, были отменены до особого распоряжения. Поредевший за счет военного призыва Синодальный хор принимал участие в соборных торжествах, в частности, в интронизации св. патриарха Тихона 21 ноября 1917 года в Успенском соборе Кремля, по случаю чего малолетние певчие получили от святителя «на чай» 25 рублей.
В фонде Синодального училища в РГАЛИ сохранилось датированное октябрем 1917 года прошение директора училища и председателей домовых комитетов по Средней Кисловке (улица, параллельная Б. Никитской, где располагался жилой дом Синодального училища, в котором проживали педагоги и служащие) в Комитет общественной безопасности при Александровском военном училище о выдаче восьми винтовок и четырех револьверов для охраны домов (РГАЛИ, ф. 662, oп. 1, № 101, л. 50). Кстати, именно в это училище поступали во время войны юнкерами выпускники Синодального училища.
Композитор М. М. Ипполитов-Иванов, директор Московской консерватории, занимал квартиру на первом этаже консерваторского здания.
В одном из сообщений «Русской музыкальной газеты» по поводу московского вооруженного переворота сказано следующее: «Междоусобие, как известно, приняло в Москве более угрожающие размеры, так как многие здания (даже Кремль!) подверглись бомбардировке, точно первопрестольная пережила ужасы нашествия иноземного неприятеля! Впрочем, последний вряд ли устроил бы подобный разгром. Из зданий на Б. Никитской, как нам сообщают, особенно сильно пострадала Московская консерватория» (РМГ, 1917, № 35/36, стлб. 567).
Во время революции 1905 года обитателям Б. Никитской улицы также было суждено пережить перестрелку. Обучавшийся в то время в Синодальном училище И. М. Смыслов вспоминал, что Кастальский и другие служащие переносили ночью спящих детей в дальний угол спальни в целях безопасности.
А. Т. Гречанинов сохранил о большевистском восстании в Москве такие воспоминания: «Мирные жители, не принимавшие участие в борьбе, все засели по домам. На улице никакого движения. Окопы около нашего дома. Среди зловещей тишины то щелкнут ружейные выстрелы, то раздастся оглушительный пушечный удар. Того гляди шальное ядро попадет в наш дом. И среди этих ужасов я пишу свою музыку. Общения с внешним миром никакого. Мы находились как раз посередине двух враждующих сторон.
Большевикам показалось, что из нашего дома по ним стреляют. Оглушительный звонок в квартиру, другой, третий. Я открываю дверь. Передо мной солдат с безумными глазами. «Из вашего дома стреляют, сейчас у вас будет обыск», – каким- то задыхающимся голосом быстро произносит он. «Хорошо, – говорю я, – но зачем же эта паника, этот трезвон?». «Что? Ты разговариваешь? Пять шагов назад!» Становится на одно колено и направляет на меня дуло ружья. К счастью, я успеваю скрыться за дверью. После обыска у всех жильцов нашего дома запечатываются комнаты, выходящие на улицу. Я лишаюсь, таким образом, своего рояля и письменного стола и вместе с ними возможности работать, в чем было единственное средство забыться от ужасов.
Днем мы с Марией Григорьевной выходили, как арестанты, на прогулку по двору, где встречались с жильцами всего дома. По вечерам до одури играли в шахматы. После ночного тревожного сна под звуки почти непрекращающейся пушечной пальбы выходят утром из дома, чтобы купить хлеба, молока и пр. По молчаливому соглашению сторон пальба по утрам на час-полтора прекращалась. Появились откуда-то молочницы. Люди с лихорадочной поспешностью запасались необходимым и скрывались. Улицы вновь принимали зловеще пустынный вид и вновь начинали доноситься звуки междоусобной бойни.
Большевики победили. Начинается жизнь нищенская, полная всевозможных лишений. Жизнью даже назвать нельзя этот период тогдашнего нашего злосчастного существования» (Гречанинов А Т. Моя жизнь..., с. 113–114).
«Петроградская редакция» устава Синодального хора, которой был недоволен Кастальский, была подготовлена в связи с поездкой делегатов Синодального училища на Съезд духовных школ в Петроград в мае-июне 1917 года.
Очевидно, от деда и отца Кастальский унаследовал способности к живописи. Его дочь Н. А. Кастальская вспоминала: «Бывало, в результате всегдашней напряженной работы у папы начиналась так называемая «неврастения»; тогда он брался за кисть и «мазал», то есть писал маслом; на память, по записной книжечке, копировал Ван-Гога, Грабаря, Бялыницкого-Бирулю. Летом писал и с натуры. Сочинил как-то «Ряженых», в «левом роде», за что получил одобрение «настоящего» художника Якулова, жившего близко от нас. Эти картины существуют и поныне» (А Д. Кастальский. Статьи. Воспоминания. Материалы, с. 108). К сожалению, после смерти Н. А. Кастальской, хранившей картины отца, большая их часть бесследно исчезла. В ГЦММК попали лишь две маленькие работы – «Монах в лодке» (холст, масло, ф. 12, № 990) и «Портрет В. И. Ребикова» (карандаш, бумага, ф. 12, № 991).
Знавшие Кастальского вспоминали, что, копируя работы других авторов, Александр Дмитриевич любил делать в них собственные добавления. Например, в копии известной картины И. Э. Грабаря «На террасе» Кастальский изобразил себя.
К декабрю 1917 года положение Придворной певческой капеллы было не менее критическим, чем Синодального училища. Вот что писала об этом «Русская музыкальная газета»: «"Новое время» сообщает о полной неизвестности дальнейшей судьбы бывшей Придворной певческой капеллы. В бюджете средства имеются только до января. В классах Капеллы до настоящего времени никаких занятий не ведется. Часть учеников распущена, другая (около 60 человек) находится в Петрограде и кое-как ютится в помещении бывшего госпиталя Капеллы, так как все классы и спальни воспитанников заняты комитетом Черноморского флота и воинской охраной министра Керенского (в числе 200 человек), кстати, сказать, испортившей все музыкальные инструменты, принадлежавшие Капелле, – рояли и прочее. Хотя судьба Капеллы не решена и чуть не каждый день гг. Головиным и Калугиным принимаются новые решения, ее все-таки предполагают эвакуировать. Сперва хотели отправить ее в Ростов (Ярославской губернии), но нанятые две гостиницы маленького уездного города оказались недостаточными. Обратились в Новочеркасск, откуда дали благоприятный ответ, которым, однако, не знают как воспользоваться, не зная, эвакуировать ли одних учеников, или вместе с преподавателями, или без них, переселять ли взрослых певчих, которым, конечно, нечего делать ни в Новочеркасске, ни тем паче в Ростове, где они не найдут себе занятий и заработка» (РМГ, 1917, № 35/36, стлб. 568).
Итак, к концу 1917 года положение двух крупнейших хоровых заведений России было сходным, однако отношение к ним властей было, по всей видимости, не одинаковым. Ставшая государственной собственностью после Февральской революции Придворная певческая капелла попадала в ряд с бывшими императорскими театрами, музеями, консерваториями и т. п., вопрос о ликвидации которых не ставился. Что касается Синодального училища, находившегося в церковном ведомстве, то оно воспринималось в контексте с другими духовными учебными заведениями, сочувствия не вызывавшими
Осенью 1917 года зал Синодального училища сдавался в аренду Совету Всероссийского кооперативного союза, Совету солдатских депутатов, обществу «Польский дом», «Дому песни», Украинскому воинскому полку, Обществу сионистов, хору И. И. Юхова и другим (РГАЛИ, ф. 662, oп. 1, № 102, л. 187).
В первой книге «Мелоса» была опубликована статья Асафьева «Впечатления и мысли», в которой несколько страниц было посвящено последним работам Кастальского – реквиему «Братское поминовение» и панихиде «Вечная память героям» (Мелос. Книги о музыке. Книга первая. Пг., 1917, с. 78–100).
Речь идет о современнике Кастальского, ярославском священнике В. Н. Зиновьеве, музыкальные композиции которого, выполненные в ремесленно-эклектической манере, приобрели большую популярность на клиросах. Не исключено, что выбор для исполнения сочинения Зиновьева объясняется личным знакомством с ним святителя Тихона, который в 1907–1914 годах возглавлял Ярославскую епархию.
Песнопения Кастальского «Из патриаршего и архиерейского облачения» («От восток солнца», «Достойно» входное, «Тон деспотии», «Вошел еси во церковь», «Исполла эти деспота») до сих пор не опубликованы. (Черновая авторская рукопись находится: ГЦММК, ф. 12, №№ 467, 469.) Сохранился также рукописный список 20-х годов, принадлежавший московскому регенту Н. Н. Драчеву и свидетельствующий о том, что «Облачение» исполнялось в храме Спаса на Б. Спасской улице, разрушенном в 30-е годы.
В начале 1918 года композитор ожидал выхода из печати расширенной (семнадцатичастной) редакции реквиема «Братское поминовение».
Предполагавший исполнить «Братское поминовение» в Москве дирижер театра Зимина Е. Е. Плотников в 1918 году эмигрировал.
«Работой по музыкально-русской демократии», «демократическими песенными тетрадями», «основами», «введением» Кастальский называет в разных письмах свои исследования по русскому музыкальному фольклору.
Согласно документальному архиву Синодального училища, за пение в Алексеевском монастыре 21 января 1918 года Синодальный хор получил 1000 рублей. Такая же сумма была выплачена ему и за пение на венчании Ляминой. За участие во всенощной и литургии в церкви Богоявления в Елохове «синодалы» получили 3000 рублей, из которых 1627 рублей было решено передать участвовавшим в службе малолетним певчим (РГАЛИ, ф. 661, oп. 1, № 102, л. 214). Следует отметить, что в начале 1918 года остатки Синодального хора, называемые в прессе «патриаршим хором», участвовали лишь в единичных службах, совершавшихся патриархом. Возможно, пение «синодалов» обходилось церковным властям слишком дорого, чтобы чаще прибегать к их услугам. Кроме того, художественная манера пения Синодального хора и его репертуар, очевидно, не находили себе приверженцев среди патриаршего окружения, обсуждавшего создание хора из дьяконов и псаломщиков и восстановление на патриарших богослужениях более древнего и строго церковного пения (Московские церковные ведомости, 1918, № 11, стб. 4). В результате за патриаршими службами пели хоры тех храмов, где проходило богослужение.
Большая часть духовно-музыкальных сочинений Кастальского была отпечатана в нотопечатне В. Гроссе на средства автора. Тиражи хранились у композитора дома; распродажей нот ведала его супруга Наталья Лаврентьевна.
В декабре 1917 года Кастальским была предпринята неудавшаяся попытка освободить помещение Синодального училища от расположившихся в нем членов Всероссийского церковного собора и канцеляристов Св. Синода с целью возобновить хотя бы во втором полугодии занятия с приходящими учениками, набрать детей в приготовительный класс и выпустить кончающих девятый класс учеников (РГАЛИ, ф. 662, oп. 1, № 119, л. 53).
Упоминаемый Кастальским митрополит Петроградский Вениамин (Казанский) вошел в историю русской церкви как священномученик, расстрелянный большевиками в 1922 году по обвинению в контрреволюционной деятельности.
Управляющий контролем при Св. Синоде М. А. Дьяконов после закрытия Собора остался в Москве на должности преподавателя географии, истории и истории искусства в Народной хоровой академии.
Согласно документации канцелярии Синодального училища, в 1918 году полный курс этого заведения окончили десять человек: Сергей Васильев, Павел Дорохов, Семен Макеев, Петр Попандопуло, Борис Обвивальнев, Евгений Ромашков, Александр Степанов, Дмитрий Шведов, Иван Орел и Эраст Киут (РГАДА, ф. 662, on. 1, № 102, л. 221).
«Церковные ведомости» поместили такую информацию: «Недавно было реквизировано здание Московского Синодального училища, в котором размещается теперь комиссариат по военным делам. В бывшем кабинете министра вероисповеданий А. В. Карташева расположился комиссар Троцкий со своей женой» (Церковные ведомости, 1918, № 11 –12).
Имеется в виду статья Кастальского «Простое искусство и его непростые задачи» (Мелос. Книга вторая, с. 122–126).
1-го мая в Петрограде предполагалось провести грандиозные празднования, которые, по словам А. В. Луначарского, «должны превзойти все, что было в Европе до сих пор» (Церковные ведомости, 1918, № 11–12).
Позиция Луначарского по поводу церковного пения в то время была очень лояльной. Об этом может свидетельствовать не только прием, оказанный Кастальскому, но и содержание его выступления перед первым после революции концертом Государственной певческой капеллы. В воспоминаниях М. Климовой содержатся следующие факты: «В 1918 году 21 февраля был назначен концерт Капеллы. На концерте должен был выступить Народный комиссар просвещения А. В. Луначарский. В репертуаре Капеллы были поставлены только духовные сочинения, почему Михаил Георгиевич отказался выступать с такой программой. К нему на дом пришла делегация от хора, которая обратилась к нему с просьбой выступить, заявив, что «если Вы выступите с нами, Вы нас отстоите44. И он согласился. Правда, ему как музыканту было тяжело выступать с такой программой, но Луначарский своим вступительным словом подкупил его и облегчил его выступление». (РПБ, ф. 1127, № 91, л. 12–12 об.). В прессе сообщалось, что Луначарский подробно остановился «на красоте, созданной в церковной живописи и пении», и пообещал, что, перестраивая русскую жизнь, советское правительство «не растеряет художественное наследство, которое является чистейшим золотом народного творчества» (Ефимов В. Летопись жизни и деятельности А. В. Луначарского, т. 1. Душанбе, 1992, с. 70–71).
Кастальский предложил для исполнения на первомайских празднованиях 1918 года одну из сцен своего сочинения «Картины народных празднований на Руси», написанного для солистов, хора, артистов-чтецов и фортепиано. В авторской рукописи эта сцена называется «Закликание и славление весны».
Посещение Кастальским Луначарского и неточное цитирование последним высказывания композитора вызвало не только иронию в церковной прессе (см.: Церковные ведомости, 1918, № 16–16). Уже в начале мая 1918 года Кастальский писал Асафьеву: «Синодальное начальство, конечно, наметило меня выпирать отсюда (за связь с большевиками) – это уже само собой» (РГАЛИ, ф. 2658, on. 1, № 581, л. 18). Постепенно в церковной среде начал складываться новый образ Кастальского – «красного профессора», предавшего православие, что на самом деле не соответствовало действительности. Судя по поздним письмам композитора, он знал истинную цену новой власти и служил не ей, а народу; кроме того, до конца своих дней Кастальский оставался верующим человеком, писал музыку для церкви и был похоронен по православному обряду (см. в настоящем сборнике: Смирнов А. П. Александр Дмитриевич Кастальский).
Церковь Бориса и Глеба, располагавшаяся на площади Арбатских ворот между кинотеатром «Художественный» и рестораном «Прага», была разрушена в 1930 году.
В числе присутствовавших на похоронах Кастальского был и его друг А. В. Затаевич, описавший последний путь Кастальского в письме к Б. В. Асафьеву:
«Сердечно уважаемый и дорогой Борис Владимирович! Только что был у Натальи Лаврентьевны Кастальской, от которой узнал и ваш адрес (временный?), и что особенно важно, о вашем намерении написать надлежащую монографию о покойном Александре Дмитриевиче!
Весть об этом настолько меня обрадовала, что берусь за перо, чтобы написать вам несколько слов! Я знаю, как ценили вы покойного, и потому все время покупал «Вечернюю красную газету44, надеясь найти в ней написанную вами статью. Но увы, возможно, что я не нашел все номера (так оно, по-видимому, и случилось), но ни строчки в этой газете о бедном Александре Дмитриевиче не нашел!
И вдруг – известие о том, что Вы намереваетесь написать настоящее солидное исследование о нем и его творчестве. Как это меня радует! Буду ожидать Вашей брошюры с величайшим нетерпением!
Съело его гриппозное воспаление легких, не могшее не сломить его хилую, измученную долговременной болезнью сердца натуру, хотя жар и не превышал 38°. Последние четыре дня, по словам Натальи Лаврентьевны, жизнь его искусственно поддерживалась камфарой и кислородом. Скончался он, слава Богу, совсем тихо и без мучений. В гробу лежал, как живой, но показался мне почему-то более крупным и важным.
Отпевали у Бориса и Глеба, на Арбатской площади. Народу была масса: музыканты, регенты, певчие, учащиеся. Отпевали что-то восемь священников с прекрасными протодьяконами. Апостол читал заслуженный артист Толкачев, а Данилин превзошел самого себя – со своим хором с удивительною силою и пластикою исполнил ряд песнопений отпеваемого: Херувимскую знаменную, «Достойно есть» роспева царя Феодора и многое другое. В особенности сильное впечатление произвели «Со святыми упокой» из «Поминовения» и «Вечная память» оттуда же, кончающаяся, как вам известно, могучим мажорным аккордом!
Похоронили на новом кладбище Новодевичьего монастыря. Венков не было. В церкви видал: Мясковского, Ипполитова-Иванова, Игумнова, Василенко и других. Вот, если хотите, беглые впечатления от похорон!
Тогда же среди собравшихся толковали о том, чтобы организовать большие концерты из духовных сочинений Александра Дмитриевича в пользу семьи. Данилин заявил, что все лучшие певчие Москвы горячо бы откликнулись на такой клич, если б подобные концерты разрешили. Но он убежден, что такого разрешения не последует! Как нелогично! Мы гордимся и охраняем красоту и Василия Блаженного, и Кремлевских соборов, и Троицкой лавры! У нас есть даже специальные музеи церковной живописи (Остроухое, отделы в Третьяковской и в вашем Русском музее), мы реставрируем иконы и даже собираемся послать их на выставку в Берлин!
Так почему же нельзя протежировать творчество Кастальского? Ведь от лучших (если не от всех) его духовных сочинений и переложений прямо даже пахнет древним кипарисом, отдает строгой иконописью наших старых мастеров! Ведь Александр Дмитриевич тоже был гениальным реставратором этой обереганной нам старины в ее, может быть, наиболее впечатляющей части!
(Простите за ужасный слог и беспорядочность мысли: пишу наскоро и не подбираю выражений. Уж вы, надеюсь, меня поймете и простите!)
Вот что мне хотелось вам сказать по поводу нашей великой утери!». (Письмо А. В. Затаевича к Б. В. Асафьеву от 4 января 1927 года. РГАЛИ, ф. 2658, oп. 1, № 561, л. 1–3 об.).
Необычное мажорное завершение «Вечной памяти» являлось реминисценцией финала-апофеоза «Братского поминовения», на основе которого была создана панихида «Вечная память героям». Исполнявшиеся на похоронах Кастальского «Со святыми упокой» и «Вечная память» были частями этой нетрадиционной панихиды (см. комментарий 11 к статье «Из воспоминаний о последних годах»).
Н. С. Голованов был членом юбилейного комитета по чествованию А. Д. Кастальского, организованного в Московской консерватории в начале 1926 года в связи с приближающимся 70-летием композитора. После смерти Кастальского этот комитет был переименован в комиссию по увековечению его памяти. Помимо Голованова в ней состояли М. М. Ипполитов-Иванов, Н. М. Данилин, В. П. Степанов, Н. Н. Белкин, А. А. Давиденко и др.
Приведенная дата не соответствует сведениям, содержащимся как в архиве Московской Синодальной конторы, так и в автобиографической статье Кастальского, где датой его поступления на службу в Синодальное училище указан 1887 год.
Сам композитор в статье «О моей музыкальной карьере и мои мысли о церковном пении» называет 1896 год датой написания им первых духовных сочинений. Можно заключить, что Никольский не имел материалов о биографии Кастальского и писал по памяти.
О своем намерении всерьез разобраться в проблеме родства народной песни и церковного роспева Кастальский писал Смоленскому 27 октября 1906 года: «Как-то года два назад читал я в вашей книге, что вы нашли в песнях близкое сродство с обиходными напевами – тогда я это пропустил как-то мимо ушей (может быть потому, что и сам находил случай к подобному же сближению). А теперь, занявшись этим делом (народной музыкой) по возможности досконально, чувствую, что было бы не худо, если бы вы на досуге, буде оный найдется у вас – разъяснили вкратце тот путь, которым вы пришли к убеждению в этом сближении и какой результат вышел из сих ваших открытий» (РГИА, ф. 1119, on. 1, № 154, л. 49 – 49 об.).
Подобное отношение к «кучкистам» вообще характерно для круга музыкантов, связанных с МЭК.
Вероятно, речь идет о «Сельскохозяйственной симфонии» (иначе – «Деревенской симфонии»), написанной в 1923 году по случаю открытия в Москве первой сельскохозяйственной выставки.
