III. Ученики и певчие
Алексей Иванович Свирский
Алексей Иванович Свирский (1865–1942) – известный писатель, пришедший в русскую литературу в 1893 году. Основываясь на своих богатых жизненных впечатлениях, он создал много рассказов и очерков из быта низших слоев общества – бродяг, нищих, странников, воров, беспризорных детей. Широкую популярность приобрела его повесть «Рыжик» (1901). В конце 1920-х годов вышло полное собрание сочинений автора в десяти томах. В нем, помимо рассказов и очерков, представлены романы, повести, произведения для театра. Последняя книга Свирского, над которой он работал более десяти лет, – автобиографическая повесть «История моей жизни».
Главы из автобиографической повести «История моей жизни»
Протопопов дает мне записку к главному регенту Синодального хора342 Вигилеву и говорит:
– Вот ты поступишь в хор... Знаешь ли ты, что такое церковный певчий? Это же духовное лицо. Певчие во время богослужения должны быть херувимами в храме, а потому и мысли твои и все твое поведение должны быть чистыми, херувимскими...
Беру записку и по адресу – Большая Никитская улица – отправляюсь на новое место.
Всю дорогу мне сопутствуют херувимы с Еленой Ивановной во главе.
– Н-да... Хорошие мы херувимы!.. Если бы знал отец дьякон...
Вигилев оказывается человеком средних лет с небольшой бородой, с темными, гладко зачесанными назад волосами. Занимает большую квартиру и обладает многочисленным семейством.
– Сколько тебе лет? – спрашивает он меня.
– Семнадцать, – говорю я.
– Семнадцать? Какой же ты альт, тебе в тенора пора.
– Не знаю, все говорят, что у меня альт343.
– Хорошо, пройди в певческую. По двору пойдешь до самого конца – там флигель, войдешь и скажешь, что я велел сделать пробу голоса.
В певческой нахожу много мальчиков, взрослых людей и даже стариков. Какой-то высокий, тощий человек со скрипкой в руке взбирается на подмостки и дает знак смычком. Окружающие его певчие, мальчишки и взрослые, стихают и ждут знака. Скрипач проводит смычком, издает протяжный звук, а затем этим же смычком готовится дирижировать344. Разучивают концерт под названием «На реках Вавилонских». Меня поражают торжественный мотив, стройность хора и замечательная гармония детских голосов.
Подхожу к самым подмосткам и, когда хор умолкает, протягиваю скрипачу записку. Он прочитывает, зорко вглядывается в меня и бросает сверху вниз:
– Подожди!
И снова хор повторяет только один пропетый концерт.
Живу в общежитии Синодального хора. Нас – бездомных мальчиков, пользующихся казенным помещением, – девять человек. У каждого имеется небольшая койка, столик и табуретка. Похоже на больницу, только гораздо грязнее.
Привыкаю к новой жизни и ничего лучшего не желаю. Старшие обращаются со мной неплохо, а некоторые даже любят меня, в особенности бас Сперанский. Он живет тут же во дворе, занимает большую квартиру и имеет девять человек детей; из них мальчик Борис пятнадцати лет – второй дискант – мой лучший товарищ. Мы с ним неразлучны. Он светлый блондин с удлиненным лицом и темно-серыми глазами. Он выше меня ростом, тонкий, ловкий и чрезвычайно нежный. Отец Бориса, подобно большинству певчих, пьяница. Пьет он всегда и много, нередко от него несет вином даже на клиросе. Но человек он добрый, ласковый и любит детей345.
Я часто бываю у Сперанских. Там, забившись в какой-нибудь угол, мы с Борисом отдаемся мечтам. Мысленно путешествуем, посещаем дальние страны, изобретаем невероятные машины и шагаем по широкой волшебной дороге, ведущей к победам. Вот за эту выдуманную жизнь ко мне и привязывается Боря.
Занятия происходят ежедневно два раза – утром и вечером. У меня оказывается неплохой голос, а благодаря ежедневным упражнениям он крепнет, наливается металлом и получает особенную гибкость. Младший регент предсказывает мне блестящую будущность – солиста Синодального хора346.
Помимо спевок у нас, мальчишек, имеются еще другие обязанности – обслуживать старших. Я приставлен к первому тенору, Миролюбову Василию Петровичу. Он еще молод, красив и владеет чудесным лирическим тенором. Он холост, живет рядом с квартирой Сперанских, занимает небольшую комнатку с крохотной передней.
На моей обязанности лежит ежедневно будить его между семью и восьмью часами утра. Прихожу, трогаю его за ногу. Он просыпается, здоровается со мной и велит приготовить бриться. Затем бегу за кипятком, покупаю баранки, и мы с Миролюбовым пьем чаи.
Василий Петрович – единственный взрослый певчий, не пьющий вина.
– Вот за это, – говорит он, – меня женщины очень уважают. Поцелуешь, и вином не пахнет, а она в восторге... Ты сегодня, – добавляет он, понизив голос, – опять снесешь записочку, понимаешь? Туда...
Я киваю головой.
А спустя немного я стараюсь незаметно проникнуть в Никитский монастырь, находящийся рядом и отделенный от нашего двора высоким каменным забором347. Но я знаю, что в самом конце забора имеется внизу небольшое отверстие. Надо быть очень ловким, чтобы пролезть через эту дыру на монастырский двор. Кроме того, надо быть зорким и не попасться никому навстречу.
Длинный корпус с низенькими маленькими оконцами, заделанными толстыми решетками, является главным помещением монашеских келий. Самая последняя келья находится как раз напротив отверстия и не более чем в трех шагах от ограды. Мне стоит подняться на цыпочки и пальцем слегка стукнуть в окошечко, и не проходит минуты, как открывается малюсенькая форточка, появляется красивое женское личико, обрамленное черным платочком, застегнутым у подбородка. Улыбка обнажает два ряда чудесных зубов, и в форточку тянется тонкая рука с длинными пальцами. Записка передана – и больше ничего, никаких следов, никаких разговоров.
– Передал? – спрашивает Миролюбов, как только я появляюсь в певческой.
Я утвердительно киваю головой.
Не знаю почему, но мне не только нравится этот роман, но я горд доверием, оказываемым мне Миролюбовым. Меня особенно интересует и волнует одно обстоятельство. Мне известно, что монахини идут в монастырь для того, чтобы покончить со всеми радостями земной жизни и предаться молитвам и служению одному только Господу Богу. Как же могла решиться такая затворница на столь смелый шаг?.. Ведь она отвечает не только перед людьми, но и перед небом?
В быту певчих имеется еще одна сторона: мы должны беспрекословно подчиняться всякому приказанию взрослых певчих. Так, например, если солист-певчий посылает кого-либо из нас за водкой, мы должны сделать это бегом и без оглядки. Чаще всего посылает меня за водкой бас-октава по кличке Сириус. Человек он пожилой, с припухшим коричневым лицом, заросшим круглой бородой, с толстым, большим, выдающимся вперед животом. Он сует мне в руку монету и говорит:
– Живо... одним духом... марш!..
Не проходит и нескольких минут, как я, спрятав под блузу полуштоф, бегу со всех ног выполнять приказание.
В певческой пить строго воспрещается. Бывают случаи, когда за это увольняют даже хороших певчих. Чаще всего пьют в трактире Саврасенкова, находящемся на углу Тверского бульвара и Страстной площади348.
Трактир помещается в первом и втором этажах. Наверху гораздо чище и приличнее. Здесь можно видеть наших певчих, а также сотрудников «Московского листка» с Пазухиным во главе. На Пазухина я всегда смотрю с завистью и благоговением. Он – знаменитый писатель. Пишет романы для «Московского листка»349. Я читаю их с большим вниманием и не дождусь следующего дня, чтобы проглотить продолжение. Его знает и любит вся Москва, а в особенности Замоскворечье. Все его романы написаны из жизни замоскворецких купцов.
Я убежден, что лучшего писателя трудно найти, а он такой простой, такой милый, и каждый раз, когда я прибегаю в трактир звать старших на спевку, он указывает пальцем, украшенным толстым перстнем, подзывает меня и предлагает мне выпить рюмку водки. Я в смущении и большой робости отказываюсь.
– Ты что – бросил пить?
– Я никогда и не пил.
А затем я в свою очередь, замирая от волнения, спрашиваю:
– Господин Пазухин, ваш роман «Золото и слезы» еще долго будет продолжаться?
– Да, миляга, не скоро кончу... Это будет зависеть от моего пищеварения, – добавляет он и густо смеется.
Ухожу довольный и счастливый: сам Пазухин меня удостоил разговором. Как хорошо быть писателем!.. Один в тиши царапаешь перышком по бумаге, а потом, гляди, весь свет тебя читает.
Сегодня Миролюбов поздно вечером с большой тревогой в голосе говорит мне:
– Слушай, голубчик... Ты должен мне помочь... Понимаешь, тут такое дело вышло... Ну вот с этой, кому записки носишь. Надо ей помочь пройти сюда, к нам во двор, а затем мы ее увезем...
У меня от этого шепота и от этих таинственных слов холодеет кровь и сердце перестает биться. Чувствую, что совершается таинственное и очень страшное дело и я являюсь участником этой тайны.
Наступает вечер. Мы с Миролюбовым идем туда, к концу двора, где имеется дыра. Никого вокруг, тишина, небо густо осыпано звездами, а здесь, внизу, уже пахнет опавшими листьями. Делаю привычное движение, растягиваюсь перед отверстием, ползу вперед... Вот монастырский двор. Моя рука касается плоских камней, уложенных вдоль забора. Вылезаю и вижу черную фигуру, стоящую тут же.
– А можно будет мне пролезть? – тихо спрашивает монахиня.
– Конечно, можно. Вы только ложитесь и протяните руки, а я уж тогда вам помогу...
Спустя немного мы с Миролюбовым тащим монашенку, лежащую животом вверх, по ту сторону забора.
В певческой никого нет, в углу горит лампада и тускло освещает обширную комнату с широкими скамьями вдоль стен. Миролюбов тихонько вводит монашенку, усаживает ее возле дверей, а сам остается стоять перед нею.
Вглядываюсь в ее лицо, и мне становится понятным ее положение. Непомерно большой и высокий живот, кривящиеся губы, сдерживаемые стоны и слезы в больших черных глазах говорят о многом.
– Беги скорее за извозчиком, – дрожащим голосом говорит Миролюбов.
В точности исполняю приказание тенора. Прибегаю обратно и застаю не монашенку, а обыкновенную молодую женщину в сером пальто и в маленькой серой шляпке. «Вот ловко!» – мелькает у меня в голове.
– Извозчик у ворот! – сообщаю я шепотом.
Миролюбов подает бывшей монашенке руку.
Стою один под звездным небом и прислушиваюсь к торопливо бьющемуся сердцу.
Ежедневно бываю у Сперанских. Мать Бори, худенькая маленькая женщина, постоянно ходит с большим животом. Она очень проста в обращении и ко мне относится с большой добротой. С Борисом мы приятели. Мне мучительно хочется посвятить его в великую тайну, но я боюсь – ведь я дал клятву. Миролюбов мне не простит, если станет известен его роман с монашенкой. Но я не могу удержаться и только намеками говорю Боре об этом.
– Если бы ты, Боря, знал, что произошло вчера на нашем дворе, вот бы ты удивился!..
– А что?
– Нет, голубчик, этого я никому не могу сказать... Я поклялся до самой смерти хранить тайну...
Боря заинтересован и пристает ко мне, чтобы я обязательно ему рассказал, и тут же клятвенно обещает хранить эту тайну, как я ее храню. Не выдерживаю и под величайшим секретом передаю ему всю историю.
Боря поражен.
– Да не может быть! Вот интересно!.. Как же они не побоялись?..
– Значит, не побоялись, – говорю я.
А затем мы переходим на другие темы.
В тот же день к Сперанским приходит в гости Елена Ивановна. Узнаю впоследствии, что жена Сперанского является дальней родственницей Беляевым и что Елена Ивановна иногда наносит визиты Сперанским.
Елена Ивановна приходит в тот момент, когда мы с Борей собираемся к Вигилевым, где имеется наш третий приятель – Вадька, мальчишка четырнадцати лет, очень способный художник350.
– Здравствуй, Леня, – приветствует меня Протопопова таким простым и спокойным тоном, как будто только вчера мы с нею виделись. – Расскажи, расскажи мне, как ты живешь, каковы твои успехи, – продолжает она.
Молчу. Меня ее посещение угнетает, – не знаю, куда девать глаза.
В это время Сперанская зачем-то зовет Борю, и мы остаемся с Еленой Ивановной вдвоем.
– Слушай, Леня, я тебя очень прошу, – понизив голос, обращается она ко мне, – очень прошу... Приходи к нам после всенощной... Обязательно приходи... Я умираю от тоски... Ты мне очень, очень нужен... Придешь? – почти шепотом добавляет она.
Я отвечаю кивком головы и ухожу с Борисом.
Появление Елены Ивановны, ее полная фигура, круглое белое лицо и голубые глаза вызывают во мне то самое чувство омерзения и брезгливости, какое я испытал в ту памятную ночь.
«И зачем она пристает ко мне?.. Такая старая... Ведь ей уже тридцать лет!.. Как не стыдно!.. Я же ей в сыновья гожусь...»
Идти туда не думаю. Зачем пойду? Пусть она найдет другого...
Вечером того же дня меня просит жена Сперанского, чтобы я постарался привести старика. Он весь день сидит в трактире и, несмотря на ее записочку, не возвращается домой.
– Он тебя любит и, может, послушается. Пойди, голубчик.
Охотно выполняю поручение. Попадаю на второй этаж саврасенковского трактира в тот момент, когда Сперанский за столом Пазухина поет старинные светские песни.
Посетители, подогретые вином, с умилением в глазах слушают песни. Сперанский поет: «Под вечер осенью ненастной». Пазухин приходит в восторг от такого исполнения всем известной песни. И действительно, Сперанский здесь совсем не так поет, как на клиросе. Он умеет свой огромный голос сжать, сделать его гибким и тонким, и каждое слово он умеет так преподнести слушателям, что те внимают с притаившимся сердцем, боясь проронить хотя бы один звук замечательного голоса.
Когда Сперанский кончает, некоторые пьяницы вытирают слезы. Ему аплодируют, а один кривоногий посетитель смешно шагает через весь зал, держа в руке бокал, наполненный вином.
– Вот, голубчик, выпей на здоровье... Усладил ты мое сердце... Ввек не забуду.
Подхожу ближе к столику и не знаю, как приступить к Сперанскому. Меня замечает Пазухин. Этот человек способен пить круглые сутки и не быть пьяным.
– А, ты здесь? Очень приятно видеть тебя, почитателя моего таланта. Сперанский поднимает красные веки и устремляет влажный взгляд на меня.
– Ты что, Алеша?
– Мария Васильевна прислала. Просит вас очень идти домой.
– Тэк-с... Соскучилась... Хорошо, сейчас идем...
– Одну минутку!.. Вы, дорогой Николай Вадимович, должны еще спеть нам про канарейку... Помните, как канарейка на ветке плакала? Вот ее спойте и тогда идите домой, – говорит Пазухин.
Начинаются просьбы со всех сторон, аплодисменты... Готовится новый номер. Сперанский платком вытирает вспотевшее лицо, расправляет небольшую, с проседью, бородку, встает во весь огромный, тучный свой рост и приступает к исполнению старинной народной песни тихим тонким голосом. В зале наступает тишина. Половые замирают на своих местах.
Сперанский поет, и с каждым мгновением его лицо оживляется, глаза становятся сухими и горячими, и разрастается песня.
Никогда мне в жизни не приходилось слышать подобного исполнения простой народной песни. Только теперь я понимаю, за что любят Сперанского московские купцы. Мария Васильевна говорит, что эта любовь хуже всякой ненависти, потому что купцы кого любят, того и спаивают.
Мне жаль доброго старика; мне думается, что его роль здесь, в трактире, носит не тот характер, какой бывает, когда артист выступает в театре. Мне становится обидно за него, и я всеми силами стараюсь увести его отсюда, что удается мне после упорного сопротивления со стороны сильно опьяневшего Сперанского.
Сперанский зарабатывает неплохо. Ему платят сто рублей за свадебного Апостола. Он обладает едва ли не самым сильным и могучим басом. Он сам мне рассказывает, как присылают за ним карету и как он едет на свадьбу. Однажды одна богатая невеста во время обряда, когда Сперанский изо всей мочи рявкнул: «Жена да убоится своего мужа!» – упала в обморок – так грозно гремел его голос.
Помимо жалованья, Сперанскому как солисту и первой октаве полагаются две доли из кружки351. В общем он зарабатывает не меньше чем двести рублей в месяц, что является солидной цифрой.
И все же Сперанские очень бедны. Марии Васильевне приходится каждый день выдумывать, комбинировать, делать всевозможные экономические раскладки, чтобы добыть в достаточном количестве ту или иную провизию для прокормления многочисленной семьи. Мне хорошо известно, что ей приходится прибегать и к займу, и тащить иногда необходимые вещи в кассу ссуд.
По этому поводу мы иногда беседуем с Борисом и мечтаем о том счастливом времени, когда мы – выдающиеся изобретатели – заработаем большие деньги и поможем всей семье.
– Если бы папа не пил, то мы были бы самыми богатыми среди певчих, – грустно говорит Борис.
И я ему сочувствую, но ничем помочь не могу.
Сегодня Боря мне сознается и заранее просит у меня извинения за то, что он мою тайну рассказал Вадьке, а Вадька хочет нарисовать картину под названием «Похищение монашенки». Прихожу в ужас.
– Ты же клятву дал! Зачем ты выдал тайну?..
– Я и сам не знаю, уж очень мне захотелось заинтересовать Вадьку... Но ты не бойся, он мне дал клятву, что никому не скажет ни слова.
Вечером того же дня Сперанский, вернувшись со спевки совершенно трезвым, зовет меня, плотно закрывает дверь и говорит:
– Слушай, милый, здесь совершилась очень паршивая история, и ты, насколько мне известно, сыграл в ней немаловажную роль. Расскажи, как было дело, изложи все, ничего не утаивай, потому что дело серьезное и надо как-нибудь его затушить.
От слов Сперанского у меня начинают дрожать ноги, но в то же время я сознаю, что этому добряку надо все сказать, иначе может быть хуже.
Выслушав меня, Сперанский глубоко задумывается и даже закрывает глаза. Мне становится страшно.
– Да, миленький, состряпали вы штуку!.. Ай да Миролюбов!.. Все они, тенора, такие. Ах, черт возьми, а? Как же теперь быть? Ведь об этом уже сам Вигилев знает.
Я стою перед ним в виноватой позе и не нахожу слов и не знаю, как просить его, чтобы он защитил меня, если поднимется буря.
– Ну, вот что, – первый прерывает молчание Сперанский. – Найди мне Миролюбова и пришли сюда, а сам отправляйся с Борькой на Москву-реку, ловите рыбу, купайтесь, если вода не холодна, а в дела взрослых не вмешивайтесь, а там посмотрим.
– Спасибо, господин Сперанский, прошу вас очень, как-нибудь защитите меня. Ведь я не виноват, – мне что старший приказывает, то я и должен исполнять.
– Хорошо, хорошо, веди сюда Миролюбова.
Иду исполнять приказание. Во мне живет большая тревога, и тяжелые предчувствия давят грудь.
Скандал разрастается на другой день и принимает свирепые размеры. Весь Синодальный хор узнает о похищении монашенки тенором Миролюбовым. Следствие ведет сам Вигилев.
Миролюбов прячется от всех и даже меня к себе не подпускает.
Проходит еще несколько дней. Вигилева вызывают к митрополиту Иоанникию. Все кругом затихает в ожидании дальнейших событий. Все знают, что древний старец Иоанникий шутить не любит и когда нужно – может показать звериную жестокость.
До нас доходят всевозможные слухи, сплетни, россказни, и мы узнаем, что настоятельница монастыря лично докладывала Иоанникию о происшедшем скандале. Узнают об этом и в высших сферах. Черное духовенство старается всеми силами замять дело и не дать большой огласки.
Наконец судьба участников и даже посторонних решается быстро и страшно.
По предписанию митрополита Вигилев приговорен к ссылке в Виленский Троицкий монастырь, причем сделать это он обязан в трехдневный срок352. Миролюбов изгнан из хора, а мне приказано не показываться даже во дворе, а не только в общежитии или в певческой.
И я ухожу отсюда, ухожу навсегда.
Сперанский перед моим уходом старается смягчить мое положение добрыми словами, всячески утешает меня и дрожащей рукой вытаскивает из жилетного кармана серебряный полтинник и сует мне в руку.
– Советую тебе, – говорит он, – пойти к Беляевым. Там у тебя родная сестра, да и Колька парень хороший... Иногда только в нетрезвом виде буянить любит, а так я его знаю, человек он добрый.
– Нет, – говорю я, – туда не пойду. Вы сами знаете, что мы с ним не разговариваем, хотя ежедневно встречаемся в певческой.
– Ну, конечно, не может же он у тебя просить прощения, он ждет, когда ты подойдешь к нему. Ведь ты мальчик, а он взрослый человек.
Входит Мария Васильевна. Она тоже советует мне вернуться к сестре. Чтобы не огорчить этих добрых людей, я обещаю выполнить совет, но внутренне у меня уже созревает твердое намерение к Беляевым не возвращаться.
День пасмурный, с утра льет дождь с перерывами. На улице ветрено, всюду серый свет. Нависла над городом непроглядная муть, усиливающая мою тоску.
Шлепаю по мокрым камням мостовой, теряю почву под собою и ежеминутно готов заплакать.
Комментарии
Публикуемые главы «Святые гнезда» и «Николай Сперанский» из третьей части повести «История моей жизни» посвящены недолгому пребыванию автора в Синодальном хоре. Следует сразу сказать, что это – не документальное произведение, а повесть, в которой правда переплетается с вымыслом. Из предыдущих глав мы узнаем, что главный герой Сеня, семнадцатилетний юноша, попадает в Москву, чтобы разыскать свою сестру Басю, которая, приняв православие, вышла замуж за синодального певчего Николая Беляева. В Москве Сеня крестится с именем Алексей. Затем события разворачиваются в Синодальном хоре, и в них принимают участие вполне реальные лица, хотя их имена и фамилии не всегда совпадают с настоящими. Так, певчий Михаил Сперанский стал в повести Николаем, сын Сперанского Константин – Борисом, сын Вигилева Сергей – Вадькой. Бесспорно подлинные персонажи – регент Д. Вигилев, митрополит Московский Иоанникий, писатель А. Пазухин, владелец трактира К. Саврасенков; не соответствуют подлинным фамилии певчих Миролюбова и Беляева. О других персонажах сказать что-либо затруднительно, как и о главном событии – похищении монахини. Осталось определить год, в котором происходит действие. Автор об этом нигде не говорит, но один факт – уход Вигилева с поста регента Синодального хора – позволяет датировать данные главы. Доподлинно известно, что Вигилев оставил хор по неизвестной нам причине в марте 1886 года. Значит, Алексей попал в Синодальный хор в конце 1885-го или в начале 1886 года. Это, однако, вносит некоторый разброд в фактологию, а именно в определение возраста автора. Если в повести ему семнадцать лет, то в реальной жизни должно быть двадцать, и естественно, что он уже не может петь в альтовой партии. Чтобы свести концы с концами, можно предположить, что автор родился не в 1865-м, а тремя-четырьмя годами позже. Впрочем, это не так уж важно. В целом атмосфера жизни дореформенного Синодального хора передана Свирским, на наш взгляд, довольно точно.
Публикация сделана по первому изданию повести (М., 1935).
Александр Васильевич Никольский
А. В. Никольский родился 10 (22) июня 1874 года в селе Владыкино Чембарского уезда Пензенской губернии в семье местного священника Василия Александровича Никольского. С ранних лет мальчик читал, пел и прислуживал в церкви. В 1888 году по окончании Пензенского духовного училища он по стопам отца поступил в Пензенскую духовную семинарию, где помимо богословских и научных предметов в то время изучались церковное пение и скрипка. Вероятно, молодой Никольский выделялся своими успехами в музыке, так как с четвертого класса стал управлять семинарским хором, а затем хором Тихоновского духовного училища. Однако занятия музыкой вряд ли стали бы делом его жизни, если бы не встреча в 1891 году со своей будущей женой К. И. Балашевой. Образованная и романтически настроенная девушка мечтала стать актрисой и своего избранника хотела видеть знаменитым человеком, а не сельским батюшкой. Твердо и умно она направляла мысли и поступки Александра Васильевича в сторону музыкальной карьеры. В первом же письме к Капитолине Ивановне от 24 октября 1891 года Никольский утверждает: «В свою карьеру музыкального артиста я верил только тогда, когда видел вас подле себя»353. Он шлет девушке подробные отчеты о своих музыкальных успехах, рассказывает о концертах, излагает мысли об идеальном художнике-регенте и, наконец, сообщает о первых композиторских опытах. Однако, когда Капитолины Ивановны «подле него» не было, он обдумывал и другие варианты жизненного пути: университет, духовную академию, священство... «То ли дело служить в церкви, – писал он 28 марта 1892 года, – ежедневно молиться Богу, работать на ниве евангельской, подобно тому, как работает папа!»354
В конце 1893 года было принято окончательное решение, и Никольский объявил ошеломленным родителям о своем намерении стать музыкантом. Теперь предстоял выбор другого рода: в какое музыкальное учебное заведение поступать. По совету инспектора духовной семинарии Александр Васильевич обратился с письмом к директору Московского Синодального училища Смоленскому, от которого получил следующий ответ:
«Милостивый государь Александр Васильевич. С удовольствием отвечаю на ваше письмо, хотя не знаю, придется ли вам по душе мой ответ. Единственно возможный путь к исполнению вашего желания – поступление в число взрослых певчих Синодального хора, которые, кроме научных общеобразовательных предметов (для них необязательных), изучают наравне с учениками все музыкальные предметы, кроме игры на фортепиано и скрипке, то есть все курсы сольфеджио, элементарную теорию, всю гармонию, контрапункт строгого и свободного стилей и формы сочинений.
Таких молодых людей, как вы, у меня уже есть двое, из Полтавы и Саратова. Оба они поют тенорами в хоре, получают за то 25 рублей в месяц, квартиру с дровами и водой и ученье. Посему весь вопрос ставится в зависимости от того, есть ли у вас если не отличный, то хороший голос (безразлично: бас, баритон, 1, 2 тенор) или нет его. Если есть – милости просим, если нет – не могу предложить вам эти условия.
Синодальный хор есть, конечно, первоклассный хор, не промышляющий пением за деньги, но поющий лишь в святилище Успенского собора. Музыкальная компетенция его безусловно отлична и тягается с Капеллою. Дома этот хор изучает по возможности все великие хоровые произведения, начиная от Палестрины, Орландо Лассо, древнейшего русского пения по крюкам. Посему есть как бы две дороги занятий: певческая в Успенском соборе и строго научная в стенах училища и хора.
Для вас как кончившего курс в духовной семинарии, конечно, не будет надобности проходить всякие физики, геометрии и тому подобное, а обучение ограничится лишь музыкально-теоретическими предметами, древним и новым церковным пением, и изучением (частным образом) инструментальной игры. Последнему я дам возможность. Года через три-четыре вы выдержите окончательный экзамен и получите звание регента и учителя церковного пения. Для избегания воинской повинности молодые семинаристы мои сделали такую штуку: они числятся в своих городах псаломщиками, командированными в мое распоряжение их архиереями для усовершенствования в церковном пении. Числясь при крестовой архиерейского дома церкви, они гарантированы от требования на военную службу.
Теоретический курс наш разнится от консерваторского тем, что мы, проходя высшие музыкальные науки, имеем другую совсем почву упражнения в композиции, то есть не инструментальную, а певческую. Так как наша почва уже нисколько не чужестранна, более всего церковна и склонна к русской старине, то мы выработали для себя особую программу, в которой, взяв у иностранцев все умное и надобное, изучаем свое родное, как старое, так и новое, работая по мере сил во славу Божию. Говорю все это, отвечая на ваш вопрос на какой курс консерватории по классу композиции можно поступить по окончании у нас курса? Я думаю, что ни на какой не следует.
Этими днями увижу Саблера и Победоносцева, поговорю с ними еще раз о многом своем, закину словечко и о вас. Вы тем временем уведомите меня подробнее по началу сего письма.
Готовый к услугам Ст. Смоленский»355.
В конце августа 1894 года Александр Васильевич уже пишет прошение о зачислении его сверхштатным певчим Синодального хора, отказываясь от жалованья и претендуя только на казенную квартиру с отоплением; Смоленский делает представление Никольского прокурору Ширинскому-Шихматову356. 1 сентября 1894 года началась жизнь Никольского в «Синодалке», где он сделался одним из прилежнейших учеников. Стараясь запомнить все виденное и слышанное, Александр Васильевич завел специальную тетрадь для записи лекций, наблюдений и мыслей. Благодаря этим ученическим записям мы располагаем сейчас достоверным свидетельством жизни хора и училища тех лет. Конечно же, о всех перипетиях московской жизни он рассказывал и в письмах к «дружку» Лине, 8 января 1895 года ставшей его женой. Такова предыстория публикуемых в настоящем сборнике писем к невесте и «Музыкальных заметок» Никольского.
Однако «синодальный» период жизни Александра Васильевича был недолгим. Уже через год после начала занятий у него возникает мысль о переходе в консерваторию и о получении высшего образования, «на почве которого кричать-то о реформе церковного пения будет уже посмелей, да и понадежней в смысле результатов»357. Как известно, «права» и «дипломы» были больным вопросом для Синодального училища во все времена. Тем более бесправными оказывались слушатели духовно-музыкальных курсов, получавшие по сдаче итоговых экзаменов лишь свидетельство о том, что они могут быть регентами и учителями церковного пения, но не регентскую и учительскую квалификацию и права.
Между тем среди таких людей встречалось немало способных и преданных делу музыкантов, в том числе Никольский, ставший полноправным членом синодального братства и отлично сдавший экзамены по всем пройденным предметам.
В сентябре 1897 года, накануне принятия устава и новых программ Синодального училища, Смоленский возбудил перед прокурором Ширинским-Шихматовым вопрос «об удостоении» правами и дипломами слушателей духовно-музыкальных курсов. Не забыл Степан Васильевич «замолвить словечко» и за Никольского:
«...Кончившие курс в духовных семинариях и поступившие для получения музыкального образования в Синодальный хор и его курсы для взрослых певчих, несомненно, не могут не представлять собою один из самых желательных к привлечению в область церковного пения контингентов духовного ведомства. Сюда могут решиться пойти только любящие это дело семинаристы, способные к нему и решившие после семинарии отдать ему по крайней мере четырехлетний труд, и притом весьма нелегкий. Отторгать таких молодых людей ввиду отсутствия надобной статьи в уставе Синодального училища мне представляется очень убыточным для дела, и для духовного ведомства, тем более, что существует много путей добиться уроков, мест преподавателей, даже и регентских аттестатов при несравненно меньшем цензе, чем установленный для Синодального училища.
Потому, принимая во внимание, что взрослый певчий Александр Никольский есть студент 1-го разряда Пензенской духовной семинарии, что он отлично способен и опытен в управлении церковным хором, выдержал вполне удовлетворительно экзамен по всем музыкальным и певческим предметам курса Синодального училища, что образовательный ценз Никольского нисколько не ниже ценза для учеников Синодального училища, я, признавая согласно с постановлением правления училища г. Никольского вполне достойным звания регента и учителя церковного пения, честь имею просить ваше сиятельство возбудить ходатайство перед высшею духовною властью об удостоении Никольского звания наряду с кончившими курс Синодального училища и о внесении, если возможно, в проект будущего устава Синодального училища соответственной настоящему случаю статьи»358.
Однако в то время, когда было возбуждено это ходатайство (имевшее, кстати, отрицательную резолюцию), Никольского в Синодальном училище уже не было: 9 сентября 1897 года он поступил в Московскую консерваторию, где по весну 1900 года обучался в классе специальной теории С. И. Танеева, изучая контрапункт и музыкальные формы. Судя по архивным документам, Александр Васильевич занимался небезуспешно, тем не менее, как он писал позднее, свое консерваторское обучение у строгого и требовательного Танеева завершил «бегством». Не исключено, что причиной стали нерегулярные посещения занятий Никольским, который к тому времени стал отцом троих детей и был вынужден зарабатывать на жизнь преподаванием в нескольких учебных заведениях (с 1894 по 1918 год – в Строгановском центральном художественно-промышленном училище, с 1896 по 1906 год – в Елизаветинском женском институте, с 1899 по 1906 год – в Александро-Мариинском женском институте).
Высшее образование и искомое звание Александру Васильевичу было суждено получить лишь с третьей попытки: в 1900 году он поступил в Московское Филармоническое училище (в класс композиции А. А. Ильинского и класс дирижирования Виллема Кеса), который и закончил в 1902 году со званием свободного художника по теории композиции. К тридцатилетнему возрасту пора ученичества была завершена, начинался период серьезных творческих достижений и общественного признания.
«Теперь явилась охота себе и людям доказать, что не только умею, но и мастерски могу исполнить. А жажда дела и охота к нему – это и есть жизнь», – писал Никольский жене359. Конечно, в первую очередь ему хотелось занять свое место в ряду светских композиторов-профессионалов. Доказательством причастности к миру «оркестрового музыкантства» явился длинный список сочинений, среди которых поэмы, картины и фантазии для симфонического оркестра, кантаты и хоры а сарреllа, пьесы для деревянных духовых инструментов с оркестром, произведения для камерных ансамблей, детские оперы и песни, романсы и мелодекламации, обработки народных песен. К сожалению, большая часть этих сочинений так и осталась в архиве автора. Лучшая участь была уготована огромному духовно-музыкальному наследию Никольского, по большей части опубликованному и повсеместно звучавшему. Помимо отдельных духовных хоров, перу композитора принадлежат Литургия Преждеосвященных Даров, оп. 23 (1907), Всенощное бдение, ор. 26 (1908), Литургия св. Иоанна Златоуста № 1, оп. 31 (1909), Запричастные стихи, ор. 33 (1907), Песнопения Страстной Седмицы, ор. 35 (1912), Песнопения Святой Пасхи, ор. 37 (1913), Венчание, ор. 41 (1914), Литийные стихиры, ор. 47 (1916–1917) и др.
Примечательно, что и после революции, отдав неизбежную, дань обработкам революционных и народных песен, Никольский продолжал писать духовную музыку. В архиве композитора хранятся написанные в двадцатые годы Литургия св. Иоанна Златоуста № 2, ор. 52, а также отдельные хоры (оп. 55, 57, 62, 63:68). В конце двадцатых годов Никольского в полном смысле слова заставили замолчать, взяв с него подписку о нераспространении его духовных сочинений.
Безусловно, своим творчеством, насчитывающим 76 опусов и свыше 450 номеров (данные автобиографии), Александр Васильевич Никольский доказал свое право называться не только «серьезным», но и очень интересным и значительным композитором. Подлинная оценка его наследия еще ждет своего часа.
«Синодальная» закваска Никольского определила пути его деятельности, которая происходила в те годы, когда реформы Синодального училища уже свершились и Новое направление в композиторском творчестве стало реальностью. Однако для того, чтобы результаты «революции», происшедшей на Большой Никитской, распространились на всю Россию, нужна была кропотливая просветительская работа. Этот нелегкий труд взял на себя Никольский, посвятивший музыкальному миссионерству почти двадцать лет жизни. Одной из его форм стали проводившиеся ежегодно композитором летние регентские курсы в разных городах России – Пензе, Саратове, Камышине, Наровчате, Вятке, Ржеве, Москве. Другая форма – регентские съезды: Никольский был одним из главных организаторов и активнейших участников всех шести съездов, состоявшихся с 1908 по 1917 год. Редкий номер журналов «Музыка и пение» и «Хоровое и регентское дело» в эти годы выходил без умных и эмоциональных статей Никольского, посвященных насущным проблемам регентов и певчих, истории и теории церковного пения, концертам духовных хоров и новым сочинениям. В некоторых из работ Александр Васильевич выступал в роли историографа Нового направления, впервые развернуто изложив его основные идеи и обрисовав портреты главных действующих лиц.
Широкая педагогическая деятельность, которой Никольский занимался не только на регентских курсах, но и в Синодальном училище и Народной хоровой академии (1915–1923), Народной консерватории (1906–1917), музыкальной школе А. А. Ильинского, а также во многих московских гимназиях и училищах, вызвала к жизни такие его работы, как «Начальный учебник хорового пения» (совместно с Н. Д. Кашкиным, 1908–1909), «Энциклопедия школьного пения» в четырех выпусках (1916–1917), «Голос и слух хорового певца» (1916) и другие.
Как истинный народник, Никольский, подобно своим товарищам по синодальной корпорации, не прошел мимо московской Музыкальной этнографической комиссии, начав сотрудничество с ней в 1902 году. Однако серьезная научно-исследовательская работа в этой области относится к послереволюционному периоду. «Очень усердно занят своей «Теорией русской народной песни». Уже 692 страницы написано. Чувствую, что труд мой – большой, солидный, ценный. Верю в это и с увлечением посвящаю ему ежедневно 8–10 часов», – писал Александр Васильевич 25 июля 1919 года в Ярославль жене360, которая после рождения восьми детей осуществила свою юношескую мечту и стала актрисой. Похоже, что для Никольского так же, как и для Кастальского, этнография была способом примирения с действительностью и одним из главных дел жизни после революции. Так же, как и некоторые их товарищи по МЭК, они стали сотрудниками этносекции ГИМНа, оба преподавали народную музыку в Московской консерватории (Никольский был преемником Кастальского), оба написали капитальные научные исследования о народной песне. Однако в отличие от двух известных работ Кастальского, труды Никольского – «Народная песня СССР» (1930-е годы), «Музыкальный язык русской народной песни в связи с тематикой и формами языка словесного» (1939) и другие – так и остались неизданными.
Никольскому, пережившему почти на двадцать лет своего учителя, было суждено увидеть и разгром горячо любимой им русской этнографии, и рождение кафедры хорового дирижирования в Московской консерватории в 1931 году.
«А. В. Никольский был основоположником всего цикла теоретических дисциплин дирижерско-хоровой специальности, – писал его ученик К. Б. Птица. – На кафедре хорового дирижирования Московской консерватории в течение многих лет он был единственным и бессменным преподавателем важнейших в хоровом образовании курсов: хоровой литературы, народной песни, аранжировки. Периодически А. В. Никольский преподавал на дирижерско-хоровом отделении и другие дисциплины: методику обучения музыкальной грамоте в хоре, анализ музыкальных форм. Недолгое время он вел и дирижерский класс. Ему принадлежат редакция первоначальных учебных программ по хоровой специальности и авторство большей части из них. Во многом эти программы служат образцом и поныне»361.
Читая воспоминания учеников Никольского по консерватории, невольно вспоминаешь словесный портрет «добрейшего» Степана Васильевича Смоленского, нарисованный Никольским. Таким же ярким и самозабвенным оратором, таким же заботливым и «добрейшим» к ученикам был Александр Васильевич. «В основе деликатности, участливости и внимания Александра Васильевича к людям лежало, пожалуй, наиболее яркое свойство его характера – необычайная доброта. Делать другим добро было для него не только жизненным принципом, но и органическим свойством натуры. Он всегда кому-то помогал, о ком-то хлопотал, кого-то устраивал, заступался, тратя массу времени и сил», – вспоминал К. Б. Птица362.
На склоне лет Александру Васильевичу было суждено участвовать не только в становлении хоровой кафедры консерватории, но и в рождении Хорового училища для мальчиков, идея организации которого возникла на волне патриотического подъема в первый же военный год. Докладную записку в ЦК партии о создании учебного заведения, прообразом которого являлось не что иное, как Синодальное училище церковного пения, было поручено составить Никольскому – одному из немногих педагогов Московской консерватории, не уехавших в эвакуацию. Композитор пытался возродить и курс русского церковного пения, который он начал читать в 1942 году остававшимся в Москве студентам консерватории363.
Александр Васильевич работал в эти годы много и интенсивно, веря в победу и ожидая окончания войны. Однако его жизнь была очень трудной. Приведем фрагменты двух неопубликованных писем Никольского к сыну Григорию, написанных в начале 1943 года и красноречиво свидетельствующих об обстоятельствах, которые сопутствовали завершению его жизненного пути:
11 января 1943
«Родной мой! Напрасно ты сетуешь, что мы тебе «не отвечаем» ни на твои телеграммы, ни на письма. Недавно я послал тебе подряд две открытки. Не отвечаю на телеграммы только потому, что ищу адрес с номером полевой почты, отчасти же из-за отвлечения внимания тысячью забот и дел. Вяжут мою голову и время статьи и доклады, какие поручают мне факультет и кафедра консерватории. Писать я вообще разучился; статьи пишутся у меня с великим трудом, что донельзя тревожит и обессиливает меня внутренне. Я и здоров, и не здоров вместе: лекции посещаю неопустительно, но провожу их как больной, устаю и оскудеваю мыслями и словами. Постоянно зябну, хотя и не голодаю (как Таня, Галочка и Люся)364. Заработка не хватает – приходится нуждаться в деньгах уже спустя 3–4 дня после получки зарплаты. Вещи, какие можно, распроданы и мной, и Таней все, – больше «реализовывать» стало уже нечего. <...>
Таня, в свою очередь, тревожит меня неописуемо и беспрерывно состоянием души, надорванной до предела, непрекращающимися несчастьями, болезнями Галочки и Ромы, не говоря уже о потере Глеба. Работает она с 5-ти утра до 10–11 ночи, причем бегает по городу целыми днями в летнем пальто, так как ей некогда справить себе шубу. Мерзнет, конечно, нестерпимо, а на наши попытки как-нибудь удержать ее от беготни отвечает одно и тоже: «Чем скорее сгибну, тем лучше: жить мне уже незачем» (?!) Такие же речи частенько ведет и Галя. Рома в клинике скарлатинозной, где должен оставаться еще дней двадцать (сегодня исполняется двадцать второй день).
Часто нуждаемся в дровах для печки, так как газ то и дело гаснет. Это одна из тяжелейших сторон нашего питания. Стирать нельзя – не хватает мыла. <...> Конечно, на общем фоне наше положение более или менее терпимо; но детали нашей семейной и хозяйственной обстановки поистине бывают исключительными и потому частенько претерпеваются очень тяжко.
Ты, дорогой, однако не преувеличивай своих мыслей о наших затруднениях разного рода. Бывает у других людей куда хуже! Хорошо уже то одно, что мы живы и в какой-то мере здоровы. А это немалое благо! То, что я работаю, как здоровый вполне (35 лекционных часов в неделю), это значит, что папа не совсем выдохся, а даст Бог, продержится таким и впредь некое время. <...>»
9 февраля 1943
«Дорогой, милый, родной наш и друг мой Гриша! Редко я пишу тебе – каюсь! <...> Лично я стал частенько прихварывать: то и дело бюллетеню, что ведет к постоянным перебоям в моей академической работе. Я и сейчас сижу дома до 28-го января; выпустить врач обещал 11-го, а может быть 13-го февраля. Плохо то, что во время болезни не оплачивается на сумму около 1 тысячи рублей по месту совместительства. Из консерваторской же 11/2 тысячи на руки я получаю едва 900 рублей. Как тут жить рынком? Распродавать же нам с Таней уже нечего. Правда, мы еще далеко не голодаем, но средства к жизни у нас уже совсем подорваны и перспектив у нас не стало. Из-за болезней моих мне приходится отказываться от нагрузок по совместительству. Получается заколдованный круг... Я на сей раз разоткровенничался перед тобою. Ну что же: узнай правду. Жизнь рвется и у меня, как она порвалась у Тани. Остановить этот процесс едва ли можно... Я, разумеется, лечусь, даже небезуспешно. И все-таки я заметно постарел: двигаюсь характерной походкой («шмыгаю“). Лекции провожу еще неплохо. Но надолго ли это? Кто скажет? Сплю не больше 5–6 часов в сутки; встаю в 3–4 часа почти всегда. Люся утратила всякое чувство времени: нередко закатывает свои голодные истерики на целые ночи, а то и на две подряд.
Я чересчур разжаловался – не надо бы так, чтоб тебя излишне не встревожить. Ну, ты и не думай очень-то мрачно. Бог даст, дела изменятся: на фронте-то войны как!!! Я жду, жду и верю – дождусь светлого конца войны в полном здоровье (не худше моего настоящего!). Собственно, дух мой крепок еще, и я не сдам, если... сердце не подкачает против моей воли. Врач дает о сердце заключение весьма неплохое. На это давай и расположимся, друг мой! Наружно я мало изменился. Иногда выгляжу даже очень свежо и бодро (чего не скажешь о Тане). Но чаще...
Консерватория обращается со мной очень внимательно, но именно как со стариком, которого надо беречь. Это и лестно, и грустно.
И все-таки в итоге моего настоящего письма, если вглядишься в мой почерк, нельзя не отметить, что и тверд, и ясен. О каком постарении завел я речь? Бросим эту навязчивую идею и будем верить, что жизнь мы еще увидим!!! <...>»365
Через сорок дней после написания этого письма, 19 марта 1943 года, Александр Васильевич скончался от паралича сердца.
Из переписки с К. И. Балашевой
Москва, 1 сентября 1894. [Утро]
<...> Вчера Смоленский собрал нас – семинаристов и в короткой речи провел такие мысли. Он думает устроить учительский институт церковного пения для господ семинаристов. Синод готов оказать ему даже материальное содействие, учредив несколько (до двадцати) стипендий по 500 рублей. Но для осуществления всего этого необходимо предварительно зарекомендовать нашу школу. Это и составляет нравственную обязанность нас. «Вы народ интеллигентный, способный обнять мою мысль, и настолько развиты, что захотите послужить доброму делу», – закончил директор. То есть он призывал нас к особому усиленному труду, чтобы мы по выходе из школы могли составить гордость ее. Ведь хорошая мысль, Линушка?! И что же? По возвращении в свои квартиры все по поводу его, Смоленского, слов сказали нижеследующее: «Да-а!... Как бы не так! Мы трудись, а 500-то рублей будут гладить другие?!! Нет, это покорно благодарим!..» Вот так интеллигенция! Вот так служители искусства!
Дорогая! Я не хвалю себя, когда так горячо восстаю против коллег. Но ты и сама видишь, что ведь это гадость какая-то, не артисты, а дельцы! Один есть – симпатичный идейный господин. Он был в Полтаве учителем пения в духовном училище, получал около 800 рублей с казенной квартирой. Все бросил и прикатил в Москву. Это, похоже, человек; жаль, что болен расстройством нервов366. Мы с ним хороши, но еще деликатничаем. Но шут бы с ними! Все это беда еще не так большой руки, – но главное – порядков в самой школе нет. По рассказам Смоленского, все обставлено совершеннейшим образом. Оказывается, далеко не так. Во-первых, каким голосом я буду петь? Смоленский выразился неопределенно. На какой клирос (правый или левый) становиться в соборе? «Куда угодно» (?). Когда начнутся занятия? Неизвестно, ибо никто об этом не говорит. Чем заниматься? «Там увидите». Старики говорят, что хождение на лекции только дело тормозит. Профессора на нас, вольнослушателей, внимания обращают так мало, что приходится ограничиваться самообучением. О скрипке и фортепиано заботься сам. Смоленский только говорит. Есть занятия послеобеденные, с двух до пяти часов. Когда же заниматься самому-то? Отдыхать? С четырнадцатого начнутся утрени праздничные, потребуется вставать в два часа утра. С четырех до шести отдыхать. В шесть часов ранняя обедня... Беда!..
Сегодня был молебен. Слушал всю капеллу. Не знаменито, Лина, поет она. Вяло и нестройно. В этом сознаются сами певчие. Короче говоря, сердце сжимается от боли при виде всего этого и при мысли о будущем. <...>
[1 сентября 1894. Вечер]
Так давеча я с горя расхай л все так, что хоть и вправду бежать. Но такое представление дела немного односторонне. Правда, дело в школе поставлено дурно. Но трудиться все-таки можно, и небесполезно. Профессор хоть и не особо внимательно, но все же просматривает работы вольнослушателей. Лекции хотя и вредят делу, отнимая время, но они приносят и пользу, указывая ученику путь и средства постичь то или иное.
Занятия в хоре несомненно полезны и для голоса, и для изучения дирижерских приемов. Я хоть и не весел, благодаря товариществу и его толкам о Смоленском и постановке дела, но утешаюсь мыслью, что нынешний год порядки будут новые (состав профессуры обновлен)367 и что не так страшен черт, как его малюют. Поживу, увижу, – и только тогда или отчаюсь совершенно в успехе своего дела, или... ну, да словом, там видно будет. Посему, хотя занятий правильных еще нет, однако я занимаюсь. Например, сегодня проработаю от семи часов до одиннадцати и от четырех с половиной до шести часов над элементарной теорией. Вчера весь вечер играл на скрипке.
Теперь о своем житье и об моих отношениях с коллегами. Занимаю пока угол в квартире Крылова. Но по всем признакам числа шестого-седьмого перейду в свое помещение, которое мне дано будет, вероятно, одному, ибо Крылов поступает на место в городе Балашове в Саратовской губернии. Ем Бог знает у кого. Ходит нас в этот дом четыре человека из Синодального хора. Заплатил 10 рублей за обед. Последний состоит из трех блюд: горячего вволю и большой кусок мяса, жаркое в виде двух котлет в ладонь или кусок битка и т. п. Третье – молоко, или арбуз, или варенье с оладьями. Словом, кормят замечательно сытно и вкусно. У Прасковьи Васильевны было несравненно скуднее. Чай пью свой, кипяток достаю из куба. Самовар пока не купил. Словом, обзавелся пока еще весьма немногим, именно койкой и тюфяком ценою в 7 рублей (5 рублей койка и 2 – тюфяк). <...>
В обществе товарищей молчалив и необщителен. Когда приходится завернуть, по нужде, к Засядке368 или Орловскому, – то извиняюсь и вскоре ухожу. Вообще, хочу жить изолированно. По уходе Крылова возьму у него инструмент, за который придется заплатить 9 рублей в первый месяц и по 7 рублей в последующие. <...>
Москва, 2 сентября 1894
Сегодня была утром первая спевка, знаменующая собой начало регулярных занятий. Я был поставлен регентом в баритоны. Петь легко весьма, потому что требуется от каждого издавать самый натуральный звук как по тембру, так и по силе. Пропел я два часа и не устал нисколько. А это редко бывало со мной. Что сказать о самом пении? Поют все за фортепиано, на котором играет регент. Поют небрежно, неохотно, ибо и сам Орлов (регент) не обнаруживает особой энергии. Пропели две пьесы так, как я никогда не пел, то есть кое-как, и тем ограничились. Репетиции пред исполнением их в соборе больше не будет. Представь, Лина! Где же развитие вкуса? Кажется, здесь этого можно достичь путем отрицательным, то есть здесь показывается, как не должно исполнят ь... Ужасно!.. <...>
Занимался я сегодня с охотой, с рвением необычайным. Способность к такому отношению к делу меня утешает и немного вливает надежду на лучшее. О, дал бы Бог!!
Господин Орловский (из Полтавы), как я и ожидал, оказался человеком идейным. Он агитирует в пользу «ядра». (Ты ведь, Линушка, помнишь, к чему призывал нас господин Смоленский. Он тогда же нас называл «ядром» будущего института.) Нам хочется, чтобы нас освободили от обязательного хождения на лекции вместе с мальчатами, ибо это может только тормозить дело, отнимая дорогое время. <...>
Москва, 4 сентября 1894
А я, Лина, начинаю успокаиваться. Теперь почти что не тоскую о родине. А раньше – беда!.. Впрочем, и теперь случается, что средь занятий вспомнишь о тебе, и.… все пошло кругом. Глаза бы мои не глядели ни на что.
А порядков, друже, все нет и нет. Ученье еще не начиналось; даже расписание не вывешено. Спевки, правда, ежедневно, но от них мало толку. Научаемся регентскому искусству, как и раньше писал, отрицательным путем, то есть показывают, чего не должно быть. Завел я для записи музыкальных заметок книгу и всякую мысль по части теории или хорового пения вношу в нее. Эти мемуары впоследствии сослужат мне великую службу!.. Надумал я брать уроки не на скрипке, а на фортепиано, ввиду таких соображений: на скрипке я играю шесть лет; приемы я усвоил настолько, что они стали моей второй натурой, и посему исправлять их едва ли возможно. Да и нужно ли? Ведь я играю довольно бойко; со временем, даже и при настоящих недостатках, уйду далеко. Между тем фортепиано мне почти совсем не знакомо. Здесь ломать ничего не придется; следовательно, дело пойдет легче и успешнее. А это-то и нужно. Ведь хорошо я придумал? Но кого избрать в учители – пока не знаю, да и решать это до начала правильных занятий, кажется, нельзя, ибо нигде и ни в чем порядку не добьешься. <...>
Москва, 5 сентября 1894
Сегодня была служба по случаю именин великой княгини369. Пели мы. Я хоть немного был утешен: р и рр капелла исполняет здорово. Так бы и слушал! Что хорошо, то хорошо. Вообще, партесное пение поется гораздо стройней, художественней, нежели простые вещи. Скоро начнем готовиться к концерту, который предполагается в октябре. Это, говорят, весьма интересная и полезная статья. Скорей бы! <...>
Москва, 8 сентября 1894
Наконец-то! Вчера (седьмого) были послеобеденные занятия: от 2–3, 3–4 и 4–5 часов, итого три урока. Таким образом, началось! Я буду изучать: 1) Элементарную теорию со II и III классом. 2) Элементарную гармонию с III и IV классом. 3) Гармонию с V классом. 4) Сольфеджио с III, IV, V и VI классами. 5) Чтение партитуры с VII и VIII классами. 6) Церковное пение с III, IV, V и VI классами. Следовательно, всего шесть предметов. В день бывает от двух до трех уроков, так: 8–9, 9–10 часов и 2– 3 часа; или 8–9 часов, 2–3, 3–4; или 9–10, 4–5.
Элементарную теорию и гармонию будет преподавать субрегент, свободный художник А. Д. Кастальский, сольфеджио – регент, свободный художник В. С. Орлов. Гармонию в V классе профессор Филармонии С. Н. Кругликов и т. д. Теперь чувствую себя иначе. Я вижу, что разочаровываться и всячески хулить школу нельзя, ибо в ней все поставлено хорошо, только работай и трудись – не ленись. А за этим дело не станет. Знаю, что свободного времени не будет, и весьма доволен этим. Так-то, дружок! Ликуй со мной! Учиться можно – а больше ничего и не надо. Ученье настало – а этого-то нам и недоставало. Сообщив об этом крупнейшем и наиважнейшем обстоятельстве, пущусь теперь балакать.
Перво-наперво, друг ты мой сердечный, – дух мой утренюет, то есть горит желанием трудиться и бодр так, как еще не был доселе ни разу. Я стал весел, разговорчив и почему-то всех своих сослуживцев по хору люблю, всех до единого. Все они, думаю я, – люди смирные, скромные, простые и.… хорошие – и посему – слава Тебе, Господи!..
Теперь объясню тебе, почему я считаю лекции неполезными, даже вредными делу, ты просишь об этом меня. Я говорил об отнятии дорогого времени хождением на элементарную теорию, тогда как ее можно пройти и самому. Тем более что ее пришлось бы изучать с учениками II класса, то есть идти вперед по-черепашьи. А оно и скучно, и бесполезно, и даже вредно – последнее потому, что, посещая теорию, нельзя было изучать гармонию. Теперь поняла? Ну, а оказалось, что дело поставлено иначе. Именно. Теорию я слушать стану, но идти вперед буду сам и посему окончу ее, когда мне вздумается и когда успею. Но гармонию посещать могу и теперь, ибо пока-то изучение ее ограничивается повторением задов, то есть той же теории. Итак, de officio – я ученик по классу теории, de facto – по классу гармонии.
А господин Орлов, со своей манерой управлять хором, продолжает интересовать меня. Прежде я не ставил его как регента ни в грош и пение нашего хора считал безобразным. Но чем более я всматриваюсь в дело, чем более вдумываюсь в него, тем более и более постановка хора мне нравится. Например, поем мы не блестяще. Вдумайся в этот отзыв, Лина. Критик сетует, что в храме отсутствует «блестящее» пение. А знаешь, что такое это «блестящее» пение? Каким его представляет себе критик? Конечно, это пение абсолютно стройное, такое, которое так и ласкает ухо, такое, когда слушатель превращается весь в слух и зрение, когда он забывает, что он не в концерте, когда он готов аплодировать в приливе восторга... Не так ли? Но... К сему ли должно стремиться наше русское, православное пение? А? У хора нет картинности в размещении на клиросе, у регента – красивых манер... Но разве церковь – панорама? <...>
Москва, 11 сентября 1894
С чего начать? О чем прежде написать, о чем после? Мыслей так много, что не знаешь, которую высказать первой, которую второй. Ну, сперва относительно своего душевного настроения. Теперь я стал уже совсем спокоен, дружок! Не только не тоскую, но... ну, ей-Богу, не знаю, что сказать этим «но». Одним словом, с Москвой я свыкся совершенно. Теперь я духом бодр и телом здоров, только трудись – не ленись!
Третьего дня вывесили беловое расписание уроков370. Предметов, которые я должен изучать, – семь: элементарная теория, сольфеджио, элементарная гармония, гармония, церковное пение, чтение партитуры и история церковного пения в России. Посещать лекции требуется только по элементарной гармонии, сольфеджио и гармонии. Элементарную теорию прохожу сам, ибо с мальчатами идти и скучно, и чересчур медленно, и все что угодно. Церковное пение – предмет, состоящий в изучении наизусть напевов гласов, что возможно сделать и не посещая классов, как сказал преподаватель Орлов. Историю церковного пения можно слушать, а можно и нет, ибо она собственно проходится в VIII классе; следовательно, еще я успею изучить ее. Элементарную гармонию скоро кончу (проходим ее с профессором), так как объем ее весьма маленький. Уроки по гармонии посещаю, ибо они весьма занятны. Профессор Кругликов – это московский светило по части преподавания музыкальных предметов. Тружусь ежеминутно, за исключением тех часов, кои идут на обед. Встаю в 6 часов и занимаюсь теорией (спешу ее окончить) до 8 часов. Иду на сольфеджио (пою на уроке с названием каждой ноты ее именем), с 10 до 12 спевки. В 3 прихожу с обеда. Иду на послеобеденные уроки. Возвратившись, пью чай – на окошке из жестяного чайника с сахаром с пеклеванной сайкой (белого не употребляю: он мне, ты говорила, вреден) и затем сажусь заниматься до 9–10 часов. Пью «арсеник» в 10 часов и ложусь спать371.
Вот так распределяется учебный день. Похвалюсь: мои занятливость и усердие вдохновили моего сожителя, который, желая оставить училище, подал прошение в учителя пения, теперь боится, как бы не уважили его просьбы, и прямо признается, что мое усердие произвело в нем такую перемену.
Последнее твое письмо о бедственном положении моих родителей произвело на меня такое действие, что я, который прежде из экономии отказывал себе в удовольствиях, теперь чувствую непреодолимое желание отказать себе во всем, кроме обеда и чая. Готов, готов, ибо я люблю своих родителей страшно372.
Теперь хор начал готовиться к концерту, который предположен быть перед Рождеством. Линушка! Я прежде писал тебе, что пение не высоко поставлено в этой капелле. Правда отчасти, если иметь в виду простое пение в простой службе, да и то если требовать блестящего пения. Но если вслушаться как следует, то хор поражает особенным, своеобразным, но безукоризненным строем. Слышатся не дисканта, альты, басы и теноры (как мы привыкли у Касторского)373, а орган, где масса звуков, но они слились во что-то необыкновенно гармоничное, приятное, что затрудняешься назвать. Словом, с недавнего времени я стал восторгаться пением нашего хора. Но это действительно первоклассная капелла в исполнении партесных композиций. Исполнение их художественное, строгое и, так сказать, величественное... Короче, с тех пор, как я успокоился, все в школе оказалось гораздо лучше, чем я думал прежде. Учиться можно и в классе, и в хоре, и дома, – чего еще надо? Не это ли я искал?
Уроки на фортепиано буду брать у субрегента Кастальского – восемь уроков по 30 минут за 2 рубля. Но еще не начинал, ибо теперь пока нет времени. Вот освобожусь от теории и элементарной гармонии, тогда и примусь. В конце месяца собираюсь поговорить со Смоленским о жалованье, ссылаясь на финансовое положение отца. Папа (по моему плану) пришлет мне письмо, где будет сказано, что он содержать меня не в силах и посему я должен искать средств сам. «Степан Васильевич! Я прошу вас войти в мое положение» и прочее.
Ты мне советуешь быть экономней. Хорошо, я сумею выполнить это. Ну, а ты – копишь деньги на поездку в Москву среди осени? Осенняя шинель ведь дорогая, я думаю? Лина! О, поверь мне, что я теперь начинаю понимать цену денег и не одобряю трат на наряды. Будь же благоразумна! Каждый рубль храни!.. <...>
Москва, 13 сентября 1894
Друг мой, я положительно нахожу неладным делом сообщать тебе о том, как я хорошо себя чувствую и как хорошо идет мое ученье. Неладно потому, что Бог знает в какие минуты придется читать мое письмо, исполненное радости от настоящего и светлых надежд на будущее..., Впрочем, порадую мою любушку!!!
Лина! Линушка моя! Неужели правда, что в Синодальном училище я нашел именно то, что искал всегда?! Я не хочу этому верить: мечты ведь никогда не осуществляются, а тут... Боже! С каким жаром я отдаюсь своему делу! Как оно интересует меня! Я занят ежеминутно, ибо всегда нахожу что-то стоящее внимания, труда и размышления. Сегодня был в первый раз на уроке сольфеджио в V классе. Писали то, что профессор играл на фортепиано. И что же? Я, оказалось, подал свою тетрадь в первой паре и.… без ошибки! А как приятно от сознания, что ты трудишься. <...>
Москва, 17 сентября 1894
<...> Линушка! Как мне Бога благодарить – я не знаю. За что, Господи?! Представь: я стал почему-то так вести себя, что у меня ни одна минута не пропадает. Я или за делом: пою, играю, учу, записываю, размышляю, – или беседую с кем-либо из певцов (Крылов, Засядко, Веков), но беседу веду не бесполезную, но или о музыке, или же интересную в жизненном отношении. И так стал «деловит», что прямо мучаюсь, страдаю, если теряю бесполезно несколько минут. Словом, я стал весь – дело. (Боюсь только впасть в крайность: разучиться требовать развлечений. Сие отчасти уже замечается.) Так вот: как поблагодарить за все это Господа Бога, я не знаю!!!
С 10 сентября начал учиться на скрипке по школам, принятым в Синодальном училище. Представил, что скрипка – инструмент совершенно мне неизвестный, и начал с азов. Сижу на гаммах. Занимаюсь аккуратно с 11 до 12 часов дня. А с фортепиано не знаю, как сделаюсь: все не соберемся (мы, «ядро», то есть семинаристы) никак потолковать по этому предмету. Ну, да это не упоздало. Во время одной из бесед с неким Анпиловым, бывшим певцом Славянского, заговорили по поводу моего безголосия. Анпилов по этому поводу рассказал мне, что он знал одного хориста в Санкт-Петербурге, который имел голос весьма хороший. Оказывается, этот голос ему поставил какой-то профессор. Мне пришла в голову мысль тоже обратиться к профессору. В нашем училище ставит голоса артист Императорской оперы – Тютюнник. Как- нибудь увижу его и попрошу принять меня в число своих учеников (на дому). Если выгодно возьмется – пойду. Плата поурочная, как рассказывают, от 1 до 2 рублей. Материал, нужный для начала, это несколько натуральных тонов в голосе. У меня нот 5–6 баритонального тенора несомненно найдутся, а сего вполне достаточно, чтобы выработать в 10 уроков двухчасовых средний голос. Иметь голос считаю необходимым, ибо он нужен и в будущем, нужен и в настоящем как источник доходный. Но главное, конечно, это его значение в том музыкальном образовании, которое получаю я. Опыт показал мне, что регент без голоса – плохой регент. Это ты сама поймешь, если подумаешь. Итак, как только увижу господина Тютюнника – тотчас переговорю. В прошлом письме ты очень пространно говорила о пении Синодального хора: ты обращала внимание на некоторое мое недомыслие. Оказалось, ты просто не так поняла меня. Я говорил об отсутствии в хоре стремления поражать красивыми, эффектными переходами от одного оттенка к другому. Это пение художественное, но строго согласное с пометами об оттенках самого композитора, так что хор только воспроизводит известную композицию, но сам не создает эффектов, где сих не требует сам автор. Понимаешь? Поют стройно, величаво и художественно, но того, из чего можно бы было видеть желание блеснуть, – этого не замечаю. Вот в таком смысле я и говорил в прошлый раз об отсутствии блестящего пения. <...>
А propos. Семейные синодальные певцы, получающие 40 рублей в месяц жалованья, говорят, что этих денег, даже при готовой квартире, еле-еле хватает на двоих без прислуги. Я разузнавал цены на квартиры в две-три комнаты в меблированных и в частных домах: приблизительно около 18 рублей за две-три комнаты 4– 40, итого 60 рублей обязательно. Это прими к сведению.
Москва, 23 сентября 1894
Линушка! Сегодня я писал отцу о том, как хорошо идут мои дела и моя жизнь в Москве. И тебе стану писать о том же. Дружка моя! Лапушка! Ведь я сообщал уже тебе, что мне не хочется верить, будто в Синодальной школе я нашел именно то, что искал, к чему стремилась моя душа. Да, моя родная! Слава и благодарение Создателю, что мои мечты не были утопией, что им вполне соответствует действительность. Чего я искал? Музыкального образования? Изволь! Вот: теория, гармония, сольфеджио и прочее. Учи – и станешь музыкантом. Развития вкуса и понимания музыки? Изволь и это. Вслушайся в исполнение Синодальным хором серьезных композиций – и здесь ты научишься постигать все прелести музыки. А вот зимой имеют быть исторические концерты, духовные и светские; они будут даваться в зале училища374. Иди, слушай и поучайся!.. Искал я древнее церковное пение. Изволь и это. Насколько оно разработано в настоящее время, это ты можешь видеть из тех пьес, которые Синодальный хор так часто распевает. Слушай и дивись той прелести, какую русский народ мог вложить в свои религиозные мотивы. Но вот и лекции господина директора по истории русского церковного пения. Лови каждое его слово (он глубокий знаток древнего пения!), с жаром примись за изучение крюков, знамен и т. п. И вот к твоим услугам громадный материал еще не разработанных доселе, но глубоких, в высшей степени ценных, древнецерковных напевов...
Лина! О, если бы ты знала, как я счастлив, что попал не куда-нибудь, а именно в Синодальное училище! Я вижу и глубоко убежден, что здесь можно осуществить все то, о чем мы с тобой иногда говаривали как о чем-то высоком и недосягаемом наполовину. И я тружусь. Буквально каждая минута у меня занята. То я играю, то учу, то размышляю, то присутствую в классе или на спевке. Встанешь в 6 часов, скорей за дело, и работаешь целый день до 10 часов. Устанет голова, сходишь погулять или к кому-либо из певцов (Засядко, Веков, Орловский), а там опять за дело. Голова работает, усиливается, устает, а сердце жаждет труда и знаний, и воля, подкрепляемая мыслью о Лине, окрыляет мой дух, и я весь погружаюсь в занятия. Недаром составилась обо мне репутация среди певцов, что «это – занятливый человек, не то, что мы». «Это – красная девица. Не курит, не пьет и целомудрен, как Иосиф». Так говорят одни. «Это идеалист какой-то. Как все-таки завидна судьба таких людей: они счастливы, ибо способны отдаваться делу всецело. Таков и Никольский». Такие речи других. Мальчата сперва относились ко мне враждебно, ибо я не позволял им шутить и возиться со мной. А теперь весьма многие из них стали моими почтительными друзьями. Одного из них я лечу своим «аконитом» от зубной боли. При этом я экономен, как и во всем: даю ему одну каплю на ватку.
Поздравь, дружок, меня: с 22-го я более не баритон, а второй тенор. Орлов (регент) нашел в моем голосе именно теноровые ноты. Отлично! Попою немного, да и жалованья попрошу. <...>
Москва, 25 сентября 1894
По приходе от обедни.
Боже мой! Как Синодальный хор умеет петь! Божественно! Сегодня solo в «Тебе поем» так исполнили, что у меня волосы дыбом стали. Как хорошо, как хорошо!
Был вчера у всенощной в храме Христа Спасителя, где поют чудовские певчие. Ну, где им тягаться с синодальными! Ни вкуса, ни изящества, и голоса надорваны частыми концертами на свадьбах... Словом, насколько было велико мое разочарование вначале, настолько велик восторг и чувство удовлетворенности всем училищем в настоящую пору. <...>
Москва, 12 октября 1894
<...> Ты пишешь, что считаешь меня нездоровым и умоляешь всячески беречься от простуды. Спасибо, милушка! Добрый это совет и посему никогда не лишний. Но и без того все это время был совершенно здоров. Даже вот что. Девятого октября бывает в Москве крестный ход вокруг Кремлевских стен, длящийся два часа. Нынешний раз этот день был ужасно холодный, и мы – певцы – должны были в одних парадах, надеванных на пиджаки, но не пальто, с открытыми головами идти, все время деря глотку. Скажу откровенно: я дюже прозяб и боялся слечь в постель. Припомнил твою просьбу – не пить вино даже с холоду – и крепился. Но хворь давала себя чувствовать в виде головной боли и озноба, – не выдержал я: выпил три рюмки хорошей водки, сытно покушал и, пришедши домой, завалился спать, тепло покрывшись. Прошло благополучно. Следовательно: нарушая одну просьбу, я исполнил другую, и вышло прекрасно! <...>
Сходил вечерком на Красную площадь, которая при электрическом освещении красива в высшей степени. Ряды в огне, а дальше мрак: темные стены, башни, головки кремлевских церквей. Что-то необыкновенное в этой картине. Я в восторге от нее. Сходил ко всенощной в храм Христа Спасителя и послушал чудовских певцов, наших конкурентов. Чудовский хор больше Синодального: 120:80. Но то – купеческий хор, а наш – капелла. А это – разница. <...>
Москва, 19 октября 1894
Милушка! Сегодня я пел в Успенском соборе с отделением Синодального хора в 20 человек. Это, конечно, крупное событие, и посему я немедленно спешу известить тебя. Вчера на спевке регент объявил мне, что завтра я должен дирижировать отделением обедню. Я молча поклонился. Он спросил, какие пьесы я желаю петь. На мой отказ выбирать пьесы он отвечал: «Помилуйте! Раз вы регент, вы и пьесы назначаете. А мое дело подписать свое имя». (У нас имеются особые бланки, на которых делается помета: где и когда служба, сколько человек поет и кто дирижирует.) Тогда я назначил свои излюбленные номера. Он в знак согласия кивнул головой...
Пришли в собор. Певцы дают мне советы относительно управления, просят не волноваться, обещают поддержку со своей стороны – словом, показывают и свое сочувствие мне, и свое недоверие к моему умению справляться с делом. Я улыбался, слушая их.
Начало обедни. Я встал на место, окинул всех взглядом, спокойно дал несколько замечаний, дал тон... Меня самого удивило мое спокойствие. Я с первого же момента почувствовал себя в своей сфере и принялся за дело с той уверенностью, с какой бывало дирижировал в Пензе. Первый успех зажег во мне особый артистический огонек, что сказалось на моем управлении партесными пьесами. Херувимская, «Тебе поем» и прочее были исполнены хорошо. Главное, что я сразу подчинил себе хор и сосредоточил его внимание на себе. Будучи регентом по природе, я забыл в эти минуты, что поющие не суть мои певцы; однако я держал себя «яко власть имый». По окончании обедни певцы все единогласно признали мое управление хорошим и как бы вдохновенным. Октавист пожал мне руку, рассыпаясь в похвалах. Не знаю, что скажет субрегент, который стоял и слушал всю обедню... Так вот идут мои дела! Все это как нельзя более приятно.
Только одна беда: есть у нас всех одно общее горе, за которым наши удачи едва ли могут утешать. Я говорю о болезни государя375. Меня страшно крушит она и решительно отбила всякую охоту к делу и внимание. Ты и сама, дружок, видишь, что я в сообщении о своем успехе несколько сух, как бы равнодушен. Да, я не особо рад этому успеху, ибо печаль по государю у меня страшно сильна. А ты?
В своем письме ты спрашиваешь меня о том, ставлю ли я свой голос и занимаюсь ли фортепиано. Нет и нет! Собирался я ставить голос под руководством какого-нибудь профессора сольного пения, но по наведенным справкам оказалось, что это для меня пока невозможно. Профессора берут minimum 2 рубля за урок. Чтобы поставить голос, требуется времени по крайней мере год, то есть 2 рубля х 100 = 200 рублей. Пришлось оставить свое намерение. Тогда один из наших певцов посоветовал мне приобрести книжку Джиральдони376 и при помощи ее упражняться самому, уверяя, что голос может значительно улучшиться. Я следую этому совету, и точно – мой голос (тенор) стал таким, что я теперь уже форменный певчий, а не безголосый. Если это можно назвать постановкой, то стало быть на твой вопрос я должен дать ответ утвердительный. Фортепиано держим трое (по 2 рубля в месяц с носа) и занимаемся в определенные часы. Но регулярных уроков не беру. Имею в виду одного ученика нашего училища, которого попрошу давать мне уроки, но в исполнение еще не привел. Занимаюсь скрипкой и делаю заметные успехи. <...>
Москва, 26 августа 1895
<...> Мысль о консерватории за последнее время получила у меня новый вид. Недавно я узнал, что «Синодалка» не дает никакого диплома. Это в практическом отношении крайне неудобное обстоятельство. Поэтому мое решение докончить «Синодалку» я оставляю. Прошедши в настоящем (95–96 году) основательно гармонию, я на будущий год перейду в консерваторию по классу композиции. Потребуется пробыть там три года. Относительно взносов можно надеяться на такой исход: хорошо сдать вступительный экзамен и за сие получить стипендию, которая состоит в льготе от платы (200 рублей, а не 100 и не 150). Ввиду этого плана мне придется всецело заняться гармонией и фортепиано. Изучить первую – я рассчитываю, а игра на инструменте не строго требуется, и годовых занятий будет достаточно. Все это я сообщаю тебе на тот конец, чтобы ты знала о моем плане – это во- первых, и чтобы ты об этом высказала свое мнение – это во-вторых. «Денег нет», – скажешь ты. А Вифания-то? А Строгановское-то?377 Да вообще-то, Бог не выдаст, свинья не съест. Хуже того, как в «Синодалке», мне не будет. А этого и довольно. Одно то, что консерватория даст мне высшее образование, на почве которого кричать-то о реформе церковного пения будет уже посмелей, да и понадежней в смысле результатов. Да и в практическом отношении диплом свободного художника едва ли не больше стоит, чем протекция Степана. Разве я расплююсь с ним, уходя в консерваторию? Никогда! Следовательно... Вообще, попавши в Москву, я почувствовал снова такой подъем духа, такую жажду к знаниям, о какой в Телегине не было и помину. <...>
Москва, 16 августа 1897
Дорогие мои! Линушка и Наталка! Не писал я вам доселе оттого, что хотел сообщить все, когда это «все» совершенно определится. Но это не удалось, во-первых, потому, что время, благодаря Успеньеву дню, все и у всех занято, ничего путного ни от кого добиться нельзя, во-вторых, что те недоразумения, напор которых мне пришлось выдержать, по самому существу своему не могут быть быстро улажены. Сначала о ребятах. Экзамен им был тотчас по приезде, то есть тринадцатого числа в 4 дня. По научным у Ени – в общем 3, но голос при этом удовлетворителен378. Мои ссылки на их усталость (ночь без сна) и на свойство теряться до степени идиотизма, как на нечто оправдывающее их неуспех, несколько поправили дело. Степан Васильевич сегодня (16-го) вторично экзаменовал их, но снова неудачно, хотя и менее первого раза. Еще Василий Сергеевич будет испытывать вновь принятых (19-го – 20-го) в течение трех дней, и это решит судьбу наших ребят. Из разговора моего со Степаном Васильевичем можно видеть, что под условием платежа каждым шести с половиной рублей в месяц оба, быть может, будут приняты. Теперь мне крайне необходимо заручиться согласием Ф. Дм. и диакона на эти предложения Степана Васильевича. Судя по всему, бесплатно их н е примут, а с платой может быть примут. Итак, сообщи им и мне телеграфируй (согласны, действуй и тому подобное). Без этого у меня руки связаны.
Теперь о себе. Василий Сергеевич положительно озлобился на меня, не прочь даже исключить из хора, хотя все это только в воздухе носится, а прямо не говорится. Впрочем, в обхождении он не резок, а только сухо-деликатен, как и Степан Васильевич. Я больше склонен думать, что все обойдется, тем более, что я способен раздувать из мухи слона, а прямого (повторяю) ничего не знаю. Остаться в хоре и на квартире в настоящее время тем более занятно, что в будущем годе Синодальный хор имеет быть поставлен как раз так, как я когда-то внушал Василию Сергеевичу. Это внушение, по признанию В. С., на меня первого и обрушилось, ибо отныне никаких привилегий и никому не будет допущено. В. С. взялся за дело так, как никогда, и все перекраивает по тому идеалу, который я ему внушил. Это не самохвальство; ты понимаешь, что В. С. под влиянием наших разговоров очувствовался, отвоевал себе независимое от Степана и Ширинского положение и орудует. Моя идея усвоена им в совершенстве; и он даже чужд лицеприятия, ибо новое веяние первее всего коснулось меня – творца этой идеи. Это бесконечно меня радует – дело прежде всего379. <...>
Комментарии
Выбранные для издания письма А. В. Никольского к его невесте (с 1895 года жене) Капитолине Ивановне Балашевой являются частью их обширной переписки, хранящейся в семейном архиве Никольских. Письма адресованы в Пензу и в село Телегино Пензенской губернии. Родившаяся в 1872 году Капитолина Ивановна восьми лет от роду была взята на воспитание в Телегино своей крестной матерью и, возможно, сестрой ее дедушки помещицей Н. Д. Кологривовой. (По семейному преданию, мать Капитолины Ивановны М. И. Балашева была незаконнорожденной дочерью брата помещицы и крепостной крестьянки. Она проживала в Пензе, где у нее был дом, полученный как приданое от Кологривовых.)
После смерти Н. Д. Кологривовой в 1906 году семья Никольских каждое лето проводила в Телегино в доставшемся ей по наследству поместье. Осенью 1915 года Капитолина Ивановна, прежде всецело посвящавшая себя семье, ушла «в актрисы» с артистическим псевдонимом Строганова. В 1920 году, находясь на гастролях в Бежецке, она заболела сыпным тифом и умерла.
Музыкальные заметки 1894 год
<...> Пение нашего хора плохо – нестройно, нехудожественно. Начинают врозь – одни прежде, другие позже; раздельности между партиями не существует, так что слышится масса звуков вместо четырех, образующих стройную гармонию. Слов не разберешь. Поют спешно, отрывисто, особенно концы пьес прямо обрубают. Хор даже низит. Одним словом, пение нестройное, небрежное, грубое и прямо-таки плохое во всех отношениях. Попытаюсь указать причины этих недостатков.
Относительно начал пьес должен сказать, что это происходит от невнимательности певцов. Виноват в ней сам регент. Он, прежде чем начать петь, не сосредотачивает внимание певцов, а прямо взявши основную ноту вступительного аккорда взмахивает рукой. И вот одни – кто глядел пред сим на регента – запели, а другие только спохватились и поспешили присоединиться, но от поспешности и ноту взяли неточно, фальшиво. Отсюда происходит из только то, что начинает хор противу самых элементарных правил хоровой дисциплины, но еще и отсутствие строя. Итак, невнимание певцов дает столь плачевные результаты.
Знаменные роспевы хор поет ровным голосом, без всяких оттенков, каковы, например, f,p, crescendo, diminuendo, etc. Такое исполнение, кажется, наиболее соответствует характеру указанных церковных мелодий. Это должно принять к сведению. <...>
В Успенском соборе при служении замечается какая-то простота, отсутствие той картинности, какая отличает служение пензенского собора. Возьмем протодиакона. Без особого важничанья стал на амвон и самым естественным, натуральным (без рисовки и натуги) басом начал ектению. Возглас «Премудрость» пред чтением Апостола сделал тоном низким, и это отсутствие рева, крика весьма мне понравилось. А наш Никольский?380
«Верую» пели pianissimo в тоне fa тенор, do дискант, la альт и fa бас. Очень выразительно после громогласно пропетой ектении «Тебе поем» (из Обихода Бахметева) начато было весьма тихо и пето в скором темпе. Но когда дошли до слов «и молимтися», то хор усилил звук и затянул фразу «Боже наш». Исполнили таким образом:
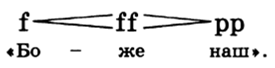
Слово «наш» ff и diminuendo в рр. Выразительно! <...>
Весьма важно обдумать, с какой целью г. Орлов заставляет петь всегда вполголоса. Очевидно, этим он достигает даже не одну цель, а несколько.
1)При тихом пении не утомляется ни грудь, ни горло, а это сохраняет голос. Таким образом, тихо петь – значит беречь голос. Действительно, мой личный опыт подтверждает это. Я обычно на спевках при разучивании пьесы требовал голоса полного и пения громкого. И что же? Результатом сего было всегда скорое утомление певцов: больше часа спевку длить было нельзя. Если такая спевка была пред службой, то конец последней хор был еле в силах тянуть. Так, утомление певцов – это первое печальное следствие громкого пения на спевках.
2) Весьма понятно, что за утомлением следует и порча самого голоса. Особенно это бывает, когда несмотря на крайнюю усталость певца ему приходится (этого требует регент) петь громко, с усилием. Ой, как гибельно действует это на голос! Итак, тихим пением устраняется возможность утомления певцов и тем самым в значительной степени поддерживается, сберегается его голос. Таковы результаты по отношению к певцу. Они столь ценны, что не практиковать указанного приема регенту непростительно.
3) Наконец, тихое пение сообщает хору стройность. При тихом пении каждому хористу слышнее остальные партии, и он невольно старается гармонировать с ними. Тогда как поя громко, певец собственным голосом заглушает для себя остальные голоса, и чрез сие его слух становится не так-то тонок и чувствителен к дисгармонии. (Эти положения каждый может проверить на себе, на личном опыте.)
Таким образом, тихое пение есть весьма полезный прием и по отношению ко всему хору, делая его более стройным, приятным и, следовательно, совершенным. Но... крайности всегда бывают с известной стороны вредны – это аксиома. Так и в данном случае.
Синодальный хор поет некоторые вещи стройно, а некоторые – нет. И какие именно стройно, а какие – нестройно? Места, которые должно исполнить р или рр или отчасти тр и mf, – выходят стройно. A f и ff – крайне скверно. Отчего это? Единственно оттого, что чаще всего и даже почти всегда он поет р и рр; места, где стоят f и ff, поются (на спевках) опять-таки тихо. Итак, вот живое доказательство того, что исключительное практикование тихого пения делает хор стройным только в местах р и рр, но совершенно лишает этот хор гармоничности, когда требуется петь f и ff.
Тихое пение не может действовать на голос певца развивающим образом. А это – важный пробел в хоре. Как известно, голос развивается в упражнениях и р, и f, и рр, и прочих, и только при постоянных сменах этих оттенков. И действительно, замечается ли в голосах Синодального хора сила? Нет. Слушая этот хор, так и хочется каким-нибудь способом усилить его, сделать более мощным. <...>
С 7 сентября ведутся спевки к Историческому духовному концерту. Разучиваем концерт Дегтярева «Терпя потерпех». Музыка своеобразная: преобладает мелодия весьма игривая, с руладами в виде тридцатьвторых и шестнадцатых. Находится в дисканте; остальные голоса по большей части только аккомпанируют таким образом: тянут целую ноту, образуя благозвучный аккорд, а дискант в это время заливается соловьем, выделывая и трели, и 32-ые, и 16-ые. Получается что-то крайне оригинальное, не слышанное доселе мной в духовно-музыкальной литературе. Вместе с оригинальностью музыка, особенно в дискантовой партии, трудная...
Разучивание состоит в чтении сольфеджио одновременно всеми голосами их партий. Таким путем ноты заучены безукоризненно. Далее можно приступать к отделке. Внимание певцов, уже постигших пьесу, не рассеивается, а, напротив, всецело сосредоточивается на требовании регента. Потребует ли он большего строя – певец, поющий почти наизусть, насторожит свое ухо, – ив результате стройное пение. Потребует ли регент пения тихого, или громкого, или crescendo, или diminuendo – певцы свободно сделают это и без труда запомнят, как должно исполнить, ибо их внимание было обращено только на исполнение требования, а ноты им уже знакомы совершенно.
Итак, требовать исполнения различных оттенков в пьесе можно только, или по крайней мере удобнее всего и полезнее всего тогда, когда ноты заучены твердо.
Отличительную черту Синодального хора составляет отсутствие стремления к блеску и картинности. Не заботятся о декоративном расположении на клиросах ни певцы, ни регенты. Первые становятся как придется; вторые – в ряду певцов. На первый взгляд кажется это признаком дурной постановки дела, признаком халатного отношения к нему. Но на самом-то деле во всем этом скрыта хорошая мысль. К чему блеск, декоративность? Разве церковь место зрелищ? Не должно ли быть в ней все скромно, смиренно и просто, чуждо мирского блеска? Конечно, да! А если так, то можно ли хору ставить в вину то, что он стремится осуществить это требование православно-церковного богослужения? <...>
1895 год
20 марта имеет быть третий (и последний) Исторический духовный концерт Синодального хора. В программу этого концерта вошли между прочим переложения древних знаменных напевов, сделанных Турчаниновым, Потуловым, Вейхенталем и Чайковским. В настоящее время, когда многие лучшие музыкальные силы трудятся над изучением, разработкой и переложением древних мелодий православного церковного пения, кажется, занимается заря новой, подлинно русской церковной музыки, наиболее отвечающей своей цели и назначению. Всякий знает, как резко отличается по своему стилю музыка этого последнего рода от оригинальных произведений итальянствующих композиторов. Вместо разнообразнейших мелодий и сложной гармонии, что составляет содержание и вместе богатство оригинальной духовно-музыкальной литературы, в переложениях древних напевов усматривается донельзя незамысловатая, несколько даже однообразная мелодия и почти не выходящая за пределы трезвучия гармония. Если прибавить к этому протяжность мелодии, совершенное отсутствие быстрых пассажей, господство одного и того же лада, на котором зиждется напев, постоянное возвращение к одним и тем же гармоническим сочетаниям, то, кажется, невольно является предубеждение против этой «дьячковской» музыки. И должно сознаться, что такое отношение к древнему пению царит в нашем обществе, что доказывается тем явным предпочтением, какое делается и исполнителями и публикой. Но указанные свойства древних напевов и их переложений однако отнюдь не мешают им быть красивыми, вполне достойными искусства и художественными как по мелодии, так и вообще по своему стилю. Правда, эта красота своеобразная, непривычная нашему слуху, не скоро постигаемая, но она несомненно есть. Синодальный хор взял на себя ответственную, но и высокую задачу обратить внимание и симпатии общества на эти первые опыты возрождающейся музыки, будущность которой в достаточной степени зависит от сочувствия или несочувствия общественности. Мы со своей стороны искренне желали бы, чтобы устроители и участники третьего Исторического концерта дали публике возможность слышать эту музыку в таком исполнении, которое рассеяло бы предубеждение против якобы «дьячковского» церковного древнего пения. Ведь это предубеждение живет в нашем обществе едва ли не благодаря небрежности, с какой относятся к своему делу исполняющие Турчанинова, Потулова и других церковные хоры. <...>
При хоровом исполнении партесных композиций должно непременно выделять один такт от другого, акцентируя первую ноту каждого такта. Необходимо, чтобы на каждый такт падала известная, определенная доля времени, то есть если первый такт был пет в течение четырех секунд, то и на второй должно употребить эту же долю времени. Произвольно же ускорять одни такты, удлинять другие – значит давать уху одни только аккорды, лишая его так называемых ритмических впечатлений, тогда как эти последние увеличивают сладость музыки. Синодальный хор именно так и поет партесные пиесы. Например, при пении «Тебе Бога хвалим» Бортнянского (фа-мажор) так и слышалось: раз, два, три, раз, два, три... Такое требование вытекает из значения тактовых делений в музыке. <...>
Комментарии
«Заметки» являются частью неопубликованной авторской рукописи, хранящейся в ГЦММК (ф. 294, № 379, л. 17–41 об.). Она включает в себя также конспекты лекций по истории церковного пения, теории музыки, сольфеджио и контрапункту, которые Никольский слушал в Синодальном училище в 1894– 1897 годах. Отражающие первые впечатления Никольского от пения Синодального хора за службами и спевками, заметки лежат у истоков написанного им в 1895–1896 годах пособия для регентов церковных хоров «Опыт методики хорового пения» (ГЦММК, ф. 294, № 381).

1. Здание Синодального училища на Большой Никитской. 1901
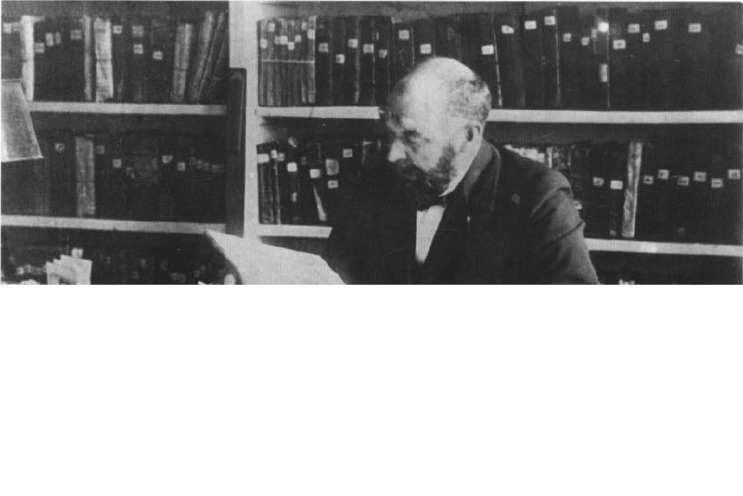
2. С. В. Смоленский в рукописной певческой библиотеке Синодального училища. Вторая половина 1890-х
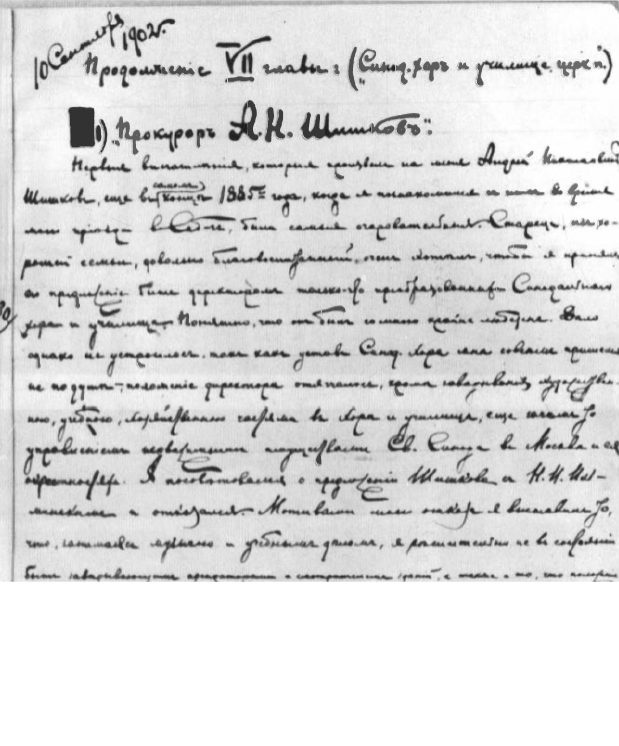
3. Страница из второго тома «Воспоминаний» С. В. Смоленского. Автограф
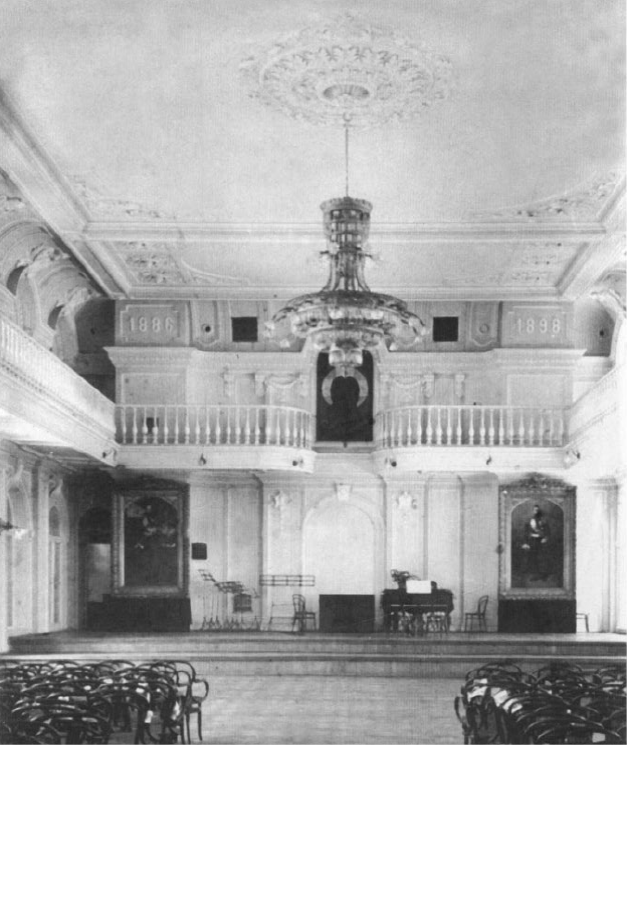
4. Концертный зам Синодального училища
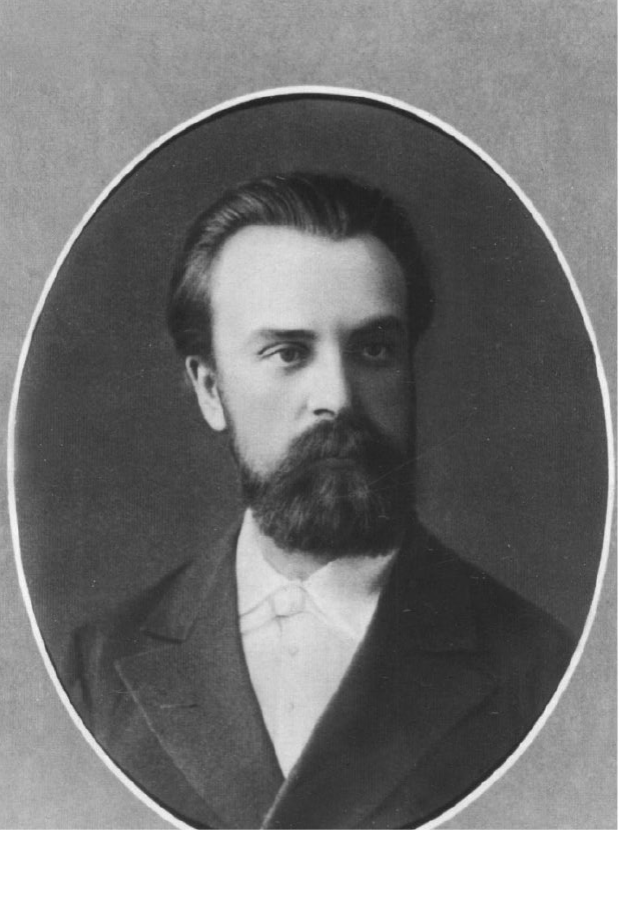
5. В. С. Орлов 1880-е

6. Большой Успенский собор. Внутренний вид. Фото И. Барщевского. 1889г
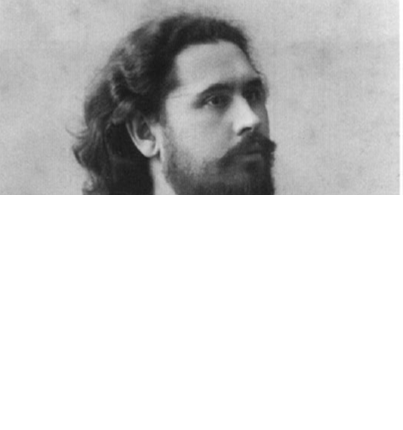
7. Протодиакон К. В. Розов. Фото М. Грибова. Вторая половина 1900-х

8. Священники и диаконы Большого Успенского собора. 1901 г.
Сидят: С. Голубев, Н. Пшеничников, В. Марков, В. Субботин, И. Воздвиженский
Стоят: С. Ермонский, В. Некрасов, А. Шеховцев, Н. Зайцев, С. Цветков, Г. Демокритов, К. Пискунов

9. Князь А. А. Ширинский-Шихматов. Фото Г. Трунова. Начало 1900-х
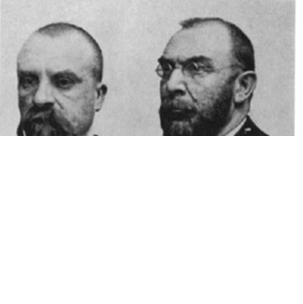
10. В. С. Орлов и С. В. Смоленский 1899 г
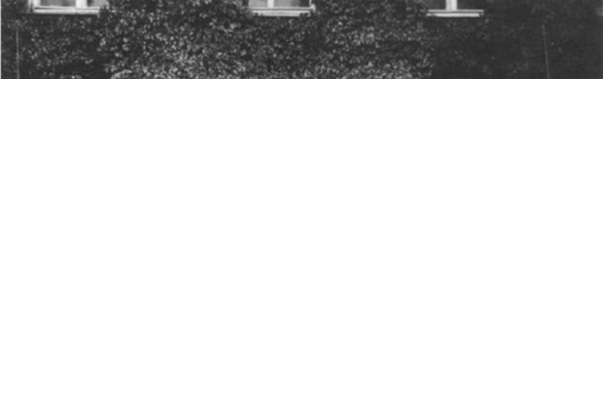
11. Синодальный хор. 1900. В центре: А. Кастальский, В. Орлов, С. Смоленский

12. Преподаватели Синодального училища. 1900 г.
1-й ряд: В. Войденов (1), А. Кастальский (2), С. Смоленский (6), К. Сараджев (8), А. Дубинин (9). 2-й ряд: П. Чесноков (4), А. Смирнов (5), С. Покровский (6), Н. Соколовский (7), И Серебреницкий (8), В. Калинников (9), В. Тютюнник (10). 3-й ряд: А. Ладутин (1), Г. Шаборкин (4), С. Комаров, Ю. Лазарев

13. Бывшие воспитанники Синодального училища с С. В. Смоленским во дворе училища. Июнь 1909 г.
1-й ряд: Д. Кузьмин и М. Маттисон. 2-й ряд: П. Толстяков (1), С. Смоленский (3), 3-й ряд: А. Гребнев (2), В. Царев (4), С. Марков, И. Кусков, Т. Парфенов, С. Кучин, П. Петров-Бояринов
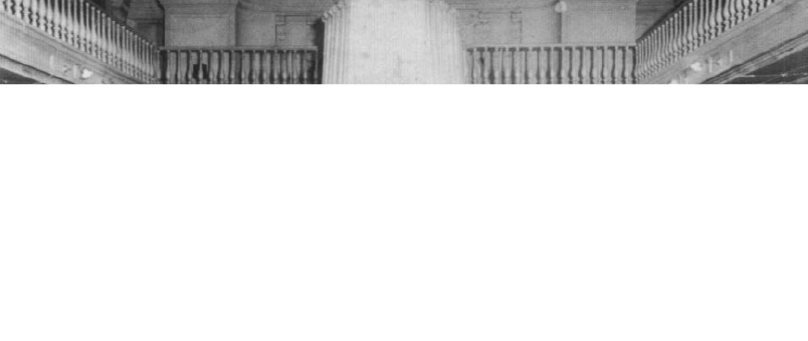
14. Исполнение «Пещного действа» А. Кастальского Синодальным хором в зале училища. Фото М. Грибова. Апрель 1909 г. Слева епископ Трифон (в кресле)

15. Похороны С. Н. Кругликова. 11 февраля 1910г. На переднем плане малолетние воспитанники Синодального училища
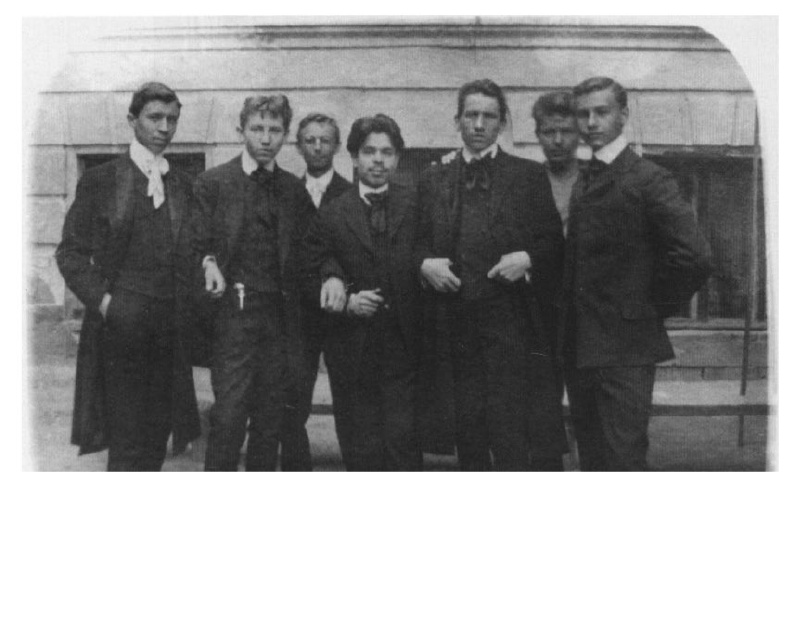
16. XVII выпуск Синодального училища.23 мая 1909 г. П. Ипполитов, Н. Голованов, Е. Емельянов, Г. Окороков, Г. Баулин, А. Дельфонцев, С. Гребенщиков

17. Исполнение воспитанниками Синодального училища «Женитьбы» Н. Гоголя на ученическом вечере 8 февраля1906 г.

18. А. Кастальский, Ф. Степанов и Н. Данилин в зале «Аугустео». Фото Э. Фонтана. Рим 1911 г

19. Синодальный хор на сцене римского зала «Аугустео». Фото Э. Фонтана. 2 мая 1911 г.

20. После исполнения кантаты А. Кастальского «Стих о церковном русском пении» на юбилейных торжествах по случаю 25-летия Синодального училища. 5 ноября 1911 г.

21. Синодальный хор у русского храма-памятника в Лейпциге. Октябрь 1913 г.
В центре: Ф. Степанов, И. Рождественский, Н. Голованов; справа: Н. Данилин (в шляпе)

22. XXIII выпуск Синодального училища. 1915 г.
1-й ряд: И. Смыслов, В. Лазарев, Н. Пузенкин, Н. Щеглов, А. Кондратьев, Г. Блохин, К. Филиппов. 2-й ряд: Н. Соколовский, В. Якимов, А. Кастальский, Ф. Степанов, К. Успенский, В. Кедров, И. Ющенко, Н. Голованов. 3-й ряд: Н. Ермонский, В. Степанов, Н. Толстяков, М. Померанцев, П. Власов, неустановленное лицо, Ю. Лазарев
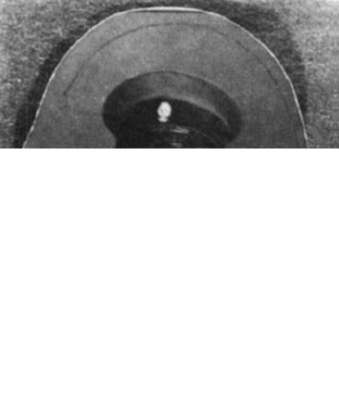
23. А. П. Смирнов в форме Синодального училища. Март 1918 г.
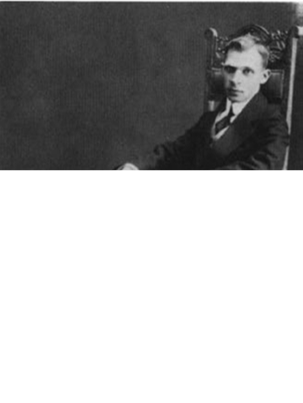
24. С. А. Шумский. Первая половина 1910-х

25. Последний XXVI выпуск Синодального училища. Март 1918 г. 1-й ряд: Д. Шведов и П. Попандопуло. 2-й ряд: Н. Сокольский, А. Дубинин, А. Кастальский, Д. Аллеманов, А. Петров, Н. Толстяков, В. Степанов. 3-й ряд: С. Васильев, П. Дорохов, Б. Обвивальнев, Е. Ромашков, Н. Данилин, А. Степанов, С. Макеев

26. Преподаватели Синодального училища. Октябрь 1917 г. 1-й ряд: Н. Кочетов, А. Никольский, Д. Аллеманов, Н. Данилин, Ф. Степанов, А. Кастальский, В. Кедров, В. Калинников. 2-й ряд: А. Петров, Д. Янович, Н. Сокольский, М. Померанцев, В. Якимов, Г. Шаборкин, Б. Пушкин, Д. Григорьев, Н. Толстяков, А. Дубинин, Н. Голованов, Л. Осберг, И. Харитонов. 3-й ряд: И. Красильников, Ю. Лазарев, В. Степанов, Н. Ермонский
Алексей Алексеевич Сергеев
Алексей Алексеевич Сергеев – педагог-музыкант, сотрудник различных учреждений управления культурой и искусством – родился 8 (20) апреля 1889 года в семье железнодорожника в селе Конобеево Бронницкого уезда Московской губернии. Его отец служил помощником начальника, позднее начальником станции Конобеево Московско-Казанской железной дороги. В десятилетнем возрасте мальчик был принят в первый класс Синодального училища, а завершил обучение в мае 1910 года (дважды он оставался на второй год из-за неуспеваемости – в пятом и в шестом классах). В 1900–1904 годах Сергеев пел в дискантовой партии Синодального хора при В. С. Орлове и его помощниках – Кастальском, П. Чеснокове и Данилине. Окончив училище по первому разряду со званием регента и учителя церковного пения, он получил назначение на место воспитателя и учителя пения и музыки в Алексеевскую прогимназию города Дорогобужа. Через год молодой учитель перебрался в Житомир, а еще через два года – в Балашов Саратовской губернии, где оставался до 1918 года преподавателем в гимназии и учительской семинарии. Еще в 1908 году при содействии одного московского букиниста Сергеев примкнул к партии эсеров и выполнял время от времени отдельные поручения. В 1923 году он участвовал как один из инициаторов в ликвидационном съезде партии эсеров, проходившем в Москве, исполняя обязанности секретаря съезда и редактора газеты «Единый фронт». До переезда в Москву в 1923 году Сергеев активно работал в Саратове как инструктор отдела искусств Губполитпросвета и агитотдела Доркомитета Рязанско-Уральской железной дороги, сотрудничал также в политотделе войск Юго-Западного фронта. В те же годы он заведовал музыкально-хоровым подотделом Саратовского губпролеткульта, руководил мастерской ритмики на высших театральных курсах, преподавал в местных консерватории и университете.
Первым шагом Сергеева в Москве стало сближение с группой революционных композиторов, сплотившихся вокруг агитотдела Музсектора Госиздата. Вместе с Д. Васильевым-Буглаем, Л. Шульгиным, Г. Лобачевым, М. Красевым и другими он основывает в 1923 году Российскую ассоциацию пролетарских музыкантов. Сергеев целиком отдает себя этому делу: руководит хоровым кружком, пишет хоровые песни («Красноармеец умирал», «Февраль», «К русской революции» и др.), состоит редактором отдела песен для деревни и для Красной Армии в Муз секторе Госиздата, становится ответственным секретарем журнала «Музыкальная новь» (1923–1924), работает в комиссии по выпуску первых тематических сборников песен («Новые гусельки», «Новый школьный сборник» и др.). В 1925 году из РАПМа выделилась группа с новой платформой – Объединение революционных композиторов и музыкальных деятелей, – куда вошли вместе с Сергеевым Васильев-Буглай, Шульгин, Красев, Поляновский, Демьянов, Корчмарев и др. В 1929 году, после роспуска этого объединения, Сергеев вновь вступил в РАПМ. В Москве Сергеев стал кандидатом, а с 1928 года членом ВКП(б). По велению сердца и по политическим убеждения он служил проводником большевистской идеологии в различных учреждениях культуры в качестве политредактора: сначала в Госиздате (уполномоченный Главлита в Музсекторе), затем в Главискусстве (1929–1931), далее во Всесоюзном радиокомитете (1931–1934) и, наконец, в Главреперткоме (1934–1939). В середине 1930-х годов Сергеев возвращается к педагогической и вообще творческой работе. Он преподает в Московской консерватории (ассистент кафедры истории музыки, 1934–1936), в музыкальной школе Ростокинского района (1938–1946), в Музыкальной школе-десятилетке при Институте имени Гнесиных (1949–1953). Наиболее значительной по результатам следует признать его работу в Оперно-драматической студии имени Станиславского в 1935–1948 годах, где Сергеев вначале преподавал теорию и историю музыки, затем вел класс камерного пения. Заслуживает также внимания работа Сергеева в группе лекторов Московской филармонии в 1942–1948 годах. Особо следует отметить тот факт, что Сергеев вошел в первый состав преподавателей Московского Хорового училища, открытого в 1944 году и организованного по образцу бывшего Синодального училища: здесь он вел сольфеджио и чтение хоровых партитур до 1948 года. Накопленные знания и опыт в сфере детского хорового пения приводят Сергеева в 1948 году в отдел музыкального искусства Института художественного воспитания Академии педагогических наук РСФСР. Занимаясь исследованием природы детского голоса, младший научный сотрудник Сергеев подготовил пособие «Воспитание детского голоса», опубликованное Институтом в 1950 году.
Алексей Алексеевич Сергеев готовился к защите диссертации, но болезнь перечеркнула эти планы: он скончался 30 октября 1953 года.
Как я стал музыкантом (главы из воспоминаний)
ПРОБА ГОЛОСА
<...> Вот как сейчас помню, как мы с матерью подошли к длинному трехэтажному дому рядом с консерваторией. Остановились около двери. Мать робко прошептала:
– Ну, Господи, благослови! Пойдем, сынок, – и решительно дернула ручку звонка.
За дверью показался высокий дядя. Был он одет в какое-то длинное пальто, с яркими серебряными пуговицами в два ряда, на голове у него фуражка с белым галуном.
– Вам кого? – спросил он.
– Нам директора, – ответила мать.
– Входите.
По трем ступенькам мы спустились в полуподвальную швейцарскую.
– Посидите! Я схожу к Степану Васильевичу! Может быть, он примет вас.
Он куда-то пошел по длинному коридору. Я и мать стоим в сводчатой комнате с кафельным полом, с большой изразцовой печью. И мать и я чего-то очень боимся. Тихо. Откуда-то издалека доносится музыка. Кто-то играет на рояле. Гулко и мягко стучат стенные часы. Я в Синодальном училище. Я и моя милая мамка. Стоим вдвоем и ждем...
– Пожалуйте к директору, – говорит дядя в ливрее.
Мы идем по длинному коридору. По бокам наполовину застекленные двери в какие-то комнаты. В конце коридора лестница ведет в верхние этажи. Мы подходим к комнате с двумя дверями. Первая дверь – железная, тяжелая – открыта. Во вторую дверь швейцар почтительно и осторожно стучит.
– Войдите, – глухо слышится за дверью.
Швейцар открывает дверь. Мать и за ней я входим в полуподвальную большую комнату, заставленную большими шкафами.
Книги, книги... маленькие, большие, в тяжелых кожаных переплетах; груды исписанной старой нотной бумаги, старинные рукописи.
За большим столом пишет большой лысый человек в круглых золотых очках. Мать тихонько кашляет. Человек перестает писать, быстро сдвигает очки на большой крутой лоб и внимательно смотрит на нас.
Это Степан Васильевич Смоленский, директор Синодального училища.
Мать передает записку вагонной дамы. Директор снова надвигает очки. Внимательно читает.
– А вы откуда знаете княгиню Куракину? – спрашивает он мать.
Мать рассказывает о том, как я пел в вагоне, как мое пение понравилось даме.
Директор встает. Он большой, широкий, громоздкий. На нем темный недлинный сюртук с полукруглыми полями. Он мне кажется суровым, строгим, большим. Я задираю кверху голову и боязливо, недоверчиво смотрю на этого человека. Он наклоняется ко мне, берет меня за плечо. Рука у него сильная, большая, на среднем пальце большой перстень.
– Ну, паренек, спой что-нибудь! Спой, что ты пел княгине, – говорит он.
– А я пел не ей, а за окно вагона, – робко говорю я.
– Ну, вот и спой это, что ты пел за окно.
– А я пел под то, как стучат колеса. А их сейчас нет.
– А что ты пел-то? – недоуменно спрашивает директор.
Я молчу, не знаю как объяснить ему, что я пел свою песню и что я ее забыл и пел-то я ее под стук колес поезда. Этот ритмический стук и создал мою песенку. Директор наклоняется ко мне, снова сдвигает очки на лоб, и вдруг я вижу на этом суровом лице милую добрую улыбку.
«Э, – думаю я, – да дядя-то добрый, хороший», – и мой страх перед директором навсегда проходит.
Я робко улыбаюсь ему в ответ и говорю:
– Я лучше с мамкой спою.
Мать конфузливо улыбается.
– Да я неученая, не знаю, что и спеть.
– Мам! Давай «Жавороночка», – говорю я.
Мать берет меня за руку. Так мы всегда с ней пели на свадьбах, на похоронах, на гулянках. Я внимательно смотрю на нее. Она оправляет на мне рубашку, гладит мою вихрастую голову. Это и ласка, и приказание петь хорошо. Лицо у мамки немного побледневшее, строгое и красивое.
Ох, ты воспой же,
Ты только воспой... –
поет мать.
Быстро, как молния, вспыхивают во мне воспоминания о наших конобеевских полях, о ранней весне и милой, родной пичужке. Мне хорошо и покойно. Я тихо вздыхаю и осторожно вплетаю свой голос в песню.
Ох, воспой, жавороночек,
Весной на проталинке.
Я своим маленьким детским сердцем прошу птичку, прошу ее спеть песню.
Знаю, что запоет родной жавороночек.
Дверь тихо отворяется. Кто-то входит. Директор предостерегающе машет рукой. Вошедший останавливается у двери и слушает. Мы с матерью медленно разгораемся, уже ничего не видим, мы поем, и песня уносит нас на своей ласковой волне.
Ой, ты воспой, воспой весной
Ох, на зеленой ты на травушке.
Вот и проталинку я вижу, а вот и жавороночек вылетел из зеленой травушки и порывисто, уступами взвился в небо и звенит оттуда радостной песней.
Ох, да подай мне голос
Ох, через темный лес.
Ох, через темный только лес
Ох, во каменну Москву.
Ох, во каменной только Москве
Ох, что бело...
Ох, что белокаменный острог.
Ох, чтоб выпустили они,
Ох, выпустили невольничка,
Ох, да невольничка.
Вот он белокаменный острог, вот в узкое решетчатое окно смотрит бедный невольничек. Может, это и мой отец, может, и красивый буйный мужик, бывший жених мамки по прозванию Царь, а может быть, это я – Лешка – слушаю из тюремного окна милого жавороночка.
Ох, что ж такова невольничка
Ох, милого маво
Ох, дружочка, ох, дружочка381.
Я тихо кончаю песню и последний звук осторожно и долго тяну вверху. Звенит этот ясный чистый звук и грустью, и жалобой, и благодарностью жавороночку...
Песня окончена... Директор стоит рядом со мной. Он растроган песней и крепко трясет и жмет руку моей матери. Кто-то властно поворачивает меня за голову. Я быстро повертываюсь.
Небольшого роста, плотный, с небольшой черной бородой и пышными усами человек внимательно оглядывал меня.
«Этот строгий», – решаю я, и что-то покорное, настороженное растет во мне в отношении к этому властному человеку.
– Занятный паренек, – говорит он.
Он подвигает матери кресло, и мать садится.
– Ну, как, Василий Сергеевич?
Василий Сергеевич Орлов, регент Синодального хора, жмет руку моей матери.
– Вы хорошо поете, мальчика мы в училище примем, обучим его, сделаем музыкантом. Голос у мальчика хороший.
Говорит он скупо, коротко, и я чувствую, что этот человек действительно меня научит, чувствую его силу, властность и его знания.
– Ну, вот и хорошо, – говорит директор. – Привозите мальчика 20 августа.
Он пишет, какие бумаги нужно представить в училище. Прощается с матерью, треплет мои волосы. Мы выходим в коридор.
В темном коридоре мать крепко меня обнимает и шепчет:
– Милый ты Ленюшка, ну и хорошо же ты пел.
Я глажу руку матери и понимаю, что не буду я машинистом, чувствую, что другая передо мною дорога и ведет эта дорога к милому моему искусству, к музыке.
«СИНОДАЛКА» (МОСКОВСКОЕ СИНОДАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ)
<...> На Успенье (15 августа) я, мать и отец идем в церковь. После обедни отец заказывает молебен об успеянии отрока Алексея. Маленький седой священник, отец Петр, что-то быстро говорит; дьячок подпевает, в церкви прохладно, пахнет ладаном, согретым воском.
Мать глядит на образ Божьей Матери и что-то шепчет. Ловлю отдельные слова ее молитвы:
– Помоги, Богородица, моему Лешеньке, дай ему разум... просвети его...
Отец быстро крестится, не суетится и очень задумчив. Идем домой дружные и притихшие.
20 августа с ранним утренним поездом я и празднично одетый отец выезжаем в Москву. Он в новых сапогах, пиджаке и жилетке, через которую протянута серебряная часовая цепочка.
У меня в кармане два рубля пятьдесят копеек денег, скопленных мной от продажи цветов, грибов и моего пения у окон пассажирских поездов. Я и отец едем молча. Каждый думает свою думу.
С вокзала мы едем на империале (попросту на крыше конки). Небольшой вагон конки, с железной винтовой лестницей на крышу вагона, везет пара худых лошадей. Кучер звонит в медный колокольчик, прикрепленный к ремню, который он дергает.
В гору к Красным воротам впереди пары лошадей к дышлу прицепляют еще пару, на одной из лошадей верхом сидит мальчишка-форейтор. С криком, свистом, со звоном колокольчика, дребезжанием стекол взбирается конка к Красным воротам.
У дверей Синодалки отец говорит:
– А ты не бойся, сынок! Учись крепко и будь честным.
Я вспоминаю мамку, ее последний поцелуй на станции перед отходом поезда, прижимаюсь к отцу и шепчу:
– Страшно!
Отец долго говорит со швейцаром Яковом, что-то ему сует в руку. Яков приводит небольшого дядю с худым лицом и строгими глазами. Дядя часто потирает руки и внимательно меня оглядывает.
– Сергеев? – спрашивает меня.
– Да, – отвечаю я.
– Ну, прощайся с отцом, – говорит он, – и пойдем наверх!
Я тянусь к отцу. Он меня быстро целует, на глазах у него слезы. (Он любил меня, мой суматошный, вспыльчивый отец.)
Захлопнулась дверь за отцом. Воспитатель Николай Николаевич молча берет меня за руку и ведет по лестнице во второй этаж. На площадке второго этажа стоит большое зеркало, направо широкая арка открывает вход в концертный зал, а налево вход в длинный коридор с классами. В конце коридора длинный узкий рекреационный зал. Я боюсь поскользнуться на скользком паркетном полу и крепко держусь за руку воспитателя.
– Егор! – зовет воспитатель.
Со скамьи около двери подымается среднего роста пожилой человек. У него длинные седеющие усы, мягкие, усталые серые глаза. Одет он в наглухо застегнутую куртку с серебряными пуговицами. Когда он идет, то как-то чудно в сторону ставит ступни ног, обутых в мягкие, ярко начищенные сапоги. Это Егор, или Егористый, как его ласково называли «синодалы», – училищный дядька.
– Возьми новенького. Остриги и одень его. В баню завтра.
Воспитатель ушел. Егор пытливо глядит на меня.
– Ну, пошли... Как зовут-то?
– Леша, – робко отвечаю я.
– А фамилия?
– Сергеев.
– Ну, значит, Сережей будешь!
– Я Лешка, – пробую я возражать.
– Э, нет! Тебя здесь по фамилии окрестят.
– А я уже крещеный, – объясняю я.
– Ничего – второй раз окрестим.
– Я большой. В купель не влезу.
– Эх, какой ты болтливый! Ну, пошли!
На третьем этаже, в цейхгаузе, где хранилась одежда учеников, Егористый накинул на меня простыню и быстро, ловко снял мои буйные, вихрастые волосы; подобрал серые штаны и курточку; показал мне в длинной спальне, среди множества кроватей, мою маленькую кровать № 103.
– Здесь будешь спать!
Мне грустно. Я чувствую свое одиночество.
Егористый понимающе смотрит на меня.
– Что? Скис! А ты будь мальчишкой, а не девчонкой.
Я глотаю слезы. Дядька ласково гладит мою стриженую голову, руки у него жесткие, руки рабочего человека, но какие это простые и ласковые руки.
Я минуту колеблюсь и решительно прижимаюсь к Егористому.
– Ну, вот и хорошо, Сережа! А теперь на урок в класс.
Я за Егором спускаюсь во второй этаж. Подходим к высокой, наполовину застекленной двери.
Егористый осторожно открывает дверь и ласково вталкивает меня в класс.
ПЕРВЫЕ УРОКИ
Я молча стоял у двери.
В большой, светлой комнате за партами сидели мальчики и однообразно тянули какие-то звуки. Они равномерно махали правой рукой: вниз, вверх, вниз, вверх.
По классу ходил Василий Сергеевич – тот строгий дядя, что при моем приеме в училище скупо похвалил мое пение. Он подошел ко мне.
– Ну, певун, садись со Степановым за вторую парту!
Я робко сел за парту рядом с худеньким, остроносым, вишнявым мальчиком.
– Звуки называются: до, ре, ми, фа, соль, – объяснял учитель. – Каждый звук тянется два удара. Считать рукой: вниз, вверх. Прежде чем петь, надо взять в себя воздух, вдохнуть его, задержать немного и сейчас же начать петь звук до, дальше ре, ми, фа, соль, ля, си и верхнее до. Под звук надо тихонько поддувать, поддувать тихо и петь тихо и плавно. Начали! Петь до ноты соль. Рука вверх! – приказал учитель и сам пропел нам звукоряд от до до соль.
Я поднял руку, взял дыхание и тихонько вместе со всем классом пропел звук до, далее ре, ми, фа, соль. Я подражал соседу. Внимательно прислушивался, приглядывался и ничего не понимал.
«Дырмифасоль», что это такое: человек, птица или что? Смешно! Я тянул звуки, называл вместе со всем классом ноты, а в голове вертелось смешное слово «дырмифасоль».
– Ты чего смеешься? – строго окликнул меня учитель. – Встань, когда тебя спрашивают!
Я вышел из-за парты и, доверчиво глядя на Василия Сергеевича, улыбаясь сказал:
– Дырмифасоль, такого слова не бывает.
– До, ре, ми, фа, соль – это не слово, а названия звуков от низкого до высокого. Повтори: до, ре, ми, фа, соль.
Я звонко и четко повторил.
– Садись, не говори глупостей, – раздраженно сказал учитель.
Я сел. Снова тянули гамму. Отсчитывали рукой. Учитель подходил, слушал нас, зачем-то ощупывал наши животы, тыкал пальцем в наши подбородки. Строго приказывал открывать рот. Мне было немного страшно и скоро наскучило тянуть звуки.
Мне казалось, что меня кто-то обманул. Я пришел учиться петь песни, умел их петь, а меня заставляют тянуть какие-то «дырмифасоль». Уж лучше быть машинистом, чем тянуть эти ноты.
– Ты чего не поешь? – строго спросил меня Василий Сергеевич. – А ну, пой один!
Испуганный его окриком, я начал петь что-то несуразное, забыл названия звуков, забыл считать рукой.
Учитель взял мою руку и стал ею считать, сам напевая звукоряд. Я пытался ему подражать, но пел все звуки на одной высоте.
– Не верно. Ре выше до, выше, еще выше! – раздраженно говорил Василий Сергеевич.
Я упорно гудел все звуки на одной высоте.
– Садись, болван! Песни поешь хорошо, а ни черта не слышишь. Ипполитов Паша, спой!
Чернявый, широколицый Ипполитов точно пропел всю гамму. Учитель спрашивал других мальчиков, на меня не смотрел. Мне было стыдно за свою неудачу и грустно. Раздался звонок. Уходя из класса, учитель сказал Ипполитову:
– Попой гамму с Сергеевым, помоги ему. Он деревенский.
Во время перемены мальчишки окружили меня. Какой-то высокий, худой мальчик подошел ко мне.
– Ну ты, деревенская «дырмифасоль», держись.
Он зачем-то полизал свой большой палец и потом прижал его к моей шее и быстро провел им по моей стриженой голове. Боль остро пробежала по телу. Обида, гнев наполнили сердце. Я кинулся на обидчика. Кто-то подставил мне ножку. Я споткнулся и больно ударился об угол парты. Мальчишка еще два раза быстро и больно сделал мне «козла».
Раздался снова резкий звонок. Мальчики быстро сели за парты. Отворилась дверь. Вошел учитель русского языка.
Он объяснял нам буквы, слоги. Я ничего не понимал. Обида, гнев, одиночество – все заслонили от меня.
Учитель что-то меня спрашивал, я отвечал невпопад, глупо и некстати. Класс надо мной смеялся. Учитель, тот воспитатель, который принял меня от отца и сдал Егористому, как-то презрительно смотрел на меня.
– Ну и глуп же ты, Сергеев, – брезгливо тянул он. – Садись!
В большую перемену я вышел из класса в рекреационный зал. По залу бегали мальчики. По паркету они катались как по льду, возились, боролись. Меня несколько раз толкал мой обидчик. Это был второгодник Пашка Таиров. Он упорно преследовал меня, он отравил мой первый день учебы. Здоровенный, тупой дылда, он держал в своих руках весь класс и, используя силу, спешил утвердить свою власть. Когда вечером я получил книги и тетради и с интересом их рассматривал, Пашка Таиров и еще один мальчик сели по бокам у меня и начали «жать масло». Они изо всех сил стиснули меня и жали. Мне было больно, и все же я терпел и старался сберечь книги. После ужина Пашка Таиров и другой коренастый курносый мальчик начали меня перебрасывать друг к другу. Нас окружили мальчики первого и второго класса и глядели, как я метался между двумя своими истязателями.
Когда Таиров резко толкнул меня к курносому, я очень больно ударился об угол изразцовой печи. Эта боль вывела меня из себя. Я вспомнил деревенские кулачки, в которых был не последним бойцом, вспомнил кулачное искусство.
Быстро обернулся к Пашке и еще быстрее изо всех сил ударил его в подбородок и тут же повторил удар под «дых». Пашка ахнул, присел на корточки. Я еще раз ударил его по затылку. Он упал на пол. Я бросился на него, сел верхом и исступленно колотил его.
Пашка орал: «Сдаюсь! Больше не буду!» Я выпустил Пашку. Ребята одобрительно гудели. Паша Ипполитов (Пашец, как мы его прозвали) подошел ко мне.
– Так ему, черту, и надо, – сказал он.
Володя Степанов стоял рядом со мной и шептал:
– Дай ему еще за меня. Он два дня мучил меня.
Ночью в большой спальне, когда затихли разговоры и шепоты, я закрылся с головой тканьевым одеялом и тихо, горько заплакал.
«Милая мамка! Где ты!» Я вспомнил Шарика, Степку, и слезы неуемно и горько полились из моих глаз.
Кто-то сел ко мне на кровать. Осторожно открыл одеяло. Это был Егористый. Он молча гладил своей большой рабочей рукой мою голову и шептал:
– Ну, ничего, паренек, все пройдет, все будет хорошо.
Под эту скупую ласку я и заснул.
Милый Егористый, спасибо тебе за твою простую ласку, за то, что ты не одну маленькую головенку нежно гладил своей рукой и не в одну молодую душу влил и бодрость, и веру в себя.
«Ничего, паренек, все пройдет, все будет хорошо!»
МОСКОВСКИЙ СИНОДАЛЬНЫЙ ХОР
Пошли длинной чередой дни и годы моей школьной жизни. Ровно в половине седьмого утра раздавался резкий звонок, и Егористый, проходя по длинной спальне между рядами кроватей, однообразно повторял: «Вставать, вставать!» От его слов и однообразного голоса так хотелось продлить сладкий утренний сон, так хотелось свернуться клубком под одеялом и поспать еще только минуточку.
Слышны шаги воспитателя. «Вставать», – строго приказывает он.
... И снится, что ты встаешь, завертываешь ноги в узенькие портянки, суешь их в сапоги, одеваешь брюки, берешь полотенце... и просыпаешься от того, что Селедка (так мы прозвали Николая Николаевича Сокольского) срывает с тебя одеяло.
Быстро умыться и через пять ступенек в зал на молитву. После молитвы строимся в пары, и Селедка тщательно осматривает наши руки, чисто ли вымыты, острижены ли ногти, нет ли цыпок; осматривает одежду, вычищены ли сапоги, и если обнаруживается непорядок, то снова мчишься мыть руки, ваксить сапоги, наскоро пришивать пуговицу.
Затем чай с двумя кусками черного хлеба и пиленого сахара, час на повторение уроков и уроки. В 12 часов завтрак и снова уроки до 3 часов. Обед и игры во дворе до 5 часов, веселые часы лапты и городков летом и снежков – зимой.
А там ежедневная спевка до 7 часов; с 7 до 8 1/2 подготовка уроков.
Ужин и тихие часы перед сном, когда мы, малыши, садились около Егористого и он нам рассказывал сказки, а в училище стояла тишина. Усталые, притихшие шли на вечернюю молитву и затем в спальню.
Так и жили мы из года в год в этом строгом порядке, привыкали к нему, вырабатывали в себе привычку к аккуратности, подтянутости и часто, очень часто мучительно скучали от этих унылых однообразных дней.
Так хотелось выйти за ворота на Никитскую, так хотелось смыть краску с половины закрашенных окон. В воскресенье, когда городские уходили в отпуск, садились мы на окно в швейцарской и часами глазели на прохожих, на проезжающую со звоном конку, на извозчиков, пока не прогонял нас из холодной швейцарской воспитатель.
Сидим мы в классе и учим уроки, а из концертного зала слышны мягкие и широкие, как вздохи, звуковые волны хора. Многие из нас часто отрываются от учебника и внимательно прислушиваются к далекому пению. В хор мы поступали только на втором году обучения. Во время спевок вход в зал строго воспрещался.
В середине Великого Поста, когда мы, малыши, сидели в классе и прислушивались к пению Синодального хора, я тихонько выскользнул из класса, пробежал полутемный коридор, юркнул за бархатную портьеру, которая закрывала площадку перед концертным залом, на цыпочках подобрался к двери на хоры. Дверь была отперта, я ее осторожно отворил, забрался на хоры и сел на полу у входной двери.
Небольшой концертный зал Синодального училища окрашен в голубой цвет. На эстраде стройными рядами стоит хор. Впереди, около деревянных пультов, по четыре человека стоят мальчики, за ними широким полукругом разместились взрослые певчие, тенора и коренастые басы, перед ними высоко подняты пюпитры с нотами.
Зал тонет в полутьме, концертная люстра на спевках не зажигается, на ней иногда в хрустальных подвесках вспыхивают разноцветные огоньки от падающего с эстрады яркого света. Перед хором около рояля стоит Василий Сергеевич. Он разбирает ноты. Я притаился на хорах. Я немножко чего-то боюсь и чего-то жду. Василий Сергеевич встал перед хором и что-то сказал. Зашелестели ноты, замелькали руки и перевернутые страницы.
Василий Сергеевич Орлов властно и резко поднял руку. Хор притих, насторожился. Тишина такая, что мне кажется, в зале услышат стук моего маленького испуганного сердца. Я не отрываю глаз от руки регента. Незаметное еле уловимое движение – ив полутемный зал вошел, мягко раздвинул тишину, задрожал серебристый звук. Был он чистый, вот как хрусталь на люстре, как вода в холодном лесном ключе, и рос, распускался как пышный белый цвет, грел мою маленькую душу, как яркий луч весеннего солнышка.
«Я сумею так спеть, – думал я, – но почему он так долго длится? Нет, так долго тянуть я не смогу. Не умею», – тихонько шепчу и слышу, как к дисканту мягко присоединился альт. Как черный бархат, мягок и согрет был этот звук. Он обнялся со светлым звуком дискантов, и оба ласково развернули звуковой узор.
«Свете тихий», – пели детские голоса.
«А, вот они о чем поют!.. Я знаю – это бывает, когда вечер еще не пришел на землю, когда солнышко уже закатывается, но свет еще не угас, он милый, тихий свет, он такой, как эти звуки».
Дальше вступили тенора и басы. Мощно, как широкая волна, плыли звуки хора в полутемном зале.
Василий Сергеевич, как волшебник, усмирял эти бушующие волны, и они успокаивались и с тихим рокотом пели свою суровую песню – и вот снова небольшое движение рукой – и вырываются из хора, как снопы ярких солнечных лучей, детские голоса – и навстречу им рвется и моя маленькая душа.
Кончили петь. Регент что-то сказал. Снова шелест нотной бумаги и снова тишина.
Хор запел что-то протяжное и очень напевное. Я слышал, что слова-то говорили о Боге, о каком-то «чермном море», а вот звуки, напев мне показались такими знакомыми, такими родными, так мне напомнили песни моей милой мамки.
«Как же так, – думал я, – это поют в церкви, а так похоже на песню».
Не знал я, маленький мальчик, что пели так называемый догматик знаменного роспева382, того старинного напева, в который русский народ, как цветы, вплел свою песню, и засверкала греческая церковность русской певучестью, русской песенностью. Вспомнились мне родные заливные луга, первые весенние цветы на опушке леса, звонкая песня жаворонка в синем небе, милые глаза моей мамки, когда она пела свои песни...
Тихое очарование музыкой пришло в мою душу, и закипали слезы детского восторга и восхищения всем тем, что я слышал.
Хор пел, а я, маленький, затерянный на хорах мальчик, в душе будил большие думы, большие чувства и тянулся к своему искусству, отдавая ему свою душу.
Когда я пришел в класс, то впервые бережно развернул учебник сольфеджио и долго и внимательно глядел на ноты.
«Ведь вот за этими кружочками, палочками притаилась песня. Я ее найду, эту родную мне песню, я научусь петь по нотам. Я буду музыкантом».
На следующем уроке Василия Сергеевича я спел хорошо. Он удивленно оглядел меня, поставил в журнале четверку и, довольный, улыбнулся.
Часто я тайком забирался в концертный зал и слушал Синодальный хор, и незаметно хоровое искусство брало меня в свои руки, качало меня на своих ласковых волнах и обостряло и мой слух и мое чувство.
На следующий год я встал в первый ряд у хорового пульта и отдал себя во власть великого русского регента, каким был Василий Сергеевич Орлов, и влил свой дискант в светлый поток знаменитого Синодального хора.
В КРЕМЛЕ
(В УСПЕНСКОМ СОБОРЕ)
В воскресенье мы длинной вереницей, парами шли по Никитской в Кремль. Одеты мы в черные суконные костюмы, на головах мягкие шапочки (такие теперь носят старые профессора). За эти круглые певческие шапочки уличные ребята звали нас арестантами383.
Заключал нашу вереницу Егористый, вместе с ним шел старший воспитанник с большим ранцем за плечами. В ранце – ноты.
Певчие идут к обедне!
Небольшое пространство Александровского сада мы проходим с большим удовольствием. Приятно видеть густую зелень деревьев, нежные цветы, изумрудную траву.
«Эх, скорее бы приходил мой отпускной месяц!»
Через круглую, затейливую, кружевную Кутафью башню по мосту, с которого виден внизу Александровский сад, входим под прохладные ворота Троицкой башни.
Кремль. Мимо кремлевских казарм с выстроенными перед ними старинными французскими пушками, трофеями Отечественной войны 1812 года, мимо огромной Царь-пушки с большими ядрами около нее, в ворота около собора Двенадцати апостолов, в нашу раздевалку-палатку. Снимаем черные куртки и надеваем парадные кафтаны.
Под синим длинным кафтаном с откидными рукавами, шитыми позолоченным галуном, короткий красный кафтанчик-жилет. Верхний, синий кафтан стягивается красным поясом. Наши парадные костюмы сшиты и пригнаны очень хорошо. Мы нарядные, похожие не то на каких-то древних царских дьяков, не то на польских панов в их кунтушах с откидными рукавами. Одежда нарядная и.… очень жаркая. Выстраиваемся парами. Приходит и осматривает нас Василий Сергеевич. Он в парадном мундире, воротник шит золотом и серебром, на шее и на груди ордена. Он важный и строгий.
Входим в Успенский собор. Вековая старина охватывает меня. Мощные колонны поддерживают своды собора, мерцает сотнями лампад и свечей высокий иконостас. Суровые лики святых строго смотрят на меня. В правом от бокового входа углу сверкает золотом рака мощей. Около нее стоит в черной мантии суровый монах. У одной из колонн – царское место, небольшая позолоченная часовенка с мастерской, затейливой резьбой; дальше патриаршее место.
Потрескивают свечи. Немного мрачно. Тихо. Входим на клирос. Это небольшое, огороженное балюстрадой пространство для хора, около иконостаса.
Вот за этой загородкой я и простаивал длинные, утомительные всенощные, которые начинались в 6 часов вечера и кончались около 10 часов. В суконном парадном кафтане жарко, воздух нагрет свечами и лампадами, носится кадильный дым.
Стоять надо прямо, не оглядываться, не облокачиваться. Ноги и плечи устают. Когда начинают читать что-то непонятное, хочется спать. Слипаются детские глаза, и вспоминаешь милые, тихие конобеевские вечера, пригрезится Шарик, рыжий Степка.
«Эх, домой хочу», – тоскует маленькое деревенское сердечко.
– Не спи, Василий Сергеевич смотрит! – шепчет Володя Степанов.
Мы, как самые маленькие, стоим в первом ряду. Нам восемь лет384. Мы очень, очень устали. А надо брать дыхание, глядеть в строгие глаза регента и послушно выполнять все, что ни прикажут эти властные глаза и эти выразительные регентские руки.
<...> Запомнился мне чрезвычайно театральный выход духовенства. Во время всенощной открывались царские врата, и из них выходили парами, в сверкающем парчовом облачении, дородные священники. Они долго пели какие-то стихиры мощными голосами, которые, как волны, разливались во тьме собора. Из алтаря несся очень певучий и красивый баритон. «Свет Христов просвещает всех», – нараспев мощно возглашал он. Ярко вспыхивали свечи, тьма уходила к высоким куполам, сверкали, переливались тысячами огней золото риз, оклады икон, драгоценные камни на крестах епископов. Хор мощным гимном пел Великое славословие. Эта торжественность, вековая продуманность, театральность момента нравились мне.
Любил я петь «Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице». Я смотрел на древнейшую русскую икону Владимирской Божией Матери, написанную неведомым русским художником, и в ее глазах видел доброту и ласку милых русских матерей, видел отблеск глаз моей мамки, и я без боязни смотрел на суровые строгие лица других святых. Я знал, что эта мать добра и милосердна. Мне не верилось, что эту прекрасную песню написал Александр Дмитриевич Кастальский, Митрич, как мы звали помощника регента, небольшого, доброго человека, который снимал пенсне со своего короткого носа и им как-то нескладно и беспомощно управлял левым клиросом. Был он со своей редкой бородкой похож на тихого, задумчивого старинного дьяка. Иногда мы звали его Ерышкой, Ерыгой. Мне говорили, что он знал хорошо русскую народную песню. С четвертого класса я начал учиться у Кастальского по сольфеджио, позднее по контрапункту и формам и специальному курсу народной музыки385. Я крепко полюбил Кастальского за его привязанность к русской песне, за его чудесные произведения, за его редкую по доброте душу и за большой самобытный русский ум. <...>
РЕГЕНТ СИНОДАЛЬНОГО ХОРА ОРЛОВ
Среднего роста, крепко и ладно скроенный, с пушистыми длинными усами над аккуратно подстриженной полукруглой бородой. Над темно-карими глазами густые, почти черные брови. От них лицо с крупным правильной формы носом немного сурово. Темно-карие глаза прищурены, ярки, живы и изменчивы. Эти глаза и успокаивают хор своей тихой задумчивостью, и заставляют его бушевать неистовыми звуковыми шквалами, когда они сверкают и властно приказывают хору... – давайте всю мощь своих слитных голосов, бушуйте всей своей силой... И вместе с глазами чудесные, живые, предельно выразительные руки с гибкими сильными пальцами, руки гениального хорового дирижера Орлова, неповторимого мастера русского хорового искусства. Мальчиком, когда я еще пел в Синодальном хоре, и позднее, когда, лишившись детского голоса, часто ходил на спевки в полутемный, маленький зал Синодального училища, я упорно хотел постичь дирижерскую манеру Василия Сергеевича. Мне так хотелось научиться у этого мастера дирижированию, так хотелось узнать все его великие дирижерские «секреты».
Вот, помню: я, опытный уже старый дискант, стою на спевке во главе партии вторых дискантов. Под моим началом четыре пульта мальчиков от 8 до 15 лет. За каждым пультом стоят по четыре мальчика, по два с каждого края. На пульте партитура разучиваемого хорового произведения. В партитуре выписаны все голоса, и мальчик, исполняя свою партию, должен был следить глазами и слушать все голоса хора.
Ярко освещена эстрада, зал в полумраке. Слышен сдержанный гул голосов певчих. Из артистической комнаты за эстрадой раздается знакомое покашливание Василия Сергеевича. Регент идет к своему хору. Разговоры затихают. К роялю, который стоит перед хором, не спеша, покойно, властно выходит Орлов. Он на хор не смотрит, но самая манера его выхода, неторопливое перелистывание нот, его собранность, физическая деловитость – заставляют хор насторожиться.
Тишина. Сто человек певцов Синодального хора смотрят на своего дирижера. Он поправляет галстук, открывает крышку рояля, снова перелистывает ноты и коротко говорит: «Дева днесь» Кастальского. Быстрый шелест перелистываемых нот и снова тишина. Орлов отходит от рояля, достает из жилетного кармана камертон, тихо и тщательно задает тон. Хор очень внимателен. Каждый из нас знает, что первый звук его партии, первый аккорд хора должен быть абсолютно чист, точен и ясен.
Василий Сергеевич внимательно оглядывает хор. Задавая тон, он иногда ходит в промежутке между детскими и мужскими голосами. Этот обход Орловым хора бывал всегда на концертных выступлениях. Этот «смотр» командиром своих музыкальных бойцов как-то нас собирал в единое внимательное, настороженное целое, а ощущение уверенности в первом звуке, в первом аккорде порождало уверенность во всем хоре. На концертах этот неторопливый осмотр хора, это тихое, длительное, неслышное для публики задавание тона дисциплинировало и самого слушателя. К первому аккорду хора тишина царила в зале. С этого начиналось великое регентское мастерство Василия Сергеевича Орлова. «Дева днесь» – это рождественское песнопение. <...> Из глубины веков, из седой старины дошел до нас этот древний знаменный роспев, живое звучащее свидетельство великого талантливого русского народа. Большой знаток русского старинного искусства Александр Дмитриевич Кастальский с глубокой талантливостью, с превосходным мастерством подлинно народного художника отточил грани этого древнего напева, и засверкали они блестящими звуковыми бриллиантами, оделись в богатые хоровые одежды.
Медленно поднимает руки регент Орлов. Вот они остановились почти на уровне плеч. Еще небольшое, еле заметное движение, мы берем дыхание, и под мягкий толчок приказывающих рук хор осторожно, бережно посылает в притихшую темноту зала простой, трогательный старинный напев. Основная мелодия поется вторыми дискантами, вьется в партии теноров. Первые дисканты свободным звуковым орнаментом украшают основную мелодию.
Помню тщательную, кропотливую работу Орлова над свободным, звонким, легким звуком первых дискантов.
Иногда ласково, иногда властно и, что греха таить, иногда грубо и больно подымал за подбородки наши мальчишеские головы Василий Сергеевич.
– Поднять голову! Пой выше, давай звук свободно, как говоришь. Свободно держи шею! – покрикивал Орлов без конца, с терпением великого художника добиваясь того яркого, ясного звука, которым очаровывали слушателей мальчики Синодального хора.
Генрих Гейне так просто, пожизненному реально, описал это далекое, легендарное Рождество Христа.
Бычок мычал, в доме ребенок кричал,
Святые волхвы тихо пели.
Вот такими же простыми трогательными красками нарисовал Кастальский эту чудесную хоровую картину. Долго мы работали над хоровой звукописью на словах «Ангели с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют».
Какие нежные руки у Орлова, как бесконечно мягко ведет он тонкий звуковой орнамент первых дискантов... А мне рисуются и бедный крестьянский двор, и тихий плач ребенка, и величавое радостное пение устало бредущих волхвов, и все это не далеко где-то в Палестине, а здесь у нас, под русским небом, под милую русскую народную песню,
<...> Голос у меня пропадал. Мне было трудно брать высокие звуки, и я часто злобно пытался взять их силой, напором; в нижних музыкальных комнатах, где мы занимались, я долго искал тихий прикрытый высокий звук. Пение у меня получалось тусклое и сиплое. Я злился, грустил, курил до одури и все же пел. Был я старым певчим, и меня не освобождали от пения в хоре. И Василий Сергеевич Орлов, и Александр Дмитриевич Кастальский, и позднее молодой Николай Михайлович Данилин все же мало думали о сохранении наших голосов, и большая тень лежит на их памяти за то, что они вовремя решительно не запрещали петь юношам в период мутации. Многие «синодалы» – опытные, хорошие певцы – лишились голоса.
Помню... Торжественная архиерейская служба в кремлевском Успенском соборе. Для встречи митрополита у входных дверей собора выстраивается духовенство. Три наших мальчика («исполатчики») стоят на ярком красном ковре у самых врат собора. Гулко стучат копыта лошадей. Подъезжает митрополичья карета. В белом клобуке, на котором сияет бриллиантовый крест, выходит из кареты сухой, высокий старик. Три мальчика поют на греческом языке «Исполла эти деспота». Звонко, нежно поют голоса мальчиков и вместе с кадильным дымом уходят к далеким куполам. Яркое весеннее солнце врывается в узкие окна древнего собора и зажигает тысячи огней на драгоценных камнях икон, на золоте риз. Все искрится и сверкает, и над всем чудесные вздохи, звуковые волны Синодального хора. Я люблю и понимаю эту выработанную веками церковную театральность, знаю ее искусственность и ее будничную изнанку, и все же в эти дни ее декоративность, монументальность покоряют меня. Я с увлечением пою Херувимскую Чайковского. Мой опытный, певучий дискант точно ведет свою мелодическую линию. Я радостно ощущаю, как свежие, молодые мальчишеские голоса обволакивают мой несколько уставший голос, и в их молодом пении мой старый дискант молодеет.
В «Верую» я увлекаюсь, напрягаю свой голос. Смело взлетает высокое соль диез386, я вместе с моими молодыми товарищами посылаю этот высокий звук навстречу ярким солнечным лучам, что расплавленным золотом рвутся в полутьму Успенского собора...
Резкая боль в горле прерывает мой звук. Как лопнувшая струна, внезапно умер мой милый голос, и смерть его была не слышна в мощной хоровой волне. Растерянный, испуганный, со все усиливающейся болью в горле я еще по привычке пытаюсь петь, но нет звука, а есть только резкая тупая боль. Я понял, что «сорвал голос». Меня подозвал наш молодой регент Данилин.
– Ты что, Сергеев, не поешь?
Я что-то прошипел ему в ответ. Он понял все и быстро сказал:
– Ступай домой.
Я пришел в раздевальню, как-то механически сдал свой парадный костюм и поплелся, грустный и одинокий, в Синодалку.
Ночь... В спальне тихо. Изредка кто-то во сне пробормочет. Мой сосед по койке Пашка Таиров упорно скрипит во сне зубами. Я лежу с открытыми глазами, и глубокая тоска сжимает мое сердце. «Прощай, мой милый голос», – шепчу я, и горе мое ясно встает передо мной.
Никогда уж я не запою своим сильным, свободным голосом, никогда уж не испытаю радость обладания своим голосом, кончилась моя певческая, яркая молодость. <...>
«Былинку» Кастальского слышал я под управлением Орлова после того, как сорвал свой детский голос. Тоска по хоровому пению гнала меня из класса в концертный зал, где проходили спевки Синодального хора. Я забирался на хоры. Садился так, чтобы видеть Орлова, и, не спуская с него глаз, упорно старался разгадать его систему дирижирования. Был этот величайший хоровой дирижер огромного дарования импровизатором, вдохновенным художником, без конца разнообразившим свои приемы дирижирования, свои приемы воздействия на хор.
Что не мелки часты звездочки
Загорались по поднебесью,
Что не ясен светел месяц
Засиял в небе высоком,
Осветило красно солнышко
Нашу землю святорусскую.
Льется покойно важный рассказ-былина. Едва заметными движениями, очень плавными, собранными, Орлов добивался от хора густой певучести былины, степенности, скрытой хоровой мощности.
Лицо Орлова немного сурово, задумчиво. Похож он на древнего сказителя былин. Глаза чуть-чуть прищурены и приказывают хору: «Петь широко, а чтобы хорошо петь, надо видеть чудесную ночь над стольным градом Киевом, видеть далекие «мелки часты звездочки», подготовить и сберечь всю выразительность своих голосов к тому моменту, когда я вам прикажу».
К словам «осветило красно солнышко нашу землю святорусскую» Орлов немного прибавил силу движения своей правой руки, и первые дисканты звонко и ярко пропели слова «красно солнышко...». Яркий луч сверкнул с далекого неба и осветил безбрежные русские поля, великую русскую землю, и разлился победный свет над моей великой Отчизной. А дальше... Небольшая еле заметная пауза, и весь хор свободно, широко начал распевать ласковую, праздничную былину:
В стольном городе во Киеве
Княжит-правит Володимир князь...
Собирались князья да бояре,
Все ли русские могучие богатыри.
Мощно поднялась хоровая волна на словах «могучие богатыри».
Вот они сидят за браным столом: могучий казак Илья Муромец, простой, великой крестьянской силы, селянин Добрыня, удалой боец, звонкий певун Алеша Попович. Ходит по светлой горенке Владимир-князь стольно-киевский. «Он берет чару во белы руки, а не малую в полтора ведра. Приказывает он слугам верным: «Гой вы слуги мои, слуги верные, обносите-ка вы дорогих гостей, чтобы ели-пили гости званые, величали свово князя солнышко». Хор мощно развивает древнюю былину, и сверкает она, как могучий Днепр, и гремит, как гремели седые пороги великой реки.
Могучим унисоном заканчивает былину Синодальный хор.
Поднята рука Орлова. Крепко сжаты в кулак сильные пальцы. Сверкают потемневшие глаза, и во всю свою мощь неистовствует Синодальный хор. <...>
В скучный дождливый осенний вечер я пошел на спевку Синодального хора и сел в задних рядах партера. Дирижировал хором Орлов. Пели хор Кастальского из его «Песен к родине» на слова Никитина.
Под большим шатром голубых небес,
Вижу, даль степей зеленеется,
И на гранях их, выше темных туч,
Цепи гор стоят великанами.
Долго и упорно работал Орлов над дикцией. Читали слова всем хором, отдельно по голосам. Пробовали читать шепотом, чтобы были ясны мускульные усилия губ певцов.
– Пойте широко гласные, в них секрет певучести речи, и мягко, но очень ясно выговаривайте согласную, не отрывайте согласную от гласной, а то она съест и вытолкнет и певучую гласную.
Просто, звучно пропел хор первые слова. На слове «великанами» Василий Сергеевич долго выравнивал звучность хора, долго по голосам работал над аккордом, и в результате звучал этот си мажорный аккорд стройно, мощно и ровно и до конца не терял своей силы.
После этой мастерской работы над ровным сильным хоровым звуком и его умелым снятием на форте так нежно, чудесно прозрачно звучал ми мажорный эпизод на словах:
Посмотрю на юг: нивы зрелые,
Что камыш густой, тихо движутся;
Мурава лугов ковром стелется,
Виноград в садах наливается.
Все изменялось в Орлове, когда он дирижировал этим эпизодом. Левая рука мягко и широко укладывала густые, плотные квинты органного пункта у басов, и они рождали ровное ласковое гудение безбрежных степных просторов. Правой рукой Василий Сергеевич вызывал у дискантов прекрасную певучую мелодию. Рождался под этой гибкой рукой чудесный напев и ласково, узорчато рисовал, как «нивы зрелые, что камыш густой, тихо движутся», – и весь хор прозрачно, мастерски легко пел:
Мурава лугов ковром стелется,
Виноград в садах наливается.
Тихо, тихо звучит хор на слове «наливается».
Это было знаменитое пианиссимо Синодального хора, когда в настороженной тишине зала где-то в необозримой дали еле слышно, чисто, прозрачно, как звенящая студеная струя, трепещет уходящий в небытие, в молчание хоровой звук. Он кончится, умрет, а настороженное ухо будет еще внимательно, напряженно ловить его сладкий отзвук. А дальше – как горный обвал, на огромной звуковой хоровой густоте:
Гляну к северу: там в глуши пустынь,
Снег, что белый пух, быстро кружится,
Подымает грудь море синее,
И горами лед ходит по морю,
И пожар небес ярким заревом
Освещает мглу непроглядную...
Буйствуют синодальные басы, как мощные грозные валы наших северных суровых морей. Катятся хоровые волны и мощно бушуют на словах «подымает грудь море синее, и горами лед ходит по морю». Медленно спадают звуковые волны на словах «и пожар небес ярким заревом освещает мглу непроглядную». Откуда-то из таинственных глубин рождается мягкий, густой, как отдаленное ворчание грозного летнего грома, звук синодальных октав. Эти низкие басовые звуки мощно и ласково, как гранитные богатырские глыбы, поддерживают звуковые своды этого прекрасного хорового эпизода.
Как сейчас помню Орлова, его преображенную фигуру. Обе руки грозно подняты до плеч, и он, после небольшой паузы, заставляет хор дать всю его звучность, и все же на высоких нотах, на словах «и горами лед ходит по морю» Синодальный хор и в своем мощном хоровом неистовстве видит широко открытые, сверкающие глаза своего регента, которые властно приказывают: «Дай мощь, дай силу, но не смей отдать ее всю до конца, не смей потерять ощущение звука, не кричи!» И великолепный хор медленно, умело свертывает огромную звучность и, опираясь на могучий фундамент октавистов, тихо заканчивает фразу.
И пожар небес ярким заревом
Освещает мглу непроглядную...
Блистает северное сияние над утихшим суровым морем, и сверкают, как грандиозные зарницы, его разноцветные сполохи.
Это ты, моя Русь державная,
Моя родина православная! –
широко поет хор.
Широко ты, Русь, по лицу земли
В красе царственной развернулася.
Снова властный взмах правой руки, и светло, просторно поется заключительный аккорд.
У тебя ли нет про запас казны,
Для друзей стола, меча недругу?
Смело, ярко звучит этот вопрос. Орлов медленно, экономно накапливает силы. Он сдерживает хор.
У тебя ли нет богатырских сил,
Старины святой, громких подвигов?
Растет сила звуков. Хор быстро набирает мощь.
Ужи есть за что, Русь могучая,
Полюбить тебя, назвать матерью.
Особо ярко выделяет Орлов последние фразы, звенит хор ярким, но не напряженным звуком.
Стать за честь твою против недруга,
За тебя в нужде сложить голову.
Орлов поднимает руки и, почти певуче выделяя каждый слог, каждое слово, на полном хоровом звучании замедляя движение, кончает мощным героическим унисоном, ускоряя его на слове «голову». Он внезапно властно обрывает звук.
Я не сразу прихожу в себя. Осторожно, на цыпочках, выхожу из зала.
Комментарии
Работа над воспоминаниями «Как я стал музыкантом (повесть дней моих)» относится к тому времени, когда автор начал преподавать в Московском Хоровом училище, то есть к 1944–1946 годам. Это отразилось и в посвящении мемуаров «моим милым мальчикам из Хорового училища». Воспоминания охватывают детство Сергеева и период до окончания им Синодального училища в 1910 году. Автор стремится показать, как деревенский мальчик, расставшись с семьей, попадает в Москву, в Синодальное училище, как под воздействием искусства, книг, а также встреченных им людей и увиденных событий он становится музыкантом – учителем пения. Главное – внутренний мир героя воспоминаний, его переживания, мысли, поступки; все остальное – только фон, порой достаточно яркий. К сожалению, воспоминания не свободны от идеологического бремени, и порой автор выходит за грань документального повествования и попадает в категорию «художественного» вымысла. Не случайно Н. С. Голованов считал воспоминания Сергеева необъективными, и вообще «синодалы» недолюбливали Алексея Алексеевича, несмотря на его образованность и ум. В училище он зарекомендовал себя как «пронырливый» юноша, у которого водились деньги и который рано испытал «прелести жизни». Но один поступок Сергеева высоко ценили все «синодалы»: благодаря своему положению он сумел добиться того, что свидетельства об окончании Синодального училища в послереволюционные годы приравнивались к диплому высшего учебного заведения.
Для настоящей публикации отобраны главы, в которых передана атмосфера времени, реальные события из жизни Синодального училища и хора. При подготовке текста необходимыми оказались купюры и редакторская правка.
Автограф находится в архиве А. А. Сергеева в ГЦММК имени Глинки (ф. 189, № 15).
Николай Семенович Голованов
Записная книжка ученика IV класса Московского Синодального училища церковного пения Николая Голованова 1903/04 учебный год
| Начальствующие лица: | |
| Обер-Прокурор | К. П. Победоносцев |
| Товарищ обер-прокурора | В. К. Саблер |
| Попечитель митрополит | Владимир |
| Директор | В. С. Орлов |
| Инспектор | И. Н. Строганов |
| Преподаватели: | |
| Ф. С. Никольский | –– катехизис |
| Н. Н. Сокольский | –– русский язык |
| П. А. Строганов | –– география |
| Е. В. Раковский387 | –– арифметика |
| П. Г. Чесноков | –– церковное пение |
| А. Д. Кастальский | –– сольфеджио |
| –– обычное пение388 | |
| Д. Г. Григорьев | |
| –– скрипка389 | |
| К. С. Сараджев | |
| А. Я. Дубинин | |
| –– фортепиано390 | |
| Г. И. Шаборкин | |
Расписание уроков
| Понедельник | Вторник | Среда | |
| 8–9.10 | Сольфеджио | Катехизис | Обычное пение |
| 9.20–10.30 | Русский язык | География | Русский язык |
| 10.40–11.50 | Арифметика | Скрипка | Церковное пение |
| Фортепиано | |||
| Четверг | Пятница | Суббота | |
| 8–9.10 | Церковное пение | Обычное пение | Сольфеджио |
| 9.20–10.30 | Арифметика | География | Русский язык |
| 10.40–11.50 | Скрипка | Катехизис | |
| Фортепиано | |||
| Список учебных руководств и пособий391 | |
| Библия | |
| Новый Завет | |
| Зелинский В. | Диктант |
| Малинин А. и Буренин К. | Задачи |
| Малинин А. и Буренин К. | Арифметика |
| Миропольский С. | Этимология |
| Смирнов К. | География |
| Филарет (митрополит) | Катехизис |
| Ловягин Е. | Каноны |
| Невзоров Н. | Словесность |
| Саккетти Л. | Сольфеджио (часть 4) |
| Обиход нотного пения | |
| Преображенский А. | Синтаксис |
| Раевский Н. | География |
| Список учеников IV класса392 |
| 1. Бачманов Василий |
| 2. Голованов Николай |
| 3. Гребенщиков Семен |
| 4. Дельфонцев Александр |
| 5. Кондратьев Николай |
Мой девиз: на Бога надейся и сам не плошай (рус. пословица).
30 августа (суббота)
Леонид Николаевич393 пришел в училище, позвал меня, купил на мой выбор десять пирожных и дал много конфет, и все звал меня к Филиппову чай пить, на что я не согласился ввиду того, что не было времени.
31 августа (воскресенье)
Мы – IV класс (кроме Пацева394) – были замечены вошедшим в наш класс инспектором за кипячением на реформе чая, который нам ничего не сделал.
Сентябрь
Погода большею частью дождливая.
Николай Николаевич395 в порыве гнева закричал: «Фу, черт!» – и, ударивши руками по коленам, побледнел от злости.
Снег пошел очень рано – 27 сентября. Это самая ранняя зима.
Производим распродажу вещей, оставшихся от представления, на которые мы покупаем яблок и т. п. лакомств396. (Всё почти продано Потоцкому).
Послали Толстякову письмо и посылку – ноты397.
2 октября (четверг)
Я по скрипке отказался, за что получил выговор от инспектора.
5 октября (воскресенье)
Обедню служили в соборе: Владимир – митрополит Московский, Парфений – епископ Можайский, Трифон – Дмитровский, Никанор – Якутский, преосвященный Григорий. Управлял Василий Сергеевич. Пели хорошо398. Розов Евангелие кончил в до диез и чрезвычайно хорошо прочел оное.
Николай Николаевич оставил весь класс без отпуска, ибо четверо из класса не ответили – Бачманов, Гребенщиков, Дельфонцев, Кондратьев – ив конце урока бросил стул по классу399.
6 октября (понедельник)
Гребенщикова и Дельфонцева Иван Иванович400 посадил за решетку401, ибо они ушли в лавку без спросу. Вечером Павлов дал мне много книг: 18 различных поэтов, два больших романа и в изящном переплете «Сказки» Гримм.
10 октября (пятница)
Посетил Синодальное училище Победоносцев. Пели много хороших вещей, от которых он пришел в восхищение и много острил. Он сказал перед «Вечери Твоея тайныя»: «А теперь споем на закуску»402.
15 октября (среда)
Умер М. А. Морозов, и Синодальный хор отпевал в полном составе. Служил высокопреосвященный митрополит Московский Владимир. Служили у Покрова, что на Арбате403. Вечером того же дня в училище были туманные картины о Серафиме Саровском404. Прошли не особенно успешно – многим мальчикам захотелось уйти. Были князь, Василий Сергеевич, Александр Дмитриевич, Николай Петрович, Николай Михайлович, Дмитрий Андреевич405.
19 октября (воскресенье)
Был концерт Шора, Крейна и Эрлиха. Концерт прошел очень успешно. В состав программы входили произведения композиторов Гайдна, Моцарта и Гуммеля406. Мне очень понравилось, особенно Allegro Гуммеля.
Василий Сергеевич спрашивал нас по сольфеджио в учительской.
Мальчиков из регентского отделения водили в Исторический музей на лекцию Богословского «Биография Чайковского».
25 октября (суббота)
Была обедня в Большом Вознесении памяти Чайковского. Пели мы, управлял В. С. Орлов, которого мы полчаса ждали407. Он было поехал домой, потому что его полиция не пускала в храм, переполненный народом. Но Иван Николаевич408, видя, что мы ждем его и не начинаем, пробрался сквозь толпу и воротил Василия Сергеевича. После этого мы начали петь обедню. Пели всё прекрасно, особенно Херувимскую. Народу было очень много, так еще никогда не было. За обедом был виноград, присланный нам от Гнусина, около фунта.
26 октября (воскресенье)
После обеда ходил в Третьяковскую галерею. Из всех картин, находившихся там, мне очень понравились следующие: «Иоанн Грозный убивает сына», «Спаситель в саду Гефсиманском», «Взятие Иисуса Христа», из сказки Жуковского «Серый Волк» и «Богатыри». У нас был вечер, который прошел очень успешно. Публики было очень много. Григорьев играл «Баркаролу», которую очень врал, хотя и незаметно. Хорошо сыграли Шведов, Зайцев и Чумаков. Цымбал управлял хором не особенно хорошо. Особенно хорошо пели Власов и Макаренко под аккомпанемент рояля, на котором играл Н. М. Данилин409.
27 октября (понедельник)
У нас была генеральная репетиция, на которой я канонаршил.
1 ноября (суббота)
В училище была панихида по А. Полуэктову в час дня, причем стояли все со свечами410. Присутствовали: Н. Н. Сокольский, С. И. Покровский, И. Н. Строганов, В. С. Орлов, А. Д. Кастальский, И. И. Серебреницкий. Вечером того же дня мы получили экспромт411 4 1/2 балла, а по сочинению 4+.
2 ноября (воскресенье)
Обедню в Успенском соборе кончили в то время, в какое кончили в Покровском соборе. Управляли: в Успенском соборе Н. М. Данилин, в Покровском соборе А. Д. Кастальский412. У нас был концерт413.
6 ноября (четверг)
Павел Григорьевич414 был именинник, урока не было. На спевке Васильев (октавист) все время «плакал».
Наше училище посетил Шереметев, начальник Императорской капеллы. Пели прекрасно. Управлял В. С. Орлов. По выходе из зала он сказал: «Вы доставили мне такое удовольствие, которого я никогда не испытывал»415.
14 ноября (пятница)
У нас была репетиция концерта Кастальского, причем он не показывался. Пели хорошо.
15 ноября (суббота)
Урока катехизиса не было. Вместо Феодосия416 инспектор был и спрашивал целый урок. Баллов не ставил.
16 ноября (воскресенье)
Был концерт, который прошел очень хорошо417. Александр Дмитриевич418 дал конфет во время перемены.
23 ноября (воскресенье)
Александр Дмитриевич был именинник и уехал в Троице-Сергиеву лавру.
10 декабря (среда)
Николай Николаевич419 оставил весь класс без отпуска.
14 декабря (воскресенье)
Концерт был и прошел благополучно420.
21 декабря (воскресенье)
У нас был вечер в училище в 7 часов вечера. Было литературное отделение, в котором я выступал Мишкой в «Квартете» Крылова, и играли «Бежин луг» Тургенева в костюмах и с костром421.
24 декабря (среда)
В 11 часов утра приехал Толстяков и привез нам конфет. Тогда же была литургия. Мы пели и кончили ее вместе с малым повечерием 1/4 3-го. Так рано никогда еще не кончали такую обедню422.
30 декабря (вторник)
С нами прощался князь, которому говорили адреса Орлов, Серебреницкий, Соколов и Цымбал423. После этого был завтрак, причем нам давали по две бутылки квасу, которым поливали пол.
31 декабря (среда)
Нам представляли нового начальника нашего училища Завьялова, который ростом превышает три сажени424.
2 января (пятница)
У нас была назначка425 в Синодальную контору на наречение архимандрита Евдокима епископом Волоколамским и ректором духовной академии.
3 января (суббота)
Нас 12 человек, в числе которых был и я, водили в театр «Эрмитаж» на оперу «Борис Годунов», вместо которой шла опера «Евгений Онегин». Веков хорошо исполнил партию Онегина426.
4 января (воскресенье)
Посвящали в Успенском соборе в архиереи Евдокима. Пели хорошо. Управлял Кастальский.
6 января (вторник)
Я ходил в Театр Солодовникова на «Фауста». Партию Мефистофеля исполнял Н. Трубин, Фауста играл Горянский. Прошло очень хорошо. Особый успех имели Горянский и Трубин427.
9 января (пятница)
Мое рождение. Мы ходили в Успенский собор к литургии428. Служил Сергий – епископ429 Ярославский, который дал нам 10 рублей, разделенные нами на IV и V классы. Иван Иванович430 приходил с книгой для подписки. Мы с Дельфонцевым дали по 50 копеек.
22 января (четверг)
Мальчики, по два из каждого класса (исключая І-й), в числе которых был и я, ездили на Николаевский вокзал провожать князя Ширин- ского-Шихматова. Мы очень озябли.
Февраль
Я ходил на «Купца Калашникова» и «Гугеноты». Эти две оперы мне чрезвычайно понравились431.
Я ходил в залу Благородного собрания слушать 10-летнего чудо скрипача фон Вечей, который играет гораздо лучше Яна Кубелика. Особенно замечательна в его игре легкость, с которой он исполняет самые трудные концерты Паганини432.
Пасха433.
1 апреля (четверг)
Я ходил в городской манеж. Тут шла «Оборона Севастополя». Я сидел на втором ряду, и мне все было видно и слышно. Особенно мне понравилось III действие, в котором убили Нахимова.
2 апреля (пятница)
Я с другими мальчиками училища ходил в Театр Корша на «Волшебную лампу, или Багдадские пирожники». Эта пьеса мне очень понравилась, особенно I действие434.
| Разовые отметки за 1 четверть (сентябрь и октябрь) | |
| Катехизис | 2 5– 2 4 4+3 |
| Русский язык | 3 2 3= 2 2 3 2 3 (сочинение 4+ экспромт 4 ½) |
| Арифметика | 3= 3 3– 2 2 2 2 3 |
| Обычное пение | 5 5 5= 4 5 4 5 4 |
| Фортепиано | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Скрипка | 3 3 3 4 3 4– 3 |
| Церковное пение | 4 4– 3– 3= 4 4– |
| География | 4+ 4 4+ 4= 3= 4 (сочинение 4+, экспромт 5=) |
| Сольфеджио | 4 4 4 5 5– 5 2 |
| Гимнастика | Баллов не ставят |
| Поведение | 4 3 |
| Баллы за I четверть | |
| Русский язык | 2 |
| Катехизис | 4 |
| Арифметика | 3 |
| География | 4 |
| Церковное пение | 4 |
| Сольфеджио | 4 |
| Обычное пение | 4 |
| Скрипка | 3 |
| Фортепиано | 4 |
| Поведение | 4 |
| Разовые отметки за 2 четверть (ноябрь и декабрь) | |
| Катехизис Русский язык Арифметика Обычное пение География Сольфеджио Церковное пение Гимнастика Поведение | 2 3 ½ 4 4 4 (сочинение 3+) 3 3– 3= 3– 2+ 2 3– 3 3= 3– 3= 2+ 2 3– 3 5 4 5 5– 5– 5 4 ½ 4 ½ 4 ½ 4 ½ 4+ (сочинения 4 ½ 4 ½ 4+) 5 4 5 5– 5– 5 4– 4– 4+ 5– 4 Баллов не ставят 5– 5 |
| Баллы за II четверть | |
| Русский язык | 4 |
| Катехизис | 4 |
| Арифметика | 3 |
| География | 4 |
| Церковное пение | 4 |
| Сольфеджио | 5 |
| Обычное пение | 5 |
| Скрипка | 3 |
| Фортепиано | 4 |
| Поведение | 5–5 |
| Темы сочинений и экспромтов | ||
| 1 | Утопленник | (4+) |
| 2 | Сиротка | (4 ½) |
| 3 | Шанхай и китайцы | (4+) |
| 4 | Бородино | (4-) |
| 5 | Немец и итальянец | (5=) |
| 6 | Вера без дел мертва есть | (3+) |
| 7 | Материнская любовь ( по священному писанию) | (4) |
| 8 | Верный пудель | (3) |
| 9 | Ницца и Генуя | (4 ½) |
| 10 | Моя поездка в Посад | (4) |
| 11 | Англичане | (4 ½) |
| 12 | Почему пророк Исаия называется ветхозаветным евангелистом? | |
| 13 | Крестный ход на Москву-реку 6 января | |
| 14 | Крещение Руси | |
| 15 | Утро св. Христова Воскресения | |
| 16 | Вступление Наполеона в Москву | |
| Расписание экзаменов | ||
| Апрель | 20 | –– русский язык |
| 22 | –– скрипка | |
| 26 | ––фортепиано | |
| Май | 3 | –– катехизис |
| 8 | –– церковное пение | |
| 13 | –– география | |
| Баллы годовые, экзаменационные и общие | |||
| Русский язык | Русский письменный | Катехизис | |
| Бачманов | 2 4 3 | 3 4– 4 | 4 –– 4 |
| Голованов | 4 –– 4 | 4 4 4 | 5 –– 5 |
| Гребенщиков | 3 4 4 | 3 2+ 3 | 4 –– 4 |
| Дельфонцев | 3 4 | 4 3+ 4 | 4 –– 4 |
| Кондратьев | 3 4 | 2– 2 3 | 3 –– 4 |
| Арифметика | География | Церковное пение | |
| Бачманов | 3 –– 3 | 4 –– 4 | 4 –– 4 |
| Голованов | 3 4 ½ 4 | 5 –– 5 | 5 –– 5 |
| Гребенщиков | 3 –– 3 | 5 –– 5 | 4 –– 4 |
| Дельфонцев | 4 –– 4 | 5 –– 5 | 4 –– 4 |
| Кондратьев | 3 4 4 | 4 –– 4 | 3 –– 4 |
| Сольфеджио | Обычное пение | Фортепиано | |
| Бачманов | 3 3 3 | –– | –– |
| Голованов | 5 –– 5 | 5 –– 5 | 4 –– 4 |
| Гребенщиков | 3 –– 3 | 4 –– 4 | 4 –– 4 |
| Дельфонцев | 3 4 4 | 3 –– 4 | 3 –– 3 |
| Кондратьев | 3 4 4 | –– | –– |
| Скрипка | Латинский язык | Греческий язык435 | |
| Бачманов | –– | 4 –– 4 | 3 4 4 |
| Голованов | 3 4 4 | –– | –– |
| Гребенщиков | 3 4 4 | –– | –– |
| Дельфонцев | 3 4 4 | –– | –– |
| Кондратьев | –– | 4 –– 4 | 4 –– 4 |
Дополнение: несколько записей за 1904/05 уч. год
| Список учеников V класса | |
| 1 | Бачманов Василий |
| 2 | Голованов Николай |
| 3 | Гребенщиков Семен |
| 4 | Дельфонцев Александр |
| 5 | Кондратьев Николай |
| 6 | Куликов Дмитрий |
| 7 | Окороков Григорий |
| 8 | Сергеев Алексей |
1 сентября (среда)
Этот день ознаменовался войной между V и VI классами из-за рамок с писателями, которые мы отстояли.
15 сентября (среда)
Начало ознаменовалось поступлением в подрегенты Власова436 и увольнением Данилина и Чеснокова с должностей, ими занимаемых, причем Павел Григорьевич совсем ушел, а Николай Михайлович остался преподавателем сольфеджио и обычного пения437.
Умер Войденов438. Была панихида, на которой был прокурор439. У Войденова были на панихиде, управлял Василий Сергеевич440.
26 сентября (воскресенье)
Ездил на кладбище.
27 сентября (понедельник)
Была спевка – приготовление к концерту, на которой управлял Кастальский.
1 октября (пятница)
Был концерт. Пели так себе441.
8 октября (пятница)
Выпал первый снег в 10-м часу утра.
9 октября442 (суббота)
Был крестный ход вокруг Кремля443. Много смешных эпизодов: шел Сергий Александрович444 без супруги.
Комментарии
История этого необычного документа проста, как прост и непритязателен его текст. Записная книжка двенадцати летнего мальчика, вобравшая в себя лишь небольшую часть событий 1903/04 учебного года и начала следующего, сохранилась в архиве Николая Семеновича Голованова благодаря его бережному отношению к прошлому, любви к училищу и педагогам, воспитавшим его, а также благодаря собирательской страсти знаменитого дирижера. Голованов хранил все, что так или иначе напоминало о Синодальном училище и хоре: свидетельства об успеваемости, школьные сочинения и конспекты, программы концертов, рецензии и заметки, фотографии, книги, литографированные певческие сборники. Напомним, что именно в архиве Голованова «осели» два тома «Воспоминаний» С. В. Смоленского.
Для записей Коля Голованов использовал небольшую книжечку-календарь под названием «Товарищ», выпущенную специально для учащихся на текущий учебный год. Сама структура календаря предполагала, что его хозяин будет делать записи, отражающие школьную жизнь. Записи на страницах, свободных от полезных сведений и всевозможной информации, делались Головановым от случая к случаю и не всегда хронологически последовательно. Тем не менее этот своеобразный дневничок подкупает непосредственностью и живостью.
Текст воспроизводится полностью, без купюр и практически без правки. Дневник хранится в Музее-квартире Н. С. Голованова (архивный фонд, № 4414).
Сергей Алексеевич Жаров
Главы из воспоминаний
Когда я в памяти своей стараюсь восстановить первые переживания детства и пытаюсь проникнуть в пору самой ранней сознательной жизни, в моих ушах смутным отголоском, как что-то потустороннее и вещее, звучит: «Отче наш, иже еси на небесех...» В моем мозгу встает образ матери, любовно склонившейся надо мною.
– Пой, Сереженька...
И я детским слабым голоском вторю за нею слова молитвы.
Материнскую ласку помню смутно, она растворилась в этой молитве ребенка, ожив позже в сознании взрослого человека. Мать моя умерла рано. Отец, всегда занятой, уделял моему воспитанию мало внимания, я был одинок...445
В раннем детстве много шалил. Любил лазать по крышам. Часами сидел у трубы соседнего дома, представляя ее себе прекрасной дачей. Брал с собой одеяло и часто высоко на крыше проводил ночь. Однажды малышом влез на крышу маленького домика, увидел гнездо с только что вылупившимися птенцами. Испугался их «страшного» вида, приняв птенцов за лягушат, и, сорвавшись, упал на панель, больно разбив ногу. Не жалуясь и не ища помощи дома, поборол боль, никому ничего не сказав.
Был болезненно горд и самолюбив. Семи летним ребенком, подвергнувшись несправедливому наказанию со стороны бабушки, в одной рубашонке холодной зимой влез на крышу дома, решив умереть. Долго меня напрасно искали с фонарями. Я упорно молчал, пока не услышал, как громко плакала и причитала бабушка. Не выдержал: дрогнуло жалостью детское сердце. Откликнулся на зов. Полузамерзшего сняли меня с крыши и на руках принесли домой.
Когда мне было десять лет, отец решил отдать меня в коммерческое училище в Нижнем Новгороде446. Тогда четыре моих брата и сестра были совсем маленькими. Среди детей я был самый старший.
По дороге отец, добродушный балагур, встретил знакомых богатых купцов. За рюмкой водки и картами решил ехать с ними. Дорога купцов вела в Москву.
– Все одно, поеду и я с вами, – рассудил отец.
Чтобы оправдать дальнюю поездку, решено было отдать меня в Московское Синодальное училище; к тому же мой крестный, регент церковного хора, давно советовал этот путь. Еще раньше он посылал меня петь в церковь, награждая за это алтыном или конфетками.
На пристани в Нижнем взрослые пили и оставили меня без надзора. Пошел бродить по улицам и в первый раз в своей жизни увидел трамвай. Долго не размышляя, взобрался на высокую скамейку и поехал. Поездка понравилась, на конечной станции не вылез. Инстинктом понимал, что вагон поедет обратно. Вернувшись к пристани, получил от отца несколько здоровых подзатыльников, но не заплакал. Слишком все было ново и увлекательно: чужой город, пристань и манящие вдаль пронзительные гудки пароходов.
Потом ехали дальше – в Москву. Когда вылезли на Московском вокзале, компания была сильно навеселе. Меня взяли с собой в гостиницу «Бристоль». Веселые, с кружками пива в руках, купцы забавлялись тем, что «экзаменовали» меня, задавая вопросы, якобы такие, какие будут на экзамене, а потом уехали, оставив меня одного.
– Ну, смотри, Сережа, веди себя здесь пристойно, сегодня не вернемся. Если тебе будет страшно одному ночью, звони половому, скажи, мол, что хочешь чаю.
Отец мой, давно не бывавший в Москве, решил покутить со знакомыми. Всю ночь, мучимый одиночеством и страхом, я звонил и требовал чаю, и каждый раз, увидав полового, отказывался от него.
Утром начались экзамены447. Огромный зал, вмещавший восемьсот человек448, ласковый экзаменатор, ставивший экзаменуемых спиной к комиссии...
– Читай «Отче наш», – обратился ко мне на экзамене законоучитель, известный протоиерей Кедров449.
– Не могу читать, – ответил я, смущаясь. – Разрешите спеть...
Учился я отвратительно. Способностей никаких не проявлял450. По- старому в свободное время лазил по крыше прилегавшей к училищу консерватории, по-прежнему мечтал о высоте и далях. Был чрезвычайно обидчив и оскорблений никому не прощал.
Однажды, когда мне исполнилось уже шестнадцать лет, я был задет одним из преподавателей. В припадке внезапной злобы я назвал его жабой. За этот поступок я был уволен из училища. Только благодаря заступничеству директора Синодального училища А. Д. Кастальского меня восстановили, но я должен был попросить прощения у преподавателя451. Долго я боролся с собой, пока решился на это. Пошел к нему на квартиру и встретил там его сестру. Разговорился с ней. А когда преподаватель вошел, заговорившее во мне «мужское» самолюбие не позволило в присутствии женщины просить извинения.
– Что вас привело сюда, Жаров?
– Меня прислал к вам директор Кастальский.
– Зачем прислал вас ко мне директор?
– Не знаю.
Инцидент был, казалось, исчерпан, но до моего выпуска преподаватель гармонии со мной не разговаривал452.
Родители мои умерли, не увидев меня регентом453. Тогда началось для меня тяжелое время. Я поддерживал всю семью. Переписывал ноты. Дирижировал семинарским хором. Учил семинаристов. Потом даже, в старших классах, сделался регентом в церкви454.
Никогда не любил учиться. Любил сам учить, руководить и воспитывать.
С Синодальным хором, в котором пел до четырнадцатилетнего возраста, я побывал в Вене, Дрездене и на выставке искусств в Риме455. Часто стоял на эстраде тех концертных залов, в которых мне впоследствии суждено было управлять своим собственным хором456.
Пребывание в Синодальном училище обязывало учеников младших классов петь в знаменитом Синодальном хоре. Ярко стоит в моей памяти один из его концертов.
С. В. Рахманинов только что написал Литургию – это событие взволновало тогда весь музыкальный мир. Исполнение Литургии Синодальным хором произвело потрясающее впечатление не только на публику, но и на самого композитора, Сергей Васильевич был предметом бесконечный оваций со стороны присутствующих. Растроганный композитор горячо благодарил хор, а меня, случайно подвернувшегося мальчика, потрепал по бритой голове. Это выражение ласки оказалось довольно чувствительно. Рука у великого пианиста была обратно пропорциональна моей маленькой голове, но все же приятное чувство от этой ласки осталось у меня до сегодняшнего дня457.
Двадцать лет спустя за дружеской беседой я напомнил С. В. Рахманинову этот случай458.
Из-за маленького роста меня все звали только по имени. Фамилию свою я в первый раз услышал, когда в марте 1917 года окончил школу459.
Выпуск... Экзамены я сдал каким-то чудом. Возможно, что и здесь сыграл свою роль мой детский вид.
Вспоминаю главный экзамен: управление оркестром – первое публичное выступление. Стою за пюпитром. Дирижирую сюиту Аренского. Увлекаюсь... Порывисто взмахиваю правой рукой и чувствую, что манжетка, не прикрепленная к рубашке, соскальзывает мне на руку. Задержать ее не могу – держу в руке дирижерскую палочку. Еще мгновение, и я вижу, как она, соскользнув по палочке, дутой летит в оркестр... Смущение... Среди музыкантов – моих коллег, учеников школы – приглушенный смех. У меня темнеет в глазах, хочу все бросить и выбежать из зала. Стараюсь найти потерянное место сюиты, нервно перелистываю партитуру. Не нахожу... И вот меня охватывает отчаянная решимость. Безграничным усилием беру себя в руки и дирижирую наизусть, в эту минуту поставив все на карту. Моя воля побеждает. Оркестр – в моих руках, и я веду его с увлечением, для меня до этого дня незнакомым. Рукоплескания наполняют зал. Экзамен был сдан блестяще. Во мне открыли новый талант460.
Этот момент никогда не изгладится из моей памяти. Он был для меня символическим. Моя жизнь и впоследствии изобиловала трагикомическими моментами, но я их научился побеждать. Самым страшным для меня было всегда – показаться смешным.
На следующий день я уже был в Александровском военном училище461. Но окончить его в положенный срок мне тогда не пришлось. В это время Корнилов собирал добровольцев в свой ударный батальон. Уязвленный своим портупей-юнкером, поляком, я записался добровольцем на фронт.
– Только инородцы идут спасать Россию, записываясь в ударные полки, – сказал он мне как-то. – Русские почему-то не идут, вот такой музыкант, как вы, и подавно.
Мое самолюбие было задето.
– Я запишусь на фронт, а вот вы останетесь в училище.
Я тотчас исполнил свое обещание и вскоре в составе ударной роты Александровского военного училища уехал на фронт. Училище мне было суждено кончить позже на месяц.
Гражданская война застала меня в казачьих частях. С ними я и эвакуировался в Константинополь462. Помогли мне и здесь еще раз мой маленький рост и моложавый вид. Им я обязан своей жизнью.
Донской казачий полк, в котором я служил, был в крымский период гражданской войны сильно потрепан. Я был захвачен красными в маленькой деревушке. Нам приказали снять одежду, а когда мы остались в одном белье, началось форменное истребление пленных. Тщедушный, исхудалый, с бритой после перенесенной болезни головой, я упал на землю и, прикрыв рукой затылок, ждал своей очереди. Уже красный всадник занес надо мною шашку, как другой его остановил:
– Не тронь мальчишку!
Красные ускакали. Какая-то старушка сжалилась надо мною, повела меня в хату и накормила. Гладя меня, офицера, по голове старческой рукой, она спрашивала:
– Как это ты, сыночек, попал на войну?
В лохмотьях я бежал за своей частью. Ее уже не было, а в казачьем разъезде, на который я на следующий день натолкнулся, долго не хотели верить, что я казак, не говоря уже о моем офицерском чине.
Период моего пребывания в добровольческой армии я описывать не буду. Начну с того момента, когда с отступающими казачьими частями я был эвакуирован в Турцию, очутившись в мрачном лагере голода и смерти – Чилингире. Здесь среди страшных лишений, в атмосфере бесконечного отчаяния и беспросветной тоски по родине вырос и оперился Донской казачий хор, известный теперь всему культурному миру.
Комментарии
Воспоминания С. А. Жарова взяты из книги Емельяна Елинского «Сергей Жаров и Донской казачий хор» (Берлин, 1931); осенью 1930 года Елинский записал воспоминания Жарова с его слов на прогулках по окрестностям маленького чешского курорта. Сведения о дальнейшем творческом пути Жарова и о его хоре помещены в комментариях к воспоминаниям А. П. Смирнова (48).
Сергей Дмитриевич Кученков
Сергей Дмитриевич Кученков был по рождению крестьянином села Троицкого Новохоперского уезда Воронежской губернии (родился в 1894 году). С восьми лет мальчик начал петь в церковном хоре; осенью 1911 года мечта об оперной сцене привела его в Москву. По совету Н. М. Данилина он поступил на оперно-музыкальные курсы А. Морозова и Н. Званцова, где в течение трех лет изучал сценическое искусство, в том числе и пение у преподавателя А. Ляховича. В апреле 1912 года Кученков был принят в басовую партию Синодального хора на жалованье 30 рублей в месяц. Весьма юный для баса возраст не помешал ему стать полноценным певчим (правда, в заграничных поездках хора 1912 и 1913 годов он не участвовал). В феврале 1914 года Кученков поставил свою подпись под адресованным прокурору Московской Синодальной конторы прошением взрослых певчих Синодального хора об улучшении их материального положения, а через несколько месяцев оставил хор и продолжил обучение пению в стенах Московской консерватории. В 1915 году он прервал занятия, решив идти добровольцем на фронт. Только после революции, вернувшись в Москву, Кученков возобновил занятия пением у А. Шпигеля и В. Тютюнника. В это время он вступил в труппу передвижной оперы «Наш театр» В. Люминарского. В последующие годы певец выступал в Казани, Самаре, Перми, на Дальнем Востоке; в 1938 году он стал солистом Москонцерта. Сергей Дмитриевич Кученков скончался в Москве в 1977 году.
Воспоминания
Трудно мне нарисовать более или менее подробную картину Синодального хора и всего, что было с ним связано, ибо с тех пор, как я ушел из хора, прошло шестьдесят лет, и мои годы подходят уже к восьмидесяти, – ау старых людей память притупляется.
Партии сопрано и альтов в Синодальном хоре исполняли мальчики из Синодального училища, где из них готовили регентов церковных хоров для всей России. Директором училища был Кастальский, очень талантливый композитор, но только в области церковных, культовых песнопений. Человек он был культурный, вежливый, и в училище его любили и уважали. К хору он непосредственного отношения не имел, за исключением своих произведений.
Хором же руководил регент Данилин. Это был исключительный хоровой дирижер, и у певцов Синодального хора он пользовался большим авторитетом. Но как человек он был несколько грубоват, и бритое лицо его всегда оставалось строгим и даже мрачноватым. Говорили, что у Данилина железные руки и весь хор в его руках463.
Первым помощником Данилина был Николай Семенович Голованов, в то время студент консерватории по классу композиции. Тоже талантливый дирижер, с обликом мягче, чем у Данилина, и к тому же совсем молодой – лет девятнадцати-двадцати. Он тоже пользовался у певцов большим уважением, все сулили ему большую будущность – и, как известно, не ошиблись.
Вторым помощником Данилина был молодой человек, чьей фамилии я не помню, помню только лицо. Очень близорукий, он носил сильные очки, которые увеличивали его глаза и придавали всему лицу выражение некоторого удивления и растерянности, – это было и смешно и умилительно. Он был очень добр и вежлив с певцами, которые любили его, но считали дирижером слабее Голованова и, тем более, Данилина464.
Был еще один помощник Данилина, тоже молодой человек, но этого я совершенно не помню465.
Обилие помощников регента объяснялось тем, что в Успенском соборе Кремля, где пел Синодальный хор, имелось два клироса, правый и левый, и на каждом свой хор, а главное, в соборе служилось столько служб разного рода, что необходимо было иметь резерв и певцов и дирижеров.
Священников в Успенском соборе тоже имелось несколько, но мне особенно запомнился своим видом один: высокий, тучный, с длинными черными волосами, которые прямыми космами ниспадали на его широченные плечи. Певцы хора прозвали его Морским Царем (из «Садко» Римского-Корсакова). А кто навсегда остался в моей памяти, так это протодьякон Розов. Великан-красавец, с копной черных длинных кудрей на голове, с пышной окладистой бородой и такими же пышными усами, с исключительным по силе и тембру басом, он производил на всех, кто его слушал, незабываемое впечатление. Были и у Розова два помощника-дьякона с неплохими голосами, но в сравнении с голосом Розова они блекли и стушевывались.
Довольно часто в Успенском соборе служил сам митрополит Макарий, и тогда на середину выдвигали высокий помост, на него восходил митрополит, священники и Розов, и начиналось облачение митрополита, сопровождаемое возгласами, молитвами и пением.
Большую часть взрослых певчих составляли профессиональные хористы, меньшую – главным образом, студенты с хорошими голосами, которые пели в хоре для того, чтобы иметь средства к существованию и крышу над головой на время учебы. Жили взрослые певцы хора в специально для них построенном трехэтажном здании во дворе дома 7 по улице Воздвиженке. С улицы этот дом закрывала церковь Воздвижения, в свою очередь отделенная от улицы железной решеткой, а направо от церкви, на углу улицы и переулка, был еще трехэтажный дом, где жило духовенство с семьями. Рядом с домом певчих стоял маленький домик из трех комнат, где поселяли певцов – непрофессиональных хористов.
В доме же Синодального училища, расположенного на Большой Никитской, жили мальчики-певчие, директор, некоторые преподаватели и все регенты хора466. Из певцов же в этом доме жил лишь Дмитрий Иванович Шишлов, или иначе – отец Димитрий. Вот его я помню хорошо, ибо он был священником в том селе, где я жил до семнадцати лет. Отец Димитрий в нашем селе пользовался большим авторитетом и как священник и как человек. И вдруг он уехал, а вскоре стало известно на селе, что наш отец Димитрий в Москве, поступил в институт (ныне Плехановский) и в Синодальный хор. И вот, когда я окончательно решил ехать в Москву учиться пению, то моя мать списалась с Дмитрием Ивановичем, и он приютил меня на время в своей квартире, а затем познакомил с Данилиным. Данилин послушал мой голос и предложил поступить в хор, а комнату мне дали в том самом маленьком домике на Воздвиженке. Рядом со мной жил студент-певец, но фамилию его я забыл467.
У Дмитрия Ивановича Шишлова был редкий голос – низкий бас с глубокой октавой, а октава для хора – фундамент пения. Но меня удивляла одна странность: раз он поступил в институт, значит, снял с себя сан священника, однако, когда он бывал в соборе на клиросе, то всегда в длинной священнической рясе, тогда как дома и на улице носил обычный костюм. Но спрашивать его об этом я не считал возможным. В длинной черной рясе, с зачесанными назад волосами, он выделялся из общей массы певцов, тем более что был высокого роста, с мужественным, характерным лицом пастыря. После окончания института Шишлов уехал из Москвы в Воронеж, где и стал работать по своей новой профессии468. Больше я его уже не видел.
И еще одного баса я припоминаю – Курского. Он был небольшого роста, с высокой, певческой грудью, сильным и красивым голосом. Человек энергичный, быстрый, он говорил четко и убежденно, глядя прямо в глаза собеседнику.
И, наконец, я хорошо помню еще одного баса, с которым я и после встречался, но уже на оперной сцене. Фамилия его была Бочкарев, а на сцене он выступал под псевдонимом Вологодский. Он всегда ходил с закинутой назад головой, не спеша и так шагал, что правая стопа становилась не прямо, а вправо, а левая – влево, и в этом было что-то горделивое: в Синодальном хоре стали величать его Графом.
Были и еще хорошие голоса и интересные типы и среди басов, и среди теноров, но воскресить все это сейчас в памяти невозможно. Относительно же себя могу сообщить лишь одну забавную подробность: я был самым молодым среди мужчин-певцов, и мальчики прозвали меня Иваном Царевичем.
Комментарии
Автограф настоящих воспоминаний датирован 24 июля 1973 года. Рукопись, находящаяся у составителей сборника, при подготовке к изданию подверглась редактированию.
Александр Петрович Смирнов
Летом 1909 года Александр Константинович Смирнов, воспитатель в Придворной певческой капелле, обратился к директору Синодального училища А. Д. Кастальскому с ходатайством о приеме в число воспитанников своего восьмилетнего племянника Саши, жившего в Москве (это подтверждают несколько строк из письма Кастальского к X. Н. Гроздову от 20 августа 1909 года – ГЦММК, ф. 370, № 504). В том году среди поступавших мальчиков был большой конкурс, но в конце концов Саша Смирнов оказался в училище. Окончить учение он не смог: события 1917 года застали его при переходе из певческого в регентское отделение, занятия же в Хоровой академии были прерваны призывом в армию. Впоследствии ему пришлось поменять профессию. Но случилось так, что именно Александр Петрович Смирнов стал преданным летописцем своей школы. Исключительное долголетие, при сохранении поразительно острой памяти и интереса к новым людям и меняющейся жизни, сделали Александра Петровича связующим звеном между славным прошлым Синодального училища и хора и возрождением этой славы в наши дни. Кроме того, Александр Петрович был вообще склонен к мемуаристике – в его архиве сохранились фрагменты весьма любопытных воспоминаний о жизненном пути, о разных членах его семьи (отрывки этих материалов опубликованы в «Российской музыкальной газете», 1997, № 12).
Историю своего рода А. П. Смирнов рассказывает в предисловии к воспоминаниям А. К. Смирнова. Сам Александр Петрович родился 8/21 декабря 1900 года в Москве, в семье Петра Константиновича и Екатерины Ивановны (урожденной Шантаровой – ее дед был наполеоновским солдатом, оставшимся в России) в приходе церкви Покрова Богородицы в Кудрине. Отец служил в Синодальной конторе, мать была дочерью железнодорожного служащего. Отец скончался летом 1906 года, дед – на следующий год, после чего мать осталась с двумя сыновьями, Николаем и Александром. Семья получала очень скромную пенсию, и мать зарабатывала на жизнь шитьем. Летом 1909 года она тяжело заболела. Именно в это время А. К. Смирнов и обратился к Кастальскому с просьбой об устройстве племянника. Осенью Александр был определен в Синодальное училище, а Николай – в ремесленное училище имени Шелапутина на 1-й Миусской улице. Кстати, подобно младшему брату, Николай Смирнов тоже проявлял художественные склонности и даже подрабатывал одно время статистом в Малом театре.
Февральскую революцию Александр Петрович встретил в Москве, а за два дня до петроградского «октябрьского путча» (выражение мемуариста) выехал в Таловую Воронежской губернии к родственникам. Об этом периоде Смирнов пишет в заметках «К семейной хронике»:
«Во второй половине августа 1917-го я вернулся с практики в Москву. Все лето я провел в селе Вичуга Костромской губернии, где занимался преподаванием пения в заводской школе и вел хор в местном храме в должности помощника хормейстера, а также заменял своего шефа на время его отъезда в Одессу... Ввиду продовольственного затруднения и развернувшихся событий в стране, мое Синодальное училище... не могло быть открытым с сентября, и занятия откладывались на январь следующего года. Попытка найти временную работу и оставаться в Москве не имела успеха, и встал вопрос о моем выезде на время до открытия училища к родным в Воронежскую губернию».
В январе 1918-го занятия в училище не были возобновлены, и Смирнов вернулся в Москву лишь летом этого года. Он начал посещать занятия в Хоровой академии, но был призван в армию и, говоря его словами, «время Гражданской войны и последующих лет (1920–1922) находился в Екатеринославле, приезжая в командировки в Москву». В 1926 году он был «сокращен» из армии; в 1927-м окончил Промышленно-экономические курсы, учрежденные А. А. Паршиным, и начал работать в «Международной книге», продолжая образование на Высших счетно-экономических курсах имени В. А. Аванесова. В 1932-м он перешел на работу в Росканцсовет, в 1939–1941 годах был начальником финансового отдела Республиканского треста школьно-письменных принадлежностей.
С 23 июня 1941 Смирнов находился на службе в Военно-Морском флоте (в 1943-м – капитан интендантской службы Туапсинской военно-морской базы, в октябре 1945-го – майор Финансового управления ВМФ). После окончания войны он остался на военной службе, выйдя в отставку в 1961 году в звании полковника.
В послевоенные годы Александр Петрович стал одним из самых активных членов братства «синодалов»; особенно близкими ему людьми были хормейстеры В. П. Степанов, С. А. Шумский, К. М. Лазарев, Н. С. Данилов. С начала 1970-х центром притяжения для «синодалов» стал Музей-квартира Н. С. Голованова на Брюсовском переулке: Николай Семенович Голованов не просто чтил память Синодального хора, которым регентовал в молодости, но и сохранил в своем огромном архиве много ценных материалов, касающихся училища и хора. Хотя мысль о создании воспоминаний, по-видимому, давно владела Смирновым, реальный выход она получила впервые тогда, когда один из составителей сборника «Памяти Н. М. Данилина», сотрудник головановского музея А. А. Наумов предложил Александру Петровичу написать о подготовке к исполнению Всенощного бдения Рахманинова. Появление этой публикации побудило Смирнова продолжить целенаправленный сбор материалов о Синодальном хоре и училище: он встречался и переписывался с разными людьми, накапливал в своей библиотеке соответствующие издания.
Следующий этап создания воспоминаний относится, вероятно, к концу 1980-х годов. Летом 1989-го Александр Петрович написал, по просьбе Людмилы Константиновны Розовой, воспоминания о ее отце – Великом Архидиаконе Константине Розове. В письме к Л. К. Розовой от 4 июля 1991 года Александр Петрович рассказывает: «...Рывками пишу о своей школе. Сейчас написана история училища, известная по книге Металлова и по воспоминаниям современников, а дальше – время моего пребывания в Синодальном училище и хоре, то есть с 1909 и до конца 1917 года. Далекое всегда бывает близким в буквальном и переносном смысле, и поэтому я не только вспоминаю, но и оцениваю те или иные события моего времени. Пишу и не очень рассчитываю на огласку моих воспоминаний и размышлений...
Живу я с сознанием своих больших лет с одной стороны и своего одиночества – с другой. Вот как «увязать» одно с другим, чтобы в итоге не получился бы казус? Это тоже тема, требующая решения». (Письмо из личного архива Л. К. Розовой.)
Мемуарная деятельность Александра Петровича была в последние годы его жизни поддержана интересом к его любимой теме со стороны музыковедов и исполнителей, а главное, воскрешением в России духовно-музыкального исполнительства. Он не мог уже выходить из дома, но слушал трансляции концертов и передачи по радио, обсуждал и оценивал услышанное. В результате появились очерки о Кастальском, Данилине, Голованове и разного рода вставки в ранее существовавший текст воспоминаний. Дополнением этого текста Александр Петрович занимался буквально до конца своих дней, и когда не мог писать – рассказывал все, что вспоминалось.
Ценность воспоминаний А. П. Смирнова – не просто документальная: в совокупности они воссоздают атмосферу его любимой школы, воспроизводят определенный склад мыслей и чувствований – мировоззрение, вырабатывавшееся в стенах Синодального училища. В структуре данного сборника воспоминания Смирнова являются как бы продолжением «Воспоминаний» С. В. Смоленского, то есть связного, хронологически последовательного рассказа о жизни училища и хора. Очень важно то, что в воспоминаниях Смирнова отражен самый поздний – и, несомненно, кульминационный – этап их истории. Не менее значительны страницы, посвященные судьбам «синодалов» после 1917 года, – они образуют своего рода эпилог к истории огромного явления в русской культуре.
Воспоминания о Синодальном училище и хоре
В былые времена хоровое пение на Руси было распространено повсеместно. В многочисленных храмах звучала духовная музыка, причем исполнителями ее выступали не только профессионалы, но и любители, для которых пение на клиросе было делом почетным. Среди руководителей хоров тоже встречались энтузиасты-самородки, готовые петь службы при самом скромном составе хористов. Большие города были поделены на приходы, и каждый приход старался, чтобы в его храме был хороший священник – человек высокой нравственной жизни и красноречивый проповедник, – голосистый дьякон и, конечно, хор. Немало было и таких любителей церковного пения, которые постоянно ходили по разным церквам, слушали хоры и сравнивали их между собой. Обычно, если у кого-нибудь из прихожан данного храма обнаруживался голос и музыкальные способности, его приглашали на клирос. Немало случаев, когда для знаменитых потом певцов начальной ступенью становился именно церковный хор: достаточно назвать Ф. И. Шаляпина, Л. В. Собинова, В. Р. Петрова, С. Н. Стрельцова, С. И. Мигая, Е. А. Степанову, Е. В. Шумскую. Многие из них и впоследствии время от времени не только пели сольные партии в церковных композициях, но и становились в хор, желая «выровнять» свое пение в общем звучании469. Подготовка церковных дирижеров – регентов велась в специальных учебных заведениях; долгое время – в петербургской Придворной певческой капелле, а с конца 19 века центром регентского образования стало московское Синодальное училище. Регенты-практики, не имевшие специального образования, проходили испытания для получения звания регента первого или второго разрядов470. Немало церковных хоров, руководимых талантливыми регентами, оказывались способными исполнять не только простое обиходное пение, но и сложные композиции. Особенно много таких хоров было в Москве, центре духовно-певческой культуры России. И главный среди них – конечно, знаменитый Синодальный хор.
...Это было в 1933 году. Мой собеседник, человек значительно старше меня по возрасту, большой ценитель хорового искусства, сказал: «Вам уже никогда не услышать того, что слышал я, – ведь я слышал Синодальный хор. Помню, пришел на концерт в Большой зал консерватории. Концерт уже начался, я тихо вошел и остолбенел от необыкновенного звучания. Помню, исполнялось песнопение «Блажен муж». Я так и стоял, не шевелясь, пока звучал хор». Мне ничего не оставалось, как рассказать этому любителю о моем участии в Синодальном хоре и о Синодальном училище.
Меня привели в училище осенью 1909 года, и было мне тогда девять лет. Помню, на вступительные испытания, проходившие в Большом зале училища, собралось много родителей с детьми. Немало ребят из московских городских школ мечтали попасть в Синодальный хор, тем более что учителями пения у них часто бывали выпускники Синодального училища. Каждый год на испытания приезжали родители с сыновьями из разных городов России, так что состав учащихся представлял не только Москву, но и провинцию471. У меня в классе были, например, ученики с Украины, из Абхазии. В Синодальное училище поступали дети из разных, а преимущественно из бедных общественных слоев. Например, мой соученик, впоследствии известный оперный и симфонический дирижер Миша Жуков пришел на пробу голосов босиком. Его мать была уличной торговкой, а сам Миша пел в хоре монастыря у Покровской заставы. Там его услышал один из взрослых певчих Синодального хора и посоветовал матери отвести мальчика в училище. Из очень простых, бедных семей происходили регенты Данилин и Голованов. Некоторое преимущество при поступлении оказывалось у детей духовенства, церковного клира. Обычно они приходили лучше подготовленными, знали грамоту: таких брали в старшее отделение приготовительного класса, а неграмотных – в младшее472. Проба проходила очень быстро и просто: один из экзаменующих брал на рояле отдельные тоны, а мальчики должны были повторять их голосом. Способности принятых мальчиков выяснялись при обучении, и тогда по мере надобности производился отсев473.
В тот год, когда я поступал, в зале собралось человек 300–400 детей и родителей. Экзаменовавшие сидели на сцене Большого зала, за столом, покрытым зеленым сукном. Среди них я помню ясно Семена Николаевича Кругликова и Александра Дмитриевича Кастальского. Потом, уже учеником, я заглядывал на эти пробы: нам было интересно, какие новенькие придут в училище. В приготовительный класс брали человек тридцать; примерно двенадцать учеников – в старшее отделение, остальных – в младшее.
В мое время училище состояло из девяти основных классов и одного приготовительного, делившегося на два отделения – старшее и младшее. Учащиеся находились на полном пансионе и постоянно жили в училище, в том числе москвичи. Отлучки из училища для москвичей составляли всего несколько часов в неделю (в воскресные дни, от обеда до ужина), иногородним поездки домой разрешались только летом. Некоторые из москвичей, по желанию родителей, тоже могли проводить летний отпуск дома, но все равно должны были являться в училище в дни церковных служб474. Большая же часть учащихся уезжала на лето с воспитателями и педагогами на дачу в Новый Иерусалим, где ребята и отдыхали, и продолжали хоровое образование. Точнее, в Новый Иерусалим мы стали ездить с 1911 года, а летом 1910-го, помню, ездили по разным подмосковным монастырям, где жили примерно по неделе и совершали многочисленные экскурсии (мне особенно запомнились Никол о-Угрешский монастырь и Троице-Сергиева лавра). Проживание, питание, одежда – все было, как говорится, на казенный счет. Изредка в училище принимали вольнослушателей, которые платили за обучение (в числе таковых я помню духовного композитора и регента Якова Александровича Чмелева); бывало, тоже не часто, что учащиеся приходили прямо в старшие, регентские, классы.
Размещалось Синодальное училище в собственном трехэтажном здании, весьма рационально устроенном для учебного процесса, для концертов хора, а также для общежития учащихся. В том же владении на Большой Никитской находился четырехэтажный корпус для квартир педагогов, воспитателей, четырех регентов и некоторых взрослых певчих. В мое время этих певчих было тридцать человек разного возраста, и жили они в основном в доме на Воздвиженке, принадлежавшем Успенскому собору475.
Я попытался зарисовать расположение училищных помещений так, как оно запечатлелось в моей памяти.
На первом этаже основное место занимали классы для подготовки учениками музыкальных уроков. Там же, в классах побольше, шли занятия по сольфеджио и чтению хоровой партитуры. На первом этаже помещались библиотеки, в том числе научно-музыкальная библиотека рукописей, созданная С. В. Смоленским, учительская, гардеробы, кухня, швейцарская и т. д.
Повседневная жизнь учащихся сосредоточивалась главным образом на втором этаже, где преподавалось большинство предметов, устных и письменных. В классах второго этажа роялей не было, только в одном помещении стояла фисгармония. На этом этаже располагались Большой и Малый залы училища; здесь же на стенах и в витринах были развешаны и разложены документы, отражавшие историю училища и хора – фотографии и программы зарубежных поездок, рекомендательное письмо П. И. Чайковского, решившее назначение В. С. Орлова регентом хора, а также бюсты Смоленского и Орлова. Все это в революционные годы погибло безвозвратно.
Большой зал предназначался для спевок и концертов хора, репетиций школьного оркестра (им в мое время руководил Голованов), для торжественных актов. Здесь же проходила подготовка к всенощным и сами всенощные в зимнее время: в этих службах пел ученический хор, состоявший из младших и старших, уже спавших с голоса учеников. Большой зал обладает замечательной акустикой, и потому в нем охотно выступали разные исполнители. Помнится, каждое воскресенье на утренних концертах в зале играло знаменитое трио Шора476. За эстрадой располагалась библиотека певческих партитур, а перед входом в зал – регентская комната.
Малый зал предназначался в основном для отдыха учеников и приготовления уроков – «зубрежки». Акустика его была посредственная, поэтому спевки проходили здесь только в исключительных случаях. Однако именно в этом зале была совершена последняя училищная всенощная под Вербное воскресение 1917 года (об этом я расскажу позже).
Размещение классов на втором этаже было постоянным, традиционным. Изменения могли касаться лишь третьего–пятого классов и выпускного, девятого (в зависимости от количества учащихся в этих классах). Так же сразу, в начале года определялось место каждого воспитанника в столовой, в спальне, в парах, которыми мы ходили на молитву, на обед, на службы (только соседа по парте мы могли выбирать самостоятельно).
В глубине второго этажа располагалась столовая, и от нее лестница вела на третий этаж. Почти весь этаж был занят огромной спальней учащихся, и только небольшая часть его отводилась под цейхгауз, бельевую, сапожную, комнату для хранения личных вещей иногородних учеников, портновскую мастерскую. Там же находились: кабинет физических приборов для уроков по природоведению, несколько комнат обслуживающего персонала и квартира помощника эконома, причем одна из дверей этой квартиры вела на хоры Большого зала.
Распорядок дня в мое время был такой: 6 час. 15 мин. – подъем, уборка постелей, утренний туалет, молитва; 7 час. – завтрак; 7 час. 30 мин. – полчаса для повторения уроков; 8–12 час. – четыре урока; 12 час. – обед, после которого до 14 час. – отдых на свежем воздухе; 14 час. – индивидуальные уроки по фортепиано, скрипке, виолончели, а также подготовка домашних заданий (в музыкальных классах и в Малом зале); 16 час. – чай, а за ним – спевка хора, продолжавшаяся два часа с перерывом для отдыха; после окончания спевки – снова приготовление уроков; 20 час. 30 мин. – ужин, полчаса на чтение, а затем молитва и сон477.
Ежедневно без четверти семь утра все учащиеся, каждый на своем, строго определенном месте, становились в Малом зале на молитву и спокойными голосами исполняли обычные песнопения доступным для всех унисоном. В восемь часов в Большом зале начинался ежедневный урок постановки голоса для учеников приготовительного класса; потом у того же класса следовали уроки сольфеджио и церковного пения. Сразу осуществлялось совмещение трех направлений учебного процесса: музыкального, общеобразовательного и религиозного.
Сочетание программы обучения с пением в хоре было делом очень и очень нелегким, особенно в певческом отделении, то есть с первого по пятый классы. Отсев учащихся был большой. Так, на моем курсе из двадцати восьми учеников приготовительных классов к 1917 году осталось в училище всего десять; остальные по разным причинам – ранняя потеря голоса, отсутствие дирижерских способностей, неуспеваемость – были отчислены. Изредка случались также отчисления из-за плохого поведения или по желанию родителей. Из моих оставшихся десяти соучеников только двое дошли до седьмого класса без задержки; с повторением одного класса – трое; остальные пятеро дважды и даже трижды оставались на второй год. Воспитанники, получившие по результатам года три неудовлетворительных балла, оставались на второй год; получившие один или два таких балла держали экзамен осенью.
Помню, в третьем классе мне пришлось держать экзамен по предмету «церковное пение». В Большом зале, перед эстрадой, за столом, покрытым зеленым сукном, сидела комиссия во главе с директором А. Д. Кастальским. Я после вызова подошел к столу, и мой педагог Николай Нилыч Толстяков сначала велел мне прочитать наизусть написанный ранее реферат о церковной музыке, затем – спеть указанные им попевки знаменного роспева и, наконец, пропеть целиком песнопение «Блажен муж». Вручив мне камертон, Николай Нилыч сказал: «Начнешь от соль». Отмахивая правой рукой такт – то на-два, то на-три и на-четыре (тактирование знаменных песнопений требует большого навыка и, главное, памяти), я спел. В результате Кастальский поставил мне «пятерку», а Толстяков остался при своем прежнем мнении и поставил «двойку». Общий итог получился – «четыре». Мне кажется, Толстяков за что-то меня недолюбливал; во всяком случае, я чувствовал это во все время пребывания в училище. Такое иногда случалось с разными учениками.
Считалось, что самые трудные классы – четвертый и пятый. И в самом деле, в этих классах для подготовки уроков очень часто не хватало времени. Доходило до того, что ночью, в одних носках, держа в руках легкие сапожки, мы тихо покидали спальню и спускались с третьего этажа в учебные, а иногда и в музыкальные классы. Особенно много забот доставляла нам подготовка уроков по русскому языку, преподаватель которого Н. Н. Сокольский был очень строгий, хотя справедливый и объективный. Обычная у него отметка была «тройка», но легко можно было схватить и злополучную «двойку», которой мы сильно боялись. Подобная повышенная требовательность явно наносила ущерб подготовке по музыкальным предметам, на что Николаю Николаевичу указывал прокурор Ф. П. Степанов.
Чтение хоровой партитуры являлось едва ли не главным предметом и в певческом, и в регентском отделениях. В четвертом и пятом классах мы изучали обиходные песнопения, исполнявшиеся на клиросе без нот. Нужно было уметь сыграть на фортепиано песнопения всех восьми гласов, употребительные песнопения Великого Поста и праздников (включая, например, пасхальное «Ангел вопияше» Бортнянского), и сыграть в трех тональностях кроме основной, на полтона выше и на полтона ниже. В отношении темпа, динамики и выразительности наша игра должна была соответствовать исполнению данного песнопения Синодальным хором на клиросе.
Одно время этот предмет вел в певческом отделении К. Н. Шведов. Но на уроках уставного пения Н. С. Голованов обнаружил недостаточное умение учеников сыграть на фортепиано обычные обиходные песнопения, и чтение хоровой партитуры передали Н. М. Данилину. Николай Михайлович проводил уроки и в старших классах, и в певческом отделении, что весьма повлияло на успеваемость. В регентском отделении изучали авторские композиции из репертуара Синодального хора. Нередко ученики этого отделения, уже не певшие в хоре, расспрашивали младших о нюансах, с которыми исполнялось то или иное сочинение: расхождение могло вызвать замечание преподавателя. Успешное овладение предметом «чтение хоровой партитуры», конечно, требовало хорошей подготовки по фортепиано: без полного владения инструментом не может быть настоящего хормейстера, примером чему был для нас сам Данилин – незаурядный пианист, блестяще читавший ноты «с листа».
Фортепиано мы начинали заниматься с приготовительных классов (уроки вели ученики шестого класса под надзором педагога), а скрипкой – со второго класса (тем же порядком, с семиклассниками)478. Я учился по скрипке у Александра Карловича Метнера, брата композитора: он был высокого роста, худощавый, красивый; нас редко ругал, старался чаще хвалить.
Изучение обиходного пения начиналось в первом классе и продолжалось два года, причем особое внимание обращалось на четкое произношение текста. Подобное требование относилось ко всем песнопениям, будь то стихира, тропарь или еще что-либо. На занятиях по предмету «церковное пение» мы изучали осмогласие – пение на восемь гласов. Это нелегко, поскольку звуковой материал у каждого гласа свой, но абсолютно необходимо для каждого исполнителя церковных песнопений. Пением «на гласы» достигалась стройность, слаженность звучания хора. Характерно, например, что один из воспитанников училища, солист Синодального хора Василий Алексеев, будучи уже в 1950-х годах руководителем хорового ансамбля Прикарпатского военного округа, на репетициях нередко обращался к пению «на гласы», чем, с одной стороны, выравнивал звучание хора, зато с другой – вызывал нарекания политорганов (в конце концов его перевели подальше на Сахалин).
«Простое» – обиходное, гласовое пение в исполнении Синодального хора отличалось особой молитвенностью. На клиросе солирование исключалось, и только в концертах, в исключительных случаях хор исполнял произведения с солистами Кастальского и Чеснокова: пели А. В. Нежданова и Л. В. Собинов. В зарубежных поездках сольные партии исполняли артист Большого театра X. В. Толкачев и окончивший Синодальное училище Н. Д. Чумаков, в двух первых концертах Всенощной Рахманинова солировал тенор С. П. Юдин. Премьера Литургии Рахманинова выявила необыкновенный по тембру голос мальчика-сопрано Ильи Шорина: рахманиновское «Тебе поем» с его соло неизменно вызывало восторг и просьбы повторить это прекрасное, одухотворенное песнопение479. Да и сейчас рахманиновское «Тебе поем» – едва ли не самое любимое публикой песнопение, только очень редко можно его теперь услышать с соло мальчика: обычно звучит женский голос, что, несомненно, нарушает замысел композитора.
Сама направленность нашего певческого образования в училище отвечала репертуару Синодального хора: изучение осмогласия, попевок знаменного и других традиционных роспевов способствовало быстрому и правильному освоению как обихода, так и новых произведений русского духовно-музыкального творчества. Помогало этому и прекрасное владение сольфеджио – о «синодалах» в музыкальной среде всегда говорили как о лучших сольфеджистах. Неудивительно поэтому, что, например, один из концертов Бортнянского Синодальный хор разучил за один час спевки и вслед за тем сразу же исполнил это сложное произведение для студентов Московской духовной семинарии (за что был награжден восторженными аплодисментами). Всенощная Рахманинова была разучена за три-четыре недели; впоследствии Государственный хор под управлением А. В. Свешникова готовил это произведение чуть ли не семь лет. «Вечная память» Кастальского была исполнена в концерте после одной спевки; с одной же репетиции пели литургию и отпевание А. Н. Скрябина480.
К сожалению, существующие записи Синодального хора лишь в очень малой степени соответствуют действительности. Эти шесть пластинок были сделаны в то время, когда хором руководил Кастальский, и помещены на них главным образом сочинения самого Александра Дмитриевича. Бывшему певчему Синодального хора слушать эти записи тяжело и обидно: получается полная профанация искусства хора. В 1975 году один из участников этой записи, И. М. Смыслов, рассказывал мне о том, как ее осуществляли. Он говорил, что долго не ладилось размещение певцов перед несколькими раструбами записывающих устройств. Многочисленные «примерки» не давали желаемого результата. Обычная расстановка Синодального хора – по пультам внутри каждой партии – при записи была невозможна; певцов расставили «квартетами»481. Ведь даже более поздние записи Неждановой, Шаляпина, Собинова, протодиакона Розова не полностью отражают действительное звучание их голосов. А про хоровое пение и говорить нечего...
Но я уклонился от рассказа о том, как нас учили. Азы певческого искусства закладывались на уроках постановки голоса в приготовительном классе. Эти уроки проходили всегда в Большом зале, и вел их в течение многих лет Петр Васильевич Власов, певец-баритон, в прошлом участник Синодального хора и даже одно время помощник регента. С утра приготовишки выстраивались у рояля, и начинался урок. Пели вместе и по одному, причем главное внимание уделялось правильному дыханию. Дышать нужно было обязательно животом; если кто-нибудь при пении поднимал плечи, Власов подходил и стукал по плечам: он запрещал «дышать верхом». Я думаю, это было правильно: в результате певцы Синодального хора оказывались способными выдерживать очень длительные ферматы. Дыхание Власов ставил прекрасно, а вот неокрепшие мальчишеские голоса частенько «срывал», превышая в упражнениях наши возможности либо неправильно определяя характер голоса – сопрано или альт. В результате из приготовительного в 1-й класс переходили далеко не все. Когда я был в 1-м классе, Власова временно заменили итальянским учителем пения Домарко, но дело не пошло, и Власов вернулся. Он оставался в училище до его последнего дня, потом работал в Хоровой академии, а после ее роспуска стал преподавать в детской музыкальной школе в Чухлинке под Москвой (там же осел и еще один «синодал» – Александр Алмазов)482.
Дальнейшее развитие голоса у малолетних певчих происходило на уроках сольфеджио в первом и втором классах, которые вел Данилин. Об этом я рассказываю в отдельном очерке о нашем главном регенте. И еще: в любое время тебя могли вызвать на пробу голоса, и к этому следовало всегда быть готовым.
В том же Большом зале ежедневно, кроме субботы, проходили спевки Синодального хора. Руководили ими в мое время Н. М. Данилин и его помощники: довольно часто Н. С. Голованов и реже регенты левого клироса Н. Н. Толстяков и В. П. Степанов. В ожидании дирижера мальчики сидели в креслах, а взрослые певчие собирались за эстрадой, в певческой библиотеке.
В разучивании новых произведений выделялись четыре ступени. Сначала дирижер проигрывал на рояле произведение целиком, а певчие следили за текстом по партитуре. Тут я хотел бы напомнить об одной из традиций нашего хора – работе по литографированным партитурам. Написанные от руки, четким почерком, крупным шрифтом, эти партитуры сильно отличались внешне от обычных печатных изданий483. С детских лет глаз певца привыкал к таким нотам, и эта привычка поддерживалась на уроках чтения хоровой партитуры. Внедрению литографий способствовала обычная практика Синодального хора – исполнение новых произведений до отправки их в печать. И если хор все- таки должен был петь по печатной партитуре, то изучение произведения шло непривычно тяжело, и это отражалось в конце концов на качестве исполнения. Полагаю, между прочим, что хотя бы отчасти с этим связана неудача Всенощного бдения Гречанинова: произведение было разучено и спето один раз под управлением Голованова, и больше хор к нему не возвращался484. Наоборот, разученная по литографированным нотам Всенощная Рахманинова осваивалась, как я уже говорил, быстро и легко. Само собой разумеется, что в Синодальном хоре не признавалось разучивание какого бы то ни было произведения по хоровым партиям: все были твердо приучены к работе только по партитуре; у нас была потребность не только петь свое, но и следить за всеми другими голосами.
На второй ступени разучивания произведения хор пропевал его с текстом, в замедленном темпе, без нюансов. Иногда практиковалось пение отдельными партиями и даже отдельными пультами. Это была самая ответственная и продолжительная часть работы.
На третьей ступени разучивания произведение пропевалось с соответствующей выразительностью, частично уже с отрывом от звучания фортепиано. На четвертой ступени шла окончательная шлифовка исполнения без инструмента.
Во время спевок Синодальный хор выстраивался перед дирижером по прямой линии с двумя поворотами на концах. Впереди стояли мальчики, сзади – взрослые певчие; справа от дирижера дисканты и тенора, слева – альты и басы; между тенорами и басами помещались октависты. На поворотах с одной стороны стояли вторые дисканты и вторые тенора, с другой – вторые альты и баритоны. Партии разделялись на пульты: за каждым пультом – по четверо-пятеро мальчиков и по трое-четверо взрослых певцов. На спевках перед этими группами действительно стояли пульты – массивные деревянные пюпитры (один из них можно увидеть в Музее-квартире Н. С. Голованова). На концертах развернутые партитуры держали два мальчика, стоявшие впереди в своем пульте. Рояль на спевках помещался между сопрано и альтами, впереди октавистое. Во время концертов на эстраду выходили пультами, от середины хора к краям, то есть сначала первый пульт дискантов и первый пульт альтов, потом второй пульт дискантов и второй альтов и так далее; замыкали выход октависты. Размещение певцов по пультам происходило один раз в году – на первой спевке хора перед храмовым праздником Успенского собора: в этот день хор пополнялся новыми малолетними певчими. На концертах между мальчиками и взрослыми оставался узкий проход, по которому медленно шел хормейстер, голосом задавая тон перед каждым песнопением. Дирижерской палочкой наши регенты не пользовались, а держали в руке камертон (и на клиросе, и на концертах). Он был своеобразной формы, с широкими концами. По традиции такой камертон вручали каждому выпускнику Синодального училища.
Во время спевок в зал никто не допускался. Исключения были редки. Запомнилась мне репетиция с Антониной Васильевной Неждановой.
Это было, кажется, в 1915 году. Готовился концерт в зале Дворянского собрания в пользу раненых – его устраивала великая княгиня Елизавета Федоровна, и в этом концерте Нежданова должна была исполнять с хором сочинение П. Г. Чеснокова «Ангел вопияше». И вот как-то в воскресенье, после литургии в соборе, нас отправили в Большой зал училища. Там в креслах сидела Нежданова с каким-то пожилым военным. Когда хор выстроился на эстраде, она встала рядом с нами, и вместе мы спели первую и третью части чесноковской композиции (в средней части солирования нет, и мы ее не репетировали). Спускаясь обратно в зал, Антонина Васильевна повторяла: «Это же чудесно! Бесподобно!» А мы остались очарованными ее голосом. Помню, я был так потрясен, что чуть ли не неделю не мог учить уроки. Впоследствии я много раз слушал Нежданову в концертах и в театре, но первое впечатление получилось самым сильным. Нежданова была единственной женщиной-певицей, которая могла петь с Синодальным хором. Кроме обаяния голоса, тут было еще обаяние ее личности. Мы считали Антонину Васильевну «своей», поскольку нередко видели ее на службах в Успенском соборе: она тихо становилась рядом с клиросом и после службы приветливо здоровалась с нами. В том же благотворительном концерте в песнопении Кастальского «Чертог Твой» первый и последний раз солировал Л. В. Собинов. Это выступление прошло не совсем удачно, поскольку Леонид Витальевич взял свое соло, с которого начинается это произведение, не в том тоне. Вероятно, хор мог бы продолжать в заданной им тональности, но Данилин предпочел остановить исполнение и заново начать. Собинов больше с нами не пел, а Нежданова солировала также в другом, очень известном произведении Чеснокова – «Величит душа моя Господа»485.
* * *
Наши родители часто говорили нам: «Помните, ребята, в какой замечательной школе вы учитесь». Тогда мы, любя свою школу, все же не могли в полной мере осознавать ее уникальность.
С годами это становилось яснее.
Мы жили в жестком режиме, однако с бурсой Синодальное училище не имело ничего общего: наш трудный режим не был навязанным извне – он был традиционно-обязательным и творческим. Дисциплина поддерживалась самим учебным процессом, пением в хоре, участием в службах. Дело обходилось без особых строгостей и «срывов» со стороны преподавателей. Каждая наша минута была расписана, и потому нам было не до шалостей. Беготня по коридорам наблюдалась лишь там, где учились малыши; все остальные были слишком заняты.
С самого начала, с приготовительного класса ребят приучали к дружбе, взаимовыручке на уроках и в быту. О каких-либо бурсацких наклонностях в поведении мальчиков – именно так нас всегда звали: «мальчики» – не могло быть и речи. Школа находилась на прекрасном обслуживании хозяйственного персонала, ученики – под неотступным, круглосуточным наблюдением трех «дядек» и четырех воспитателей. Воспитателей и педагогов мы величали по имени и отчеству, а «дядек» – ласкательными именами: Егорушка, Данилушка, Афоня. Такая ласковость в обращении друг с другом тоже являлась традицией училища. У нас были «деды», но совсем другие, нежели теперешние армейские: они защищали младших и жалели их. Например, местом наказания у нас была лестничная площадка, та, где теперь стоит бюст Рахманинова. Когда ты попадал туда на «стояние», никто не смеялся, не дразнил, а старшие подходили и сочувственно спрашивали: «За что сюда угодил?» Наши воспитанники вообще были не по годам солидны: ведь уже с четвертого класса мальчики-певчие становились ответственными за свою партию в хоре, некоторые выдвигались в вожаки партии, наставники новичков. Учащиеся регентского отделения, уже прекратившие пение в хоре, вели в обязательном порядке занятия с приготовишками по фортепиано и со второклассниками по скрипке, а также исполняли дирижерские обязанности в ученическом хоре и в училищном оркестре486.
В течение всех одиннадцати лет пребывания в училище из нас воспитывали не только певцов или регентов, но также хороших, умеющих трудиться людей. Мы твердо знали, каким должен быть человек и каким не должен. Не должен быть злым, не должен быть жадным, завистливым. Полагалось всем делиться со всеми. И если мне приносили хотя бы два яблока, я делил их на всех товарищей. Особенно заботились о тех, чьи родители жили не в Москве и не могли часто навещать своих детей. Конечно, в училище приходили разные ребята, встречались и трудные характеры – драчуны, задиры, но эти неровности сглаживались в общей атмосфере требовательности, честности и доброжелательности. И конечно, атмосфера училища непосредственно отражалась на нашем пении.
В училище соблюдались установленные православной церковью постные дни (среда и пятница) и посты. Наш учебный год строился в соответствии с церковными праздниками. Перед началом каждого большого поста нас угощали пирожными – получалось своего рода заговенье; каждое воскресенье подавалось какое-нибудь особенное сладкое: горячий шоколад с бисквитами, фруктовое желе, яблоки, арбузы. В будние дни постов на обед бывало три блюда, и особенно запомнились мне левашники – яблочные пироги. Первая, четвертая и последняя недели Великого Поста отличались строгостью, но голода мы никогда не чувствовали: наша пища всегда была сильной, здоровой487.
У нас был прекрасный законоучитель – Виктор Иванович Кедров, впоследствии секретарь патриарха Тихона, погибший за свои убеждения. Исповедовались и причащались «синодалы» на первой и последней неделе Великого Поста в кремлевском храме Николы Гостунского, что в колокольне Ивана Великого. В дни причастия литургию служили специально для нас, и пел за ней ученический хор без взрослых певчих. Своего духовника, протоиерея Воздвиженского, мы уважали и любили; он служил для нас литургии у Николы Гостунского и училищные всенощные. Исповедуя, он всегда спрашивал: «Что, младших обижаешь?» – «Грешен, батюшка», – отвечали мы как положено. – «Воспитателей не слушаешься?» – «Грешен, батюшка». – «А вот этого нельзя: старших не слушать, младших обижать. Помни: Каин Авеля убил. Это ж грех». «Каин Авеля убил» – мы помнили твердо и всегда ждали, когда наш духовник произнесет эти слова. Помню тоже, после причастия мы все подходили к столику, за которым стоял один из наших «дядек». Он каждому давал просфору и «запивку» (теплый разведенный церковный кагор), и мы, бывало, все просили: «Афоня, ну, подлей мне еще».
На Рождественские праздники у нас были свои обычаи. Мы имели право закрыть двери своего класса и заняться его украшением. Нам выдавали цветную бумагу разных сортов, клейстер и прочее, и мы делали украшения на двери, на стены, на лампы. Устраивались школьные вечера с огромной елкой, ставились спектакли. В 1911 году, например, была поставлена детская опера Гречанинова «Елочкин сон»; в другие годы ставились драматические спектакли – «Скупой рыцарь» Пушкина, «Свадьба» Чехова, причем женские роли тоже исполняли ученики. В дневные часы в Большом зале давали концерты наши училищные оркестр и хор.
У училища были заботливые попечители. Как, например, баловал нас один из попечителей, фабрикант Варгин! Он регулярно доставлял в школу сладости и многочисленные спортивные принадлежности, которые бывали нам очень полезны в часы отдыха. Им же абонировались в Большом театре две ложи, и каждый из воспитанников имел возможность посетить несколько спектаклей классических опер, послушать выдающихся певцов. Помнится, я слышал Нежданову, Степанову, Петрова, Лабинского, а также начинающую Обухову в «Китеже» Римского- Корсакова488.
Без другого нашего попечителя – прокурора московской Синодальной конторы Филиппа Петровича Степанова так же невозможно представить себе Синодальное училище тех лет, как и без директора Кастальского. В отличие от Кастальского, имевшего квартиру при училище, Степанов жил на Воздвиженке, но в училище бывал ежедневно, находился в курсе всех дел и, зная в лицо каждого учащегося, постоянно следил за нашими успехами. На спевках хора Степанов не бывал, только однажды несколько минут слушал репетицию рахманиновской Всенощной. Во время служб в Успенском соборе он стоял за правым клиросом, вблизи раки св. митрополита Филиппа, а по окончании отправлялся в раздевалку певчих, где его тут же окружали мальчики: для них Филипп Петрович был не «высоким начальством», а доступным и любимым наставником489.
Степанов был среднего роста, плотного телосложения, сильно хромал. В летнее время, когда большая часть учеников проводила каникулы в Ново-Иерусалимском монастыре, Филипп Петрович жил здесь же в монастырской гостинице и ходил с нами на спортивную площадку, участвовал во всех походах. Всегда кто-нибудь из учеников служил ему опорой при ходьбе, а при переходе реки вброд Филиппа Петровича переносили на самодельных носилках. День его именин, 3 июля по старому стилю, отмечался как праздник: после обеда со сладким блюдом устраивались спортивные игры с выдачей призов, а вечером над рекой Истрой – фейерверк, смотреть который сходились местные жители.
В общении с нами Степанов был прост и откровенен, через него мы узнавали «из первых рук» разные новости о делах училища и хора. Никто никогда не жаловался ему на учителей и воспитателей: этого наше воспитание не допускало. Филипп Петрович любил шахматы, и его постоянным партнером бывал ученик Гавриил Анисимов – к нему Степанов был особенно расположен. Вообще Степанов, давно вдовевший и, по-видимому, одинокий человек, не всегда мог скрыть своего особого расположения к некоторым ученикам, а известно, дети «любимчиков» не жалуют – считают подхалимами и игнорируют их. Потому-то в зимнее время, по воскресным дням, когда Филипп Петрович приглашал ребят к себе в гости, далеко не все пользовались таким приглашением. Чаще ходили иногородние ученики, скучавшие по дому. Помнится, ходил и Сережа Жаров, но он был настолько талантлив и обаятелен, что ему эти визиты не вредили во мнении товарищей. Вообще же в растущую славу Синодального хора, в благополучие училища Степанов вносил весомый вклад: он стойко переносил резкости характера Данилина и улаживал все трудные ситуации. Степанов сочинял церковную музыку (кажется, с некоторой помощью наших регентов): на наших училищных всенощных мы в течение лет двух довольно часто исполняли его песнопения490.
Хотелось бы помянуть добрым словом и наших воспитателей. Особенно запомнился Алексей Николаевич Спасский. Мы всегда ждали его субботнего дежурства: после училищной всенощной он устраивал для нас так называемые «туманные картины» – показ диапозитивов с чтением, преимущественно рассказов Чехова и Льва Толстого («Чем люди живы», «Упустишь огонь – не потушишь» и т. д.). Случилось так, что Алексей Николаевич вынужден был покинуть училище, и когда он прощался с нами, некоторые ребята плакали. Его труд дал плоды: Спасского мы вспоминали через много лет. В его ведении находилась также библиотека, из которой он нам по своему усмотрению выдавал книги для чтения. Правда, на чтение времени оставалось очень мало – всего полчаса перед сном, да и то, устав от дневных забот, мы часто засыпали прямо над книжкой.
Другие воспитатели – Иван Григорьевич Красильников, Николай Сергеевич Ермонский – вечером, когда все мы укладывались в постели, развлекали нас интересными рассказами, а наши добрые «дядьки» ходили в это время между рядами кроватей и смотрели, уснули мы или нет, а если видели кого-нибудь огорченным, расспрашивали и ласково успокаивали. Ермонский, выпускник Московского университета, вообще был разносторонне одаренным человеком. Сын протоиерея Успенского собора, обладавшего исключительной красоты голосом, он унаследовал от отца музыкальность и неплохие вокальные данные. Узнав, что предполагается поездка хора в Рим, он еще за год до нее, с разрешения регентов, начал петь в Синодальном хоре, и пел так хорошо, что в Рим его взяли. Он продолжал педагогическую деятельность и после революции и скончался в возрасте девяноста лет491.
Деликатнейший и добрейший Василий Никанорович Якимов был в училище человеком незаменимым: везде, где надо было «представительствовать» и что-либо «улаживать», посылали Якимова. В училище он в разное время преподавал несколько предметов, а потом, во времена Хоровой академии, остался там управляющим делами. Обычно именно он в конце года оглашал поименно переводы из класса в класс, оставления на второй год и увольнения из училища492. Решения об увольнениях воспринимались тяжело не только увольняемыми, но и всеми нами. У увольняемых они вызывали чувства угнетенности, одиночества, незащищенности. Особенно это было страшно для учеников, которым предстояло перейти из певческого в регентское отделение. Юноши 15–16 лет, недоучившиеся, часто дети бедных родителей, горько переживали расставание с училищем. Во времена директорства Смоленского таких учеников переводили в духовную семинарию, где они получали педагогическое образование. Позже удавалось, с помощью Ф. П. Степанова, устраивать уволенных после 5-го класса на государственную службу, часто – на почтамт.
* * *
Осенью 1911 года очень торжественно отмечался юбилей Синодального училища – 25 лет его существования в реформированном виде. На торжественном акте протоиереем Василием Михайловичем Металловым был прочитан доклад – обзор деятельности училища за этот период. К этому же времени относится открытие бюста главного реформатора, Степана Васильевича Смоленского. Созданный скульптором Андреевым на средства окончивших училище, во главе с П. Г. Чесноковым, этот бюст до 1918 года находился в Большом зале, а потом погиб при пожаре493.
Я хорошо помню эти события. Помню кантату Кастальского «Стих о церковном русском пении», написанную специально для торжественного акта. В ней был очень интересный текст, где говорилось, что наше училище – как море, в которое сбегаются ручейки русского церковного пения494. Помню и панихиду по Смоленскому, которой сопровождалось открытие его бюста. Собралось много взрослых, уже давно окончивших училище людей. Павел Григорьевич Чесноков снял полотно, закрывавшее бюст, и обратился к присутствовавшим с теплой речью. Пел Синодальный хор – то самое простое, обиходное пение, которое он так замечательно умел исполнять. Эго было торжество, но, если так можно сказать, домашнее торжество, полное благодарной памяти о Степане Васильевиче. Хотя никто не читал нам лекций по истории нашей школы, мы, ученики, твердо знали, что Смоленский – основоположник нашей училищной жизни. Мы не употребляли выражение «новое направление», но, наверное, знали его; было в ходу и выражение «новейшее направление», введенное, кажется, петербургским композитором и критиком Николаем Компанейским: он стремился пойти дальше Кастальского и его школы. Мы же, постоянно исполняя духовные композиции русских музыкантов, часто только что написанные, прекрасно различали «своих» и «не-своих» или «не совсем своих». Главным лицом для нас был, разумеется, Александр Дмитриевич Кастальский; безусловно «своими», хотя и «приходящими» – Александр Тихонович Гречанинов (его мы хорошо знали и лично, он всегда держался с нами очень приветливо), Сергей Васильевич Рахманинов – после премьеры его Литургии, Павел Григорьевич Чесноков, коренной «синодал». Были и другие уважаемые и любимые люди495.
С того дня, когда главным регентом Синодального хора стал Николай Михайлович Данилин – с 10 февраля 1910 года – начался новый период в жизни хора, его творческий взлет.
Уже в первый год регентства Данилина, в ноябре 1910 года, хор выступил в концерте с первым исполнением Литургии св. Иоанна Златоуста Рахманинова. Это было важное событие в музыкальной жизни. Хор еще несколько раз исполнял эту Литургию, в частности, в концерте 3 декабря 1915 года; гораздо чаще мы пели отдельные части: «Единородный Сыне», «Да исполнятся», «Тебе поем». Я уже упоминал о феноменальном успехе, каким пользовалось рахманиновское «Тебе поем» с солистом Ильей Шориным в зарубежных концертах хора. В декабре 1915 года солировал младший брат Ильи – Михаил (впоследствии хормейстер Большого театра, автор духовно-музыкальных композиций), но его голос был лишь отчасти похож на неповторимый дискант Ильи. Слушатели, правда, все равно получали глубокое впечатление: соло сопровождало глубокое органное звучание басовой партии, поражали необыкновенные нюансы в последних тактах песнопения.
Еще раз Синодальный хор обратился к творчеству Рахманинова в 1915 году, разучив его Всенощную, – об этом я пишу в отдельном очерке.
В 1911 году хор во главе со своим регентом совершил вторую большую поездку за границу; концерты давались в Варшаве, в Риме, во Флоренции, в Вене, в Дрездене; кроме того, были спеты две литургии в посольских храмах Рима и Вены. В программы было включено несколько десятков произведений разных эпох, от древних роспевов, Титова, Сарти, Бортнянского до Кастальского и Рахманинова. Рецензии зарубежных газет были полны восторженных эпитетов.
В следующем году, с 26 ноября по 12 декабря, состоялась поездка небольшого состава хора в Ниццу, на освящение православного храма во имя святителя Николая. Поездке предшествовала выборочная проба детских голосов, что вообще бывало редко. В результате выбрали девять дискантов и пять альтов, к ним присоединили четырех теноров, одного баритона, двух басов и двух октавистое. Храм освящал епископ Трифон, первый викарий Московской епархии, – архиерей, очень близкий Синодальному хору, знакомый всем нам по службам в Успенском соборе и по его участию в исполнении «Пещного действа», реставрированного Кастальским.
Но главным событием этого периода стала поездка хора осенью 1913 года в Лейпциг на освящение русского православного храма-памятника. Хор ехал в составе сорока двух певцов. Я имел счастье участвовать в этой поездке, и впечатления детства, как это часто бывает, глубоко врезались в мою память.
Кроме церковных служб, предполагались также концерты в Берлине и Варшаве. Помимо Данилина, в поездку отправился и помощник регента Голованов. Официально Николай Семенович ехал в качестве воспитателя и в дороге безотлучно находился с нами, мальчиками. Поездку возглавлял Ф. П. Степанов, нас сопровождал врач И. П. Рождественский.
Мы ехали поездом, а заранее багажом были отправлены в Лейпциг сундуки с «парадами» – нашими праздничными, голубыми с золотым кантом, кафтанами, изготовленными по рисунку В. М. Васнецова. Хор прибыл вовремя, а вот сундуки запоздали. Из-за этого казуса хор не смог принять участие в церемонии переноса праха русских воинов, погибших под Лейпцигом в «Битве народов», из лютеранской церкви в новый православный храм-памятник.
Мы приехали в Лейпциг к вечеру и, разместившись, за ужином встретились с нашим любимым протодьяконом Успенского собора Константином Васильевичем Розовым. Эта встреча сразу всех успокоила и обнадежила. Розов был одет в костюм, которого мы раньше на нем не видали: долгополый сюртук и цилиндр, и одежда подчеркивала его очень высокий рост и могучую фигуру. О том, как поражала иностранцев внешность Розова, пишет в своих воспоминаниях протопресвитер Армии и Флота о. Георгий Шавельский – ему-то и принадлежала инициатива пригласить на торжества в Лейпциг Синодальный хор и Розова. Самого о. Георгия мы тоже знали раньше: он однажды сослужил в Успенском соборе на молебне и всем запомнился. Он был высокий, темноволосый, в золотых очках; служил стройно, неспешно.
На следующий день состоялось освящение храма во имя Воскресения Христова. Литургию мы пропели, как всегда, спокойно, не отклоняясь от устава Успенского собора, словно не уезжали из Москвы. В тот же день была всенощная, по окончании которой к иконостасу подошел великий князь Кирилл Владимирович с адъютантами. Приложившись к иконе, он направился к нам, поздоровался за руку с Данилиным и спросил, сколько лет тот руководит Синодальным хором. Получив ответ: «Два года», великий князь заметил, что хор звучит прекрасно, лучше, чем Придворная капелла. Певчих Синодального хора редко хвалили «в лицо», так уж было заведено, и потому похвала персоны, возглавляющей Лейпцигские торжества, была нам очень приятна.
На второй день, когда наш двухъярусный омнибус направлялся к храму, он вынужден был остановиться из-за перегородившей дорогу толпы: ожидалось прибытие кайзера на открытие немецкого памятника, тоже посвященного «Битве народов». Из толпы раздавались крики, лица людей были далеко не доброжелательными – оставалось всего девять месяцев до начала Первой мировой войны...
Перед литургией состоялась репетиция молебна, и во время ее Данилин сказал нам: «Чтобы поразить гостей, споем «Достойно есть» сербское Кастальского». (Это очень своеобразное произведение исполнялось нами, в отличие от других песнопений, в темпе скерцо.) «Тон будет задан на «Аминь» в тональности «Достойно», – продолжал Данилин, – и пере- задаваться не будет». Когда на спевке дело дошло до «Достойно», последовал взмах руки дирижера – и.… только один из мальчиков-альтов и один из взрослых певчих начали песнопение в нужном тоне. Николай Михайлович сразу увидел и того и другого. На молебне хор, конечно, не повторил этой ошибки.
Литургия шла обычным порядком. Но во время пения запричастного стиха («Во Царствии Твоем» сочинения Чеснокова, солировал Н. Чумаков) царские врата неожиданно отворились, и из алтаря с чашей вышел Розов, готовый произнести соответствующий возглас. Следовательно, хор должен был прекратить пение. Не останавливая нас, Данилин тихо обратился к своему другу: «Костя, уйди!», но «Костя» упорно продолжал стоять. Хор умолк, не кончив песнопения, и сейчас же к клиросу подошел Филипп Петрович Степанов: он напомнил Данилину, что необходимо спустить хор с клироса на пол храма – в присутствие на службе высочайших особ это было необходимое требование. Дело состояло в том, что на молебен после литургии ожидали кайзера Вильгельма и иных высокопоставленных лиц, однако они прибыли раньше времени, ибо кайзер, обычно произносивший на публичных торжествах речи, на сей раз, открывая немецкий памятник «Битве народов», обошелся без таковой (позже нам говорили, что это объяснялось его недоброжелательным отношением к открытию русского памятника). Вышло так, что приход многочисленных гостей совпал с концом литургии – оттого и Розов, которого успели предупредить, вышел из алтаря, не дожидаясь окончания запричастного стиха. На словах «Благочестивейшего, самодержавнейшего...» спустившийся с клироса хор оказался рядом с гостями, в том числе кайзером Вильгельмом и великим князем Кириллом Владимировичем. Рядом с ними стоял эрцгерцог Фердинанд, наследник австро-венгерского престола, – это его убийство летом 1914 года в Сараево послужило предлогом для начала войны.
Молебен, при общей стройности службы, прекрасных возгласах протодьякона, уставном пении хора, увенчался сербским «Достойно», действительно поразившим гостей, а особенно самого кайзера. Затем следовало многолетие, в котором на этот раз произносились прошения «за всех христиан», а не только за «православных христиан», как обычно. В конце, когда протопресвитер осенил присутствовавших крестом и храм опустел, из алтаря вышел Розов, без протодьяконского двойного ораря, в одном стихаре, и стал объяснять Данилину причину своего внезапного выхода из алтаря во время запричастного стиха. Тот резко изъявил неудовольствие: «Конечно, вам можно провозглашать многолетие, читать Евангелие, а хор не может исполнить того, что ему необходимо!»
После молебна, когда все певчие вышли из храма, нас уже ждал фотограф: на сохранившемся снимке отразилось настроение участников молебна. А потом нас, мальчиков, повезли осматривать немецкий памятник – он был громоздкий, серый, с фигурами тевтонцев и произвел на нас подавляющее впечатление.
Случай на молебне, видимо, послужил одной из причин, по которым Данилин отказался дирижировать концертом в Берлине: он прошел под управлением Голованова. Была и другая причина: Николаю Михайловичу, как я узнал много позже, вообще не нравилось, что в поездке участвовал Голованов как его «дублер». Это было устроено Ф. П. Степановым, который опасался неуравновешенности Данилина и его возможного «срыва» при таком ответственном деле. Голованов тогда был еще очень молод: ему шел двадцать третий год, и петь с ним в ту пору было трудно из-за постоянных замечаний хору. Видимо, молодой регент помнил звучание Синодального хора при Орлове, когда он сам был солистом-исполатчиком. Время Орлова и Смоленского уже уходило в легенду, певчим никто не объяснял, как именно исполнялось то или иное песнопение при Орлове, и нам оставалось только постоянно взирать на бюст великого регента в училищном Большом зале...
В Берлине хор остановился в хорошей гостинице, там и прошла репетиция предстоящего концерта. Мы сознавали свою ответственность и без Данилина пели как при нем. На концерт прибыл Вильгельм с супругой и сыном. Кайзеру, конечно, хотелось вновь увидеть и услышать Данилина и Розова, и Филиппу Петровичу пришлось объяснять, что оба друга внезапно «заболели». Вильгельм полностью прослушал программу, и более того: несколько раз возвращался в свою ложу, когда хор начинал исполнять произведения сверх программы, – а на бис мы пели много. Потом, в Москве, Степанов привел в докладе обер-прокурору Св. Синода о поездке хора слова Вильгельма: «Сколько будет петь хор, столько я буду слушать – хоть всю ночь». Известно, что кайзер Вильгельм был знатоком хоровой музыки и сам сочинял. Ф. П. Степанов во время концерта находился в императорской ложе и потом рассказывал о сильном впечатлении, произведенном нашим пением на кайзера. Он тотчас распорядился наградить хор. Голованов говорил, что на весь Берлин была одна афиша, извещавшая о нашем выступлении, и все равно зал Филармонии был полон до отказа. Публика также бурно реагировала на исполнение обоих гимнов – российского и германского.
На следующий день всем певчим выдали деньги, в том числе по десять марок золотом. Нас провезли в открытом омнибусе по городу для экскурсии. А позже мы получили награды от кайзера: мальчики медали «Корона» на голубой ленте, взрослые певцы медали «Орел» на красной. Филиппу Петровичу была вручена кайзеровская звезда, Голованову – тоже важный орден, такой, какой в свое время получил в Германии К. С. Станиславский. Один Данилин остался без награды496.
Следующий наш концерт прошел в Варшаве с той же программой и тоже под управлением Голованова. И снова зал был полон. Варшавяне уже в четвертый раз встречались с Синодальным хором и отнеслись к нам очень доброжелательно. По окончании концерта русская часть публики, особенно военные, стала требовать исполнения государственного гимна. Однако Голованов продолжал бисировать духовные композиции, что явно нравилось полякам. Наконец спели и гимн, после чего при выходе из зала молодежь принялась «качать» Голованова497.
Так закончилась эта поездка. Много лет спустя, летом 1948 года, я, будучи в Германии, вновь посетил Лейпциг. Был субботний вечер, и я зашел в храм-памятник. Он был открыт. Кончалась всенощная, хор пел «Взбранной воеводе». Мне показалось, что в храме нет прежнего убранства, только за правым клиросом в витрине под стеклом лежала священническая риза – какая-то реликвия. Староста провел меня в нижнее помещение – туда, где когда-то проходила наша спевка перед молебном. Теперь здесь располагался зимний храм и был установлен новый иконостас, написанный, как мне сказали, художником из эмигрантов. Людей на службе было мало. Невольно бросилась в глаза группа мальчиков, сидевших на длинной скамье вдоль южной стены. Это оказались малолетние певцы местного хора, свободные от участия во всенощной...
Среди других событий тех лет запомнился концерт в декабре 1913 года. Он был закрытым и предназначался специально для гостей – хора моравских учителей из Чехии, приехавшего в Москву на гастроли. Помню, перед этим концертом мы волновались, поскольку среди старших учеников ходили разговоры, что чешский хор поет едва ли не лучше нашего498.
Как известно, Синодальный хор иногда принимал участие в Исторических общедоступных концертах, которыми руководил С. Н. Василенко. В некоторых из них я тоже пел. Обычно таким концертам предшествовала лишь одна репетиция в училищном зале под рояль (помнится, за роялем нередко сидел один из братьев Шведовых – Иван). Исторические концерты проводились по воскресным дням в Большом зале консерватории. Мы возвращались из собора после обедни» завтракали и парами шли в консерваторию. Там мы забирались на галерку» и Голованов, который был учеником Василенко и сопровождал нас, обыкновенно предупреждал: «Сидите тут тихо, я за вами приду». Мы слушали внимательно весь концерт, а к нужному моменту спускались под предводительством Голованова вниз» на сцену. Петь с оркестром нам было совсем не трудно499.
Особенно хорошо я помню исполнение баховских «Страстей по Матфею» под управлением Ипполитова-Иванова. Их пели дважды» весной 1913 года и в следующем сезоне. Это исполнение не входило в серию Исторических концертов и было не дневное, а вечернее. В нем участвовало много разных московских хоров, всего несколько сотен человек. Помню прекрасное исполнение партии Христа В. Р. Петровым. Помню также, как Ипполитов-Иванов, которого мы хорошо знали по училищу и любили, приходил к нам за кулисы, и мы просили у него дать нам «еще попеть». Вообще же консерватория и ее Большой зал были для нас свои, родные – ведь мы часто в этом зале выступали500.
10 марта 1915 года состоялась премьера Всенощного бдения Рахманинова и затем – еще четыре исполнения произведения, все в зале Дворянского собрания. Здесь хор выступал в полном составе, до девяноста человек: тридцать взрослых и шестьдесят мальчиков, из которых участников заграничных концертов прошлых лет было меньше трети, а остальные – набора последних лет.
Примерно в то же время наш регент Н. М. Данилин был приглашен управлять хором – в храме преподобного Пимена в Старопименовском переулке близ Тверской. Хор этот, численностью около двадцати пяти человек, состоял в основном из студентов консерватории и содержался на средства большого любителя церковного пения, мецената А. П. Каютова. Совмещение должности регента Синодального хора с какой-либо иной работой ранее не допускалось, и потому появление Данилина в церкви Старого Пимена было и для нас, и для всех москвичей-любителей настоящей сенсацией. Старшие ученики стремились посетить этот храм, и, естественно, мы сравнивали наше исполнение с пением хора Каютова501. Для Данилина данное приглашение явилось началом его успешной деятельности в разных московских храмах, продолжавшейся вплоть до 1928 года. Репертуар у Данилина оставался «синодальный», и всегда храмы, где он регентовал, были полны молящихся.
В 1916 году на авторском вечере Кастальского мы исполняли в Большом зале консерватории фрагменты только что написанного большого произведения «Вечная память героям», а сарреll ный вариант «Братского поминовения» (о нем я пишу в воспоминаниях о Кастальском). И еще запомнился эпизод, связанный с осенью 1916 года.
Третий год шла война. Военные события сравнительно мало отражались на повседневной жизни училища. Быт наш ничем не отличался от прошлых лет: строгий распорядок дня, усиленная подготовка к урокам, регулярное здоровое питание. Конечно, вести о событиях на фронте и в стране проникали к нам в старшие классы – главным образом, через нашего преподавателя географии Д. Т. Яновича. Это был, как нам тогда казалось, очень осведомленный человек. Янович работал, кроме Синодального, еще в Строгановском художественном училище и заведовал этнографическим отделом Румянцевского музея. Невысокого роста, с бородкой клином, без усов, он держался всегда спокойно, спрашивал задания редко, а больше рассказывал – как из своего предмета, так и о современных событиях. Именно от Яновича мы узнали о происках Распутина при дворе и потом о его убийстве. Мы с нетерпением ждали уроков географии – они были для нас окном в мир502.
Видимым следствием войны было то обстоятельство, что в стенах училища стали появляться новые для нас люди: зал теперь чаще, чем раньше, отдавался в аренду (очевидно, по финансовым соображениям), и у нас выступали многие артисты, среди них и бежавшие с занятых немцами территорий, преимущественно поляки – они несли сюда свою культуру. Дороговизна нарастала, и взрослым певчим стало не хватать их окладов. «Халтурить» строго запрещалось, но теперь появились отдельные нарушения. Помнится, был случай, когда взрослые певчие подрядились спеть «на стороне» всенощную и воскресную литургию и взяли с собой нескольких мальчиков. Дело дошло до Данилина, и тот, перехватив всех после всенощной, скомандовал: «Домой!» Литургию уж петь не пришлось. Однако и в официальном порядке Синодальный хор был вынужден петь малыми составами отпевания, венчания, молебны в разных церквах, – чего раньше, конечно, не бывало. Помню одно такое отпевание в Сретенском монастыре: после службы регент Голованов получил конверт с гонораром, который раздал взрослым певчим; детям, понятно, денег на руки не давали. Однако у некоторых из нас, в том числе у меня, в ту пору появился особый заработок. Нередко кто- нибудь из взрослых певчих просил «записать на ноты» какое-либо из исполняемых нами на клиросе песнопений. Моим постоянным «заказчиком» был Алексей Иванович Кустов, потом мы с ним стали друзьями. Вплоть до своей кончины во второй половине 1930-х он пел в хоре головановского Радиотеатра, и вообще был близким человеком в головановской семье503. Расплачивались со мной за переписку не деньгами, а вошедшими тогда в употребление почтовыми марками определенной цены. Обычно я получал полтинник и на вырученные деньги покупал что-либо съестное – вкусную и дешевую ливерную колбасу, немного ветчины. Я рос, а время было уже тяжелое, зима 1916/17 года. Но, повторяю, в основном жизнь в училище шла заведенным порядком.
Событие, о котором я хочу рассказать, произошло 8 октября 1916 года: на спевку Синодального хора пришли замечательные гости – Рахманинов и Шаляпин. Для них были исполнены фрагменты рахманиновской Всенощной, о чем я пишу отдельно в специальном очерке. Но и здесь, вспоминая о жизни училища, не могу пройти мимо того дня. Помню, чтобы попасть на эту спевку, мне приходилось пропустить подготовку к урокам, и меня одолевали сомнения, идти или нет: ритм нашей жизни был столь напряженным, что не всякий мог пожертвовать парой часов в обычном графике. К этому времени я уже перешел в регентское отделение и в хоре не пел.
Особенно, конечно, поразил нас всех Шаляпин. Это был поистине необыкновенной, редкой красоты человек. Помню, как он шел по нашей лестнице к большому зеркалу (оно стояло там, где теперь установлен бюст Рахманинова), как причесывал перед зеркалом свои белые волосы: его движения были так красивы, так плавны, и все в нем было так естественно, непридуманно... Уже много позже я услышал забавный рассказ про Шаляпина. Теща моего двоюродного брата, артистка Народного дома в Петербурге, девочкой жила в Казани, и отец ее был начальником того учреждения, в котором служил юный Шаляпин. «Я помню его совсем мальчишкой, – рассказывала она. – Этот рыжий Федька устраивал нам крутящиеся бумажные мельницы на палках и бегал с нами по двору – показывал, как они крутятся». Трудно мне представить себе Шаляпина таким мальчишкой – для меня он во всем гениальный артист. И я не раз задумывался: почему он не пришел в зал на концерт, когда исполнялось сочинение его друга, а приехал к нам на спевку? Может быть, Шаляпин был занят. А может быть, и другое. Рискну высказать предположение, что в то время Шаляпину, другу Горького, было как бы не престижно появляться на духовном концерте. Впрочем, вполне возможно, что я ошибаюсь.
Помнится, Данилин был на этой спевке в парадном костюме, ребята – в обычной одежде, как всегда очень опрятной (попробуй-ка, не вычисти как следует сапоги!), взрослые певцы – тоже в обычных костюмах. Во время спевки на эстраду неожиданно вышел протодиакон К. В. Розов и тут же вернулся в прилегавшую к эстраде певческую библиотеку. Видимо, Константин Васильевич прослушал из библиотеки спевку, а потом не утерпел и выглянул посмотреть на именитых гостей, хотя и сам тогда был знаменит в Москве не меньше Шаляпина.
В одной из современных публикаций сообщается, со ссылкой на дореволюционную газету, что после спевки Шаляпин пел для нас под аккомпанемент Рахманинова. Этого, к сожалению, не было. Публикатор уверял меня, что я «запамятовал» данный факт. Но я до сих пор ничего не «запамятовал», а уж тем более Шаляпина: он и сейчас стоит передо мной как живой. Да и кто бы мог забыть, слышал он Шаляпина или нет. Помню, мы очень жалели, что не услышали великого певца, но старшие объяснили нам, что Шаляпин много работает и должен беречь свой голос504.
Учебный год осенью 1916-го начался как обычно, 1 сентября. Занятия по программе, спевки, службы в Успенском соборе – все соблюдалось точно. Как и всегда, протоиерей Воздвиженский каждую субботу служил всенощную в Большом зале училища.
Синодальное училище готовилось официально стать высшим учебным заведением, а по существу оно уже являлось таковым. Правда, некоторые из наших выпускников шли потом в консерваторию, но занимались там только композицией, а по всем остальным предметам они могли бы сразу получить консерваторский диплом – таково было общее мнение. Преподавательский состав училища был блестящий: А. Д. Кастальский, Н. М. Данилин, Н. С. Голованов, А. В. Никольский, Вик. С. Калинников, Н. Н. Толстяков, Н. Р. Кочетов, В. П. Степанов... Состав учащихся 8-го и 9-го классов соответствовал уровню педагогов: почти каждый из выпускников этих лет представлял собой личность. Многие из них и проявили себя таковыми в последующей жизни. Это были настоящие товарищи – ив общении между собой, и в отношениях с младшими они отличались особенными дружелюбием, вежливостью, добротой. Я и сейчас вспоминаю с благодарностью Колю Сытника, Женю Ромашкова, Митю Шведова, Сашу Степанова... Никакой «бурсой» здесь не пахло!
Обычно начавшийся, учебный год 1916/17 кончился неожиданно рано. Последняя четверть года всегда была для нас очень ответственной: решалась дальнейшая судьба многих учеников. В годы войны выпускников Синодального училища обычно отправляли в школу прапорщиков при Александровском юнкерском училище и потом на фронт. Так, на войне оказался почти весь выпуск 1917 года – кроме ученика Алмазова, страдавшего болезнью ноги и негодного к военной службе.
В один прекрасный день прозвучал «последний звонок» и нас всех собрали на молитву в Большой зал. Запели входное «Достойно», что означало по традиции окончание учебного года. Однако на сей раз «последний звонок» означал не только окончание года: он означал – чего мы, конечно, тогда не могли и предположить, – закрытие Синодального училища церковного пения.
Вскоре, буквально через несколько дней, состоялся выпускной акт. Молебен на этот раз прошел в Малом зале (Большой был сдан в аренду). Огласили результаты учебного года: вопреки обыкновению, никто не был исключен. Филипп Петрович Степанов обратился к нам с напутственным словом. Помнится, он говорил, что Февральская революция – это только начало, что предстоит много важных исторических событий и что мы должны быть готовы к испытаниям и к труду. Кстати, для самого Филиппа Петровича это время было нелегким. Когда после февральских событий преподаватели училища собрались, чтобы выразить свое отношение к происшедшей революции, инспектор К. П. Успенский позволил себе высказаться пренебрежительно о прежнем руководстве училища, причем в весьма резкой форме. Однако случилось неожиданное: в зал вошел Степанов, и авторитет его оказался все-таки столь высок, что Успенский сразу замолчал, встал и уступил Степанову место председателя собрания...
Итак, на выпускном акте, после молебна, за большим столом расположились руководители училища и хора, воспитатели с инспектором, педагоги. Впереди всех стояли оканчивавшие курс в этом, 1917 году – почти все в военной форме, так что одетые в штатское среди них смотрелись как-то странно. Как уже говорилось, выпускники «автоматически» поступали в военное училище и после нескольких месяцев подготовки в офицерском звании отправлялись на фронт. Некоторые там и кончали свою молодую жизнь, не успев побыть «на воле». Всем выпускникам были вручены традиционные иконки и наши «синодальные» камертоны. То, что никто из учеников не был отчислен из училища, свидетельствовало о дальновидности нашего руководства: пока не были ясны последствия Февральской революции, в том числе судьба столь специфического учреждения, как Синодальное училище, находившегося в ведении Синода. Мы понимали, что прежний режим кончился, что и в училище будет смена власти, что уход прокурора Степанова неизбежен и его речь, обращенная к нам, – прощальная505.
После выпускного акта в училище оставались только мальчики, поющие в хоре, и потому всенощное бдение под Вербное воскресение в училищном зале пели, в основном, детскими голосами. Эта всенощная мне особенно запомнилась – и потому, что она оказалась последней в стенах училища, и потому, что на этот раз выполнять регентские обязанности довелось мне. Ученический хор, в котором пели малыши и учащиеся старших классов
обычно делился на два клироса: на левом дирижировали ученики восьмого класса по очереди, на правом – девятиклассники. В своем хоре мы пробовали нередко исполнять новый репертуар, даже с солистами «из своих» (помню, например, как Вася Кусков солировал в «Ныне отпущаеши» Кастальского), с канонархами- альтами из второго или третьего классов. На этот раз пришлось служить на один клирос, поскольку отсутствовал весь девятый и большая часть восьмого класса. Мне исполнилось 16 лет, я оказывался одним из старших, и Владимир Павлович Степанов, руководитель ученического хора, назначил меня в регенты.
Праздник Пасхи и все последующие службы в Успенском соборе прошли как обычно, при полном составе Синодального хора. В первых числах мая меня вызвал А. Д. Кастальский и представил А. Т. Белову, руководителю хора при фабрике Кокорева в селе Вичуга Костромской губернии. Я направлялся помощником к Белову, и это была моя летняя практика. Перед отъездом мы с друзьями, Лешей Ряузовым и Костей Пасхиным, решили сходить попрощаться к Филиппу Петровичу. До этого мы принципиально к нему не ходили – не хотели прослыть «любимчиками», но теперь все изменилось. Степанов остался в одиночестве, и, хотя продолжал работать в Синодальной конторе и ежедневно ходить в училище, преподаватели его избегали и не приглашали на свои собрания: ведь он был «царским сановником», камергером, и теперь оказывался «лишним человеком». Конечно, это обижало Степанова, да и не всем педагогам нравилось.
Жил Степанов по-прежнему на Воздвиженке, там же, где все служащие Синодальной конторы, но в отдельном двухэтажном домике (потом там помещался комитет комсомола, этот дом и сейчас стоит – напротив Военторга). Филипп Петрович давно вдовел и теперь оставался в доме вдвоем со старым слугой. Он захотел угостить нас чаем и спросил слугу, нет ли хотя бы хлеба. Но и хлеба было совсем мало. Мы выпили чаю и вместе дошли до Арбатской площади. На прощанье Филипп Петрович сказал, что вскоре уезжает на юг, в Сочи, и что писать можно на имя Шмелева по такому-то адресу. Впоследствии я отправил по этому адресу письмо и получил в ответ прекрасное письмо, в котором Филипп Петрович, ласково называя меня Шурой, давал мне добрые наставления.
Но вернусь к 1917 году. В августе, по возвращении из Вичуги, я почти ежедневно заходил в училище, встречался с друзьями – все ждали объявления о начале занятий. Перед днем Воздвиженья я прочел в газете о возможной забастовке взрослых певчих Синодального хора, вызванной низкой оплатой их труда при резком вздорожании жизни. Тогда же, проходя по Никитской улице, я встретил одного из «забастовщиков», и он мне поведал, что делегация от Синодального хора обращалась в Совет рабочих депутатов, но там им сказали, что церковь для Советов – ведомство постороннее. Как будто праздничную всенощную собирались петь только детскими голосами506.
Под праздник Воздвиженья я отправился в Успенский собор. Он был переполнен молящимися, хор пел полным составом как положено – на два клироса, и пел превосходно. Служба вышла очень торжественная. Для меня эта всенощная под Воздвиженье оказалась последней службой в кремлевском Успенском соборе. Через несколько дней я уехал к родственникам в Воронежскую губернию, предполагая вернуться в Москву к 1 января – объявленному началу занятий в училище. И действительно, занятия возобновились, но только для учеников 9-го, выпускного класса. Что же касается Синодального хора, то последний раз он пел в Успенском соборе на Пасху 1918 года. В эту Пасху кончились и богослужения в соборе, и его знаменитый хор507.
Мне рассказывали, что служил в тот день епископ из Гродно. И еще я знаю из рассказов нашего воспитателя Ивана Григорьевича Красильникова, что до Пасхи службы продолжались: пели взрослые и кое- кто из мальчиков, остававшихся в Москве. Во время расстрела Кремля в октябре 1917 года мальчиков собирали в Большой зал училища, и там они ночевали вместе с воспитателями – так было безопаснее. Эти ребята не учились, только пели в хоре508.
В здание на Никитской улице я пришел вновь, чтобы продолжить учение – но уже не в Синодальном училище, а в Хоровой академии. Заниматься довелось только в 1919 году, так как в ноябре этого года я был призван в Красную Армию, а в 1923-м Хоровую академию закрыли.
При закрытии Синодального училища я, как видно из вышесказанного, не присутствовал. Но по рассказам однокашников знаю, что переход училища в Хоровую академию произошел довольно легко. И правда, когда в 1919 году я пришел в академию, то застал там много прежнего – тех же учителей, тех же воспитателей. Например, как ходил я в училище на теоретические занятия к Виктору Сергеевичу Калинникову, так и продолжал ходить к нему в академии. В ту зиму академия не отапливалась; для экономии дров их раздали понемногу педагогам, и занятия происходили по большей части в квартирах. Помню, Виктор Сергеевич Калинников занимался в бывшей инспекторской квартире. Как-то мы с приятелем опоздали к нему на урок, приятель набрался храбрости и вместо извинения произнес: «Лучше поздно, чем никогда». «Сказал человек, опоздавший на поезд», – продолжил Калинников. Виктор Сергеевич оставался таким, каким и был всегда – подтянутым, строго одетым и аккуратным: на рояле у него никогда не лежало ничего лишнего, а если он писал на доске мелом, то старался не запачкать рук. Добавились новые предметы, в том числе подробный курс народного творчества, который вел Кастальский (из этого курса у меня в памяти осталось мало; помню, Александр Дмитриевич объяснял нам, что «кукушка кукует в терцию»). Состав учащихся был во многом прежний, только появились и девушки. Репертуар хора академии, конечно, стал иным (пели мы и «Интернационал», и «Дубинушку»), но в целом этот переход от старого к новому был достаточно мягким.
Проучившись всего несколько месяцев, я ушел в армию и при разгроме академии не был, только знаю кое-что со слов друзей, особенно сына Кастальского, большого моего друга Александра Александровича. Он говорил, что Александр Дмитриевич бился за сохранение академии чуть ли не в одиночку. В частности, ему пришлось бороться с Надеждой Яковлевной Брюсовой, влиятельной фигурой в тогдашнем Наркомпросе: на его просьбы о сохранении академии она ничего не отвечала, но готовила решение о ликвидации. Я думаю, что новая власть не могла примириться с тем, что Хоровая академия до известной степени продолжала старые традиции509. Александр Александрович говорил мне также, что ни Данилин, ни Голованов не оказали тогда Кастальскому нужного содействия. По выражению Александра Александровича, они вели себя «инертно». Вполне возможно, что они и не могли ничего сделать. Положение Голованова в Большом театре всегда было сложным, и Данилину власти постоянно ставили на вид его продолжавшуюся регентскую деятельность. Говорят, что, когда Николая Михайловича вызывали в профсоюз и спрашивали с подвохом: «Что, Николай Михайлович, все поете?» – он отшучивался: «Пою, приходите послушать». Но в 1928 году ему пришлось отказаться от регентства510.
Я присутствовал в 1923 году на заключительном вечере в Хоровой академии и вновь пережил тогда горечь расставания с любимой школой. Почти никого из старых преподавателей на вечере не было, только с Данилиным мне удалось немного поговорить.
Большой зал находился в аварийном состоянии после пожара, и вечер проходил в Малом зале – там же, где последняя всенощная под Вербное воскресение 1917-го. Потом здание отдали юридическому факультету Московского университета. К счастью, я дожил до того времени, когда оно было возвращено Московской консерватории и таким образом началось восстановление музыкальных традиций этого зала и Синодального училища.
* * *
После закрытия училища и академии все бывшие певцы Синодального хора разбрелись кто куда. Когда я после армии вернулся в Москву, то обнаружил сразу три государственных хора: одним управлял Данилин, другим Чесноков и третьим А. В. Александров, бывший регент храма Христа Спасителя, потом создатель Краснознаменного ансамбля511. Во всех этих хорах были наши певцы, особенно много у Данилина. Впоследствии часть из них занялась другой деятельностью. Был, например, у нас замечательный октавист Орлов – он стал работать в судебных органах; отличный баритон Калугин вышел в большое начальство.
Конечно, многим приходилось идти на компромиссы. Хотя бы тому же Кастальскому, который начал сочинять на советские темы. Но, между прочим, Кастальский и после революции не оставлял духовного творчества; в частности, он создал песнопения на интронизацию патриарха. А сам ныне канонизированный церковью святейший патриарх Тихон? Разве и ему не приходилось идти на компромисс?
Как рассказывал мне наш певец и переписчик Н. И. Озеров, впоследствии инспектор хора Большого театра, в годы НЭПа он сам зарабатывал на жизнь пением в пивных, и в частности пел в ансамбле, которым руководил А. В. Александров. Случилось так, что частым посетителем пивной, где они выступали, оказался работник создаваемого тогда Дома Красной Армии. Он-то и пригласил Александрова с ансамблем перейти к ним. Я помню самый первый состав Красноармейского ансамбля: двенадцать человек, включая гармониста, чтеца и танцора; помню их первую программу, посвященную истории развития разных армейских соединений в Гражданскую войну512.
В двадцатые годы ситуация сложилась противоречивая: с одной стороны, велась жестокая борьба с церковью, а с другой, многие храмы еще были открыты и чрезвычайно развилась практика духовных концертов. Отчасти это было связано с экономическими трудностями: певцам и регентам надо было на что-то жить. В церковных хорах, на клиросе появилось много отличных певцов, среди них и артисты Большого театра. Хотя за это можно было подвергнуться преследованиям, все же приверженность к церковному пению, да и, конечно, необходимость заработка превозмогали преграды. Духовные концерты обычно проходили в приходских храмах в свободное от служб время, хоры были либо данного храма, либо сборные, небольшие, солисты – приглашенные. В таких концертах нередко принимали участие А. В. Нежданова (хором в этом случае всегда управлял Голованов), В. Р. Петров, С. Н. Стрельцов. Великолепные солисты были надежным средством привлечения публики. Помнится, одним из храмов, где нередко проходили духовные концерты, была церковь Флора и Лавра у Павелецкого вокзала513.
Кстати, с известным басом Василием Родионовичем Петровым вышел такой случай, еще до революции. Несколько лет подряд он в Великий Четверг пел в храме Христа Спасителя соло в песнопении «Разбойника благоразумного». Народ валил в храм валом, как на театральную премьеру, а после исполнения «Разбойника» толпа молящихся резко уменьшалась. И вот в 1915 году у Христа Спасителя службу Великого Четверга вел митрополит Макарий, и когда меломаны, как обычно, после выступления Петрова направились к дверям, митрополит, известный строгостью взглядов, обратился к присутствующим с обличением их легкомысленного отношения к столь важной службе. В. Р. Петрову было запрещено петь в храме Христа Спасителя. Впрочем, он продолжал петь в своем приходе, у Воскресения Словущего близ Остоженки...514.
По-разному сложились жизненные пути и у наших учителей. Некоторые, как Н. М. Данилин, Н. С. Голованов, В. П. Степанов, добились очень больших успехов на артистическом поприще. Другие, как Александр Дмитриевич Кастальский или Виктор Сергеевич Калинников, вскоре после революции ушли из жизни. Николай Нилыч Толстяков болел, очевидно, у него было и психическое расстройство. Я его встретил как- то в начале 1950-х годов на концерте в консерватории, а регулярно с ним общался мой знакомый регент Николай Данилов. Толстяков с женой очень нуждались, и время от времени жена отправлялась по разным церковным клиросам просить помощи: поскольку сочинения Толстякова исполнялись, ей удавалось кое-что получить. Сам же Николай Нилыч не преподавал и не регентовал. Еще помню, как его жена пыталась продать остававшиеся у них золотые часы с гербом...
Один из наших любимых воспитателей, Николай Сергеевич Ермонский, продолжал педагогическую деятельность (у него было и университетское образование). Другой, Василий Никанорович Якимов, по прозвищу «Макароныч», сотрудничал с Кастальским в Хоровой академии, потом служил в Пролеткульте. Наш «страшный» русист Николай Николаевич Сокольский был отстранен от педагогической работы «по анкетным данным», уехал на родину во Владимир и там служил в каком-то домкоме. Инспектор К. П. Успенский, имевший медицинское образование, стал работать врачом. А самый любимый наш воспитатель Иван Григорьевич Красильников оставался в Москве и всегда поддерживал связь между нами.
Много лет спустя после закрытия училища я получил известие о другом человеке, который много значил для нас в детстве, – о Филиппе Петровиче Степанове. В 1942 году я попал по своей военной службе в Сочи и в свободный час решил сходить по адресу, который когда-то дал мне Степанов. Я нашел там упомянутого Степановым Шмелева, и оказалось, что раньше он был регентом одного из сочинских храмов, а после революции преподавал пение. Жена его когда-то пела в знаменитой капелле Славянского. Выяснилось, что его родной брат – Яков Александрович Чмелев, который учился в Синодальном училище, сочинял духовные композиции и которого я хорошо знал515. Про Филиппа Петровича Шмелев рассказал, что тот долго прожил в его доме, они вместе даже поставили какую-то детскую оперу Степанова. Затем Степанов исчез из Сочи. Но еще в двадцатых годах в Москве я встретил жену одного из наших воспитателей – Андрея Андреевича Петрова. Она сказала, что получила письмо от Филиппа Петровича: он беспокоился о «мальчиках» из Синодального училища, просил, чтобы мы не забывали прошлого и не становились «коммунистами». Дальше про Степанова ходили разные слухи: одни говорили, что он в Софии, другие – в Белграде; потом разнеслась весть, что он принял монашество на Афоне. Завет Филиппа Петровича мы, в общем, выполнили: школу мы не забыли, и лишь немногие из нас вступили в партию.
Воспитанников училища разметали в разные стороны годы революции и гражданской войны, большинству пришлось поменять профессию. Но почти все из нас остались верны своим незабываемым детству и юности, своему товариществу. Тесный круг москвичей-синодалов сохранял дружеские связи, и мы встречались друг с другом в течение долгих лет. На последнюю такую встречу, состоявшуюся в музее-квартире Н. С. Голованова в 1975 году, пришло только восемь человек: С. А. Шумский, И. М. Смыслов, Е. Г. Ромашков, С. А. Воскресенский, А. А. Чепцов, В. С. Плетюхин, В. П. Бутузов, А. П. Смирнов. С нами был и наш бывший воспитатель Н. С. Ермонский. Сейчас уже никого из них нет в живых – остался один я...
Возвращаясь к судьбам моих товарищей по училищу, хочу повторить, что они сложились очень и очень по-разному.
В последние годы существования училища среди многих способных ребят выделялся талантливостью Миша Жуков. Это было замечено Головановым: он уделял Мише особое внимание, и хотя тот рано потерял голос, его оставили в училище для продолжения образования. И даже когда в начале 1918 года училище было открыто только для оканчивавших девятиклассников, шестиклассник Миша пользовался уроками Голованова. Жуков отлично владел фортепиано, он был учеником нашего воспитанника Николая Дмитриевича Бунакова. Кстати, о самом Бунакове, очень хорошем, интеллигентном педагоге и отличном музыканте, владевшем фортепиано, скрипкой, виолончелью. После революции он попал в Мценск, где стал руководителем музыкальной студии, а позже был репрессирован. Николай Дмитриевич всегда отличался независимостью суждений, да кроме того, он был офицер, вернулся с мировой войны после плена: там он оказался в международном офицерском лагере и, отлично владея не только фортепиано, но также скрипкой и виолончелью, создал оркестр из пленных разных национальностей и сам им дирижировал.
Жуков вышел из училища в 1918 году, в 1919-м мы с ним переписывались. Он тогда играл на фисгармонии в оркестре Малого театра, потом с помощью Голованова попал в Оперную студию Станиславского и стал там дирижером. Служил он и в оперном театре Риги, потом снова в Москве – в филиале Большого театра. Везде он очень тщательно занимался с оркестром, и оркестранты его любили. Неудивительно: Миша Жуков всегда, с детских лет был веселым, легким, обаятельным. Как-то в период его службы в Большом театре мы с Владимиром Павловичем Степановым пошли слушать Жукова в «Князе Игоре»: сразу становилось ясно, что это дирижер Божией милостью. С трудом верилось, что это тот мальчик, который когда-то босиком пришел в наше училище на приемные испытания. Однако с годами выяснилось, что Миша получил от предков не только талант, но и печальную склонность к алкоголизму. Умер он рано и был похоронен на Новодевичьем кладбище.
Совсем иначе сложилась судьба другого очень одаренного ученика и доброго нашего товарища Сергея Жарова. С Жуковым я учился некоторое время вместе, даже сидел за одной партой. Жаров был старше меня – он закончил училище в 1917-м, а учился я в одном классе с его младшим братом. Всего в училище у нас было трое Жаровых, и происходили они из города Макарьева Костромской губернии, что стоит на реке Унже. Сережа был отличный товарищ – спокойный, серьезный, добрый. Как многих выпускников училища военных лет, его направили по выпуске в офицерское училище, оттуда на фронт, и потом я много лет ничего о нем не знал, хотя, помнится, в 1930-х годах по Москве ходили разговоры о каком-то знаменитом на Западе Хоре донских казаков под управлением Жарова. После войны, в 1946-м, я попал в санаторий под Ригу и познакомился там с лодочником из местных. Мне было интересно, как жили в Риге в те годы, когда Латвия была самостоятельным государством, и я задавал много вопросов. Однажды лодочник рассказал, что гастролировал в Риге замечательный русский хор Сергея Жарова. Я иногда наведывался на базар посмотреть старые книги и решил спросить у знакомого торговца насчет записей Жарова. Он ответил, что у него есть такие пластинки, продавать он их не хочет, но может дать послушать. Так я впервые услышал хор донских казаков, помнится, они исполняли гимн «Коль славен наш Господь в Сионе». Меня поразила стройность звучания, я окончательно уверился, что это тот самый Сергей Жаров, и загорелся желанием разыскать другие его записи.
Случилось так, что один мой знакомый направлялся в США на службу в наше посольство. Я попросил его поискать пластинки Жарова и установить с ним связь. У меня сохранились фотографии из жизни Синодального училище, и я передал их для Жарова, потому что верил: он не забыл прошлого. Мой знакомый встретился с Сергеем Алексеевичем, тот был очень тронут памятными фотографиями и прислал мне некоторые свои пластинки. Говорят, он настолько разволновался, что три дня не выходил из своего кабинета, а потом выражал большую радость, что в России еще есть «синодалы», которые помнят его. С этим событием связана также передача в Россию архива долголетнего сотрудника Жарова Константина Шведова, который хранился в жаровской семье516. Со временем я познакомился с разными записями жаровского хора и могу сказать, что это – настоящая, подлинная синодальная манера. Да и не удивительно: начав петь в хоре где-то около 1907 года, Жаров мог застать еще орловские времена, потом пел с Кастальским. Рассказывали, что, находясь уже в регентском отделении, Жаров во время спевок хора нередко подходил к дверям и слушал – учился. Таким образом, он отлично знал и стиль Данилина. Потом именно Жаров прославил наше искусство во всем мире517.
Еще одна любопытная судьба – Костя Пасхин. В отличие от Жукова, ставшего «светским» дирижером, и от эмигрировавшего Жарова, Пасхин стал тем, кем ему предназначалось стать, – русским регентом. Имя его сейчас мало кому известно, но это был талантливый музыкант и замечательный человек.
Костя – Константин Аверкиевич Пасхин поступил в училище в один год со мной. Мы сразу подружились и были близки до конца Костиных дней, а умер он в 1970 году. Костя сразу попал в хор: у него оказался необыкновенный голос – чистый, ангельского тембра, никогда не «качавшийся» дискант и превосходный слух. Он пел всегда на правом клиросе и был «под рукой» у Голованова, как сам Николай Семенович был «под рукой» у Орлова. Ясно, что Голованов, дирижер с большим вкусом, выбирал самых одаренных ребят. Пасхина брали во все поездки, на все ответственные выступления. Перед поездкой в Ниццу на освящение храма в училище устроили пробу мальчишеских голосов. И вот иду я мимо зала, смотрю – стоит в коридоре Костя и плачет. Спрашиваю: «Что случилось? Тебя не берут?» – «Берут, – отвечает Костя, – но меня Попандопуло очень больно стукнул». Оказалось, воспитанник Попандопуло так обиделся, что его не выбрали в поездку, что выместил злость на Косте. Пришлось вмешаться в это дело. Пел Костя много, но прочая учеба давалась ему нелегко, и он несколько раз оставался на второй год, так что революция застала его не в пятом классе, как меня, а в четвертом.
После революции он продолжал петь в разных церковных хорах, в том числе под регентством Николая Сергеевича Данилова, другого замечательного «синодала». Как-то Пасхин пошутил: «Мы с Даниловым на одной партийной работе состоим – у Спаса во Спасех» – это храм был такой на Спасской улице, у казарм. Понемногу Костя начал дирижировать и стал регентом. Довольно долго он состоял регентом в ныне уничтоженном Преображенском соборе на Преображенской площади – там была кафедра митрополита Крутицкого Николая. В этом хоре певцов насчитывалось до тридцати, в том числе жена Пасхина – прекрасное сопрано. Все были любители. До войны он работал в конструкторском бюро, занимавшемся проектированием дирижаблей, а позже в Министерстве авиационной промышленности. Времена были такие, что участие в церковной службе необходимо было скрывать, и клирос чаще всего загораживали иконой побольше, чтобы не видно было певцов. Случалось, конечно, что выдавали, в том числе свои.
Репертуар у Пасхина был чисто «синодальный», с большим преобладанием композиций Кастальского. Звучание отличалось исключительной чистотой строя, и всегда ощущалось глубокое понимание исполняемых текстов. Вопрос веры – это самый личный, интимный вопрос, и я никогда не спрашивал ни о чем своего друга Костю, но слышно было, как глубоко он проникает в суть песнопений. Он много разговаривал с хористами, старался образовывать их.
После сноса Преображенского собора Пасхин перешел в храм на Преображенском кладбище. Хор тут был поскромнее, но репертуар тот же. Пришлось ему уйти и отсюда, встретившись с недоброжелательством нового настоятеля, с его неприятием «синодального» стиля пения. Он всю жизнь собирал регентскую библиотеку. Сам многое переписывал, расписывал партии. Он держал крепкую связь с Н. Н. Толстяковым и от него получал интересные материалы. Библиотека эта после смерти Пасхина осталась в храме на Преображенском кладбище, и дальнейшая ее судьба мне неизвестна.
Такая же история произошла после войны и с Даниловым в его знаменитом на всю Москву хоре в храме Всех Святых на Соколе: клир, состоявший из уроженцев Западной Украины, не понимал «московской школы» и навязывал регенту чуждый ему репертуар. Тогда Данилову пришлось уйти в другой храм – в Марьиной Роще. Кстати, я знаю, что по поводу Данилова Сергей Шумский имел объяснение с Пименом, будущим патриархом, который сам был в молодости регентом. Однако заступничество, по-видимому, не имело успеха. Я думаю, что именно эти два регента – Пасхин и Данилов – являлись настоящими продолжателями традиций Синодального хора в клиросном пении. Мне кажется, что Пасхин отличался особым благородством вкуса, а у Данилова была особая молитвенность в исполнении и, конечно, тоже прекрасный, «данилинский» репертуар.
Одним из иерархов, часто служивших в мое время в Успенском соборе, был епископ Димитрий, настоятель кремлевского храма Двенадцати апостолов. Кстати, в детстве я пел на его наречении во епископы, которое проходило в этом храме, и помнится, мы исполняли тогда знаменные догматики Кастальского, которые пели обычно и во время миро- варения. Когда скончался в 1934 году очень известный в Москве архиепископ Трифон, Димитрий его отпевал при огромном стечении народа в церкви Адриана и Наталии близ 1-й Мещанской, а пел хор Данилова. И после службы вышел Димитрий и сказал: «Вот, сегодня я снова слышал Синодальный хор». Про Данилова говорили, что он иногда теряет управление хором. Правда, порой он настолько увлекался исполняемым, что слезы начинали течь у него по щекам. Как-то он пригласил компанию «синодалов» в храм на Соколе, на литургию, состоявшую из произведений Кастальского. Как он пел тогда «Достойно есть» роспева царя Феодора в переложении Кастальского – до сих пор не могу забыть! Он брал такие темпы, при которых молящийся мог «прожить» богослужебные тексты, мог размышлять о них. Я бы даже сказал, что молитвенность у Данилова была еще сильнее выражена, чем в Синодальном хоре. Кроме того, Данилов замечательно учитывал ритм каждой службы, ее строй. И, наконец, он мастерски подбирал певческие тембры, хотя ситуация с голосами была тогда нелегкая. Данилов также сочинял, но, будучи человеком очень скромным, позволял себе вставлять свои композиции в службу лишь тогда, когда они были необходимы. Например, если исполнялся известный литургический цикл и в нем отсутствовали какие-то изменяемые песнопения518.
В связи с вопросом о голосах мне вспоминается встреча с другим «синодалом», Иваном Лицвенко: она произошла в 1949 году в Германии, в это время Лицвенко руководил ансамблем военно-воздушных сил (впоследствии он был хормейстером Большого театра, преподавателем Гессенского института). Заговорили о певческих голосах, и Лицвенко рассказал такую историю: выступал он с хором в каком-то городе, пели на приеме у председателя горисполкома, а тот и говорит: «Послушайте, как я спою». И правда, оказался чудесный бас. «Вот, – говорит Лицвенко, – так и разошлись русские певческие голоса по руководящим партийным должностям». А еще раньше, до войны, встретил я одного преподавателя из Хоровой академии, разговор зашел о певцах. «Знаешь, – говорит, – почему перевелись драматические тенора? Сливочного масла не хватает, вот почему». Это все, конечно, шутки, но, можно сказать, с серьезной подкладкой...
Еще один московский регент, связанный с Синодальным хором, – это Иван Митрофанович Харитонов. В последние годы училища он был там делопроизводителем и регентовал в разных храмах. В 1919 году группа ребят из Хоровой академии поехала под его руководством в дом отдыха в Козлов (Мичуринск) и оказалась в оккупации у донских казаков Мамонтова. Деньги кончились, и выехать нельзя. Ребята решили порепетировать с Харитоновым и наняться петь в местный храм. Вскоре, однако, казаки ушли, и они вернулись в Москву. Харитонов был помощником Данилина в церкви Николы Явленного на Арбате, потом управлял хором в церкви на Смоленском рынке, а затем перебрался на Ваганьковское кладбище. Данилов мне как-то сказал: «Хочешь вспомнить, как дирижировал Данилин, пойди посмотри на Харитонова». Действительно, тот был страстным поклонником Николая Михайловича. Мы нередко беседовали, и выяснилось, что у Харитонова есть кое-какие ноты из училищной библиотеки, в частности литографированный сборник произведений, исполнявшихся на концерте к 25-летию училища, и литографированная Всенощная Рахманинова. Это объяснялось тем, что в период разгрома Хоровой академии Харитонов жил в том же доме и мог кое-что спасти. Вообще же, по моим сведениям, основная часть библиотеки пошла в соседние лавки на оберточную бумагу. Только семья Кастальского успела взять то, что касалось Александра Дмитриевича, хотя, конечно, не все. Кстати, по рассказам, именно Харитонов, один из немногих, активно помогал Кастальскому сохранить Академию.
Харитонов дружил с «синодалами», в том числе с Даниловым и Пасхиным. У Ивана Митрофановича тоже была отличная регентская библиотека, подобранная по праздникам, почти вся переписанная его красивым почерком. Он владел хорошим певческим баритоном, одно время ведал инструментальной мастерской в консерватории, церковному же делу был предан до конца и так же, как Пасхин и Данилов, нес в своей деятельности репертуар и традиции Синодального хора.
Столь же преданным прошлому был и Николай Иванович Озеров, наш переписчик, потом инспектор хора Большого театра. Рассказывали, что это именно он, через Малиновскую и Луначарского, добился для Данилина, который тогда был хормейстером Большого, разрешения разучить с хором Всенощную Рахманинова. Это исполнение состоялось в 1926 году в Колонном зале и было повторено на хорах храма Христа Спасителя. Вскоре Данилин ушел из театра, где и всегда чувствовал себя не на месте.
Хоровиками остались также Иван Смыслов, вожак альтов в мое время, и Сергей Наумов. Первый занимался своим делом в Вичуге, а второй регентовал в Москве. Был у нас еще мальчик Петя Птицын: он стоял в моем пульте и, помню, все время буквально смотрел мне в рот. Он стал хорошим певцом-баритоном, а потом ушел работать в органах. Александр Степанов, выпуска 1918 года, работал хормейстером в Большом театре, в Театре Станиславского, руководил Республиканской капеллой, которая теперь носит имя Юрлова. Во Всероссийском хоровом обществе трудился Костя Лазарев.
Я знаю, что особой известностью в Москве пользовались два других регента – Николай Матвеев в храме Всех Скорбящих Радости на Ордынке и Виктор Комаров, руководивший патриаршим хором в Елоховской. Конечно, я слушал обоих. Ни тот, ни другой не были «синодалами», но отношение к Синодальному хору у них было разное.
Комаров знал наших регентов и певцов, работал с ними, внимательно к ним прислушивался и так же внимательно относился к рассказам о пении нашего хора. Специального хорового или вообще музыкального образования Комаров не имел, но был бесконечно предан церкви и своему делу: он никогда, ни на один день не оставлял регентства – настоящий подвижник! И Данилов, и Пасхин часто встречались с Комаровым и высоко его ценили. И ведь это именно он первым в военные годы исполнил композиции Николая Михайловича Данилина, причем специально приходил домой к уже тяжело больному Данилину и получил от него указания, как что петь519.
С Матвеевым дело обстояло по-другому: ему «синодальная» традиция была чужда. В свое время между Матвеевым и Даниловым существовал сильный, хотя и скрытый, антагонизм. И я припоминаю такой факт: после смерти Данилова его страстный почитатель В. Ф. Постников предложил Матвееву приобрести составленный им перечень даниловского, то есть практически «синодального» репертуара, – но Матвеев отказался. Не из-за денег, конечно, а просто ему это было не нужно. Нельзя не признать, исполнение в храме таких произведений, как Всенощная Рахманинова или Литургия Чайковского, – заслуга Матвеева: ведь в то время их негде было больше послушать. За это он достоин благодарности, но само исполнение казалось мне далеким от настоящего, да и голосового материала у него недоставало520.
В Синодальном училище была принята «семейственность», и кроме уже упомянутых «династий», я бы хотел напомнить о братьях Шведовых – Константине, Иване и Дмитрии. Все трое были талантливые музыканты, и все – композиторы. Константин Николаевич в мое время уже преподавал в училище (я сам проходил у него гармонию), его произведения исполнялись Синодальным хором и достаточно высоко ценились. Позже он уехал из России. Младший, Митя, находился в выпуске 1918 года. Мне кажется, наиболее одаренным был средний брат – Иван, очень рано умерший. Он скончался от тифа в 1919 году, вскоре после премьеры, сочиненной им кантаты на открытие мемориала на Красной площади. Рукописи его, по-видимому, погибли.
Следующая династия – братья Потоцкие. Из них особенно выделялся способностями старший, Сергей. Впоследствии он стал советским композитором и об училище не вспоминал, на наши встречи не ходил. Я уже говорил, что в хоре были вожаки в каждой партии. В мое время Александр Потоцкий являлся и солистом, и вожаком вторых сопрано. Судьбы третьего брата, Григория, в детстве скромного, симпатичного мальчика, я не знаю, но, встретив как-то в концерте Александра Александровича Кастальского и меня, он не счел нужным нас узнать. Еще один Потоцкий, Клавдий, стал музыкантом и, кажется, регентовал одно время в храме Воскресения Словущего в Брюсовском переулке.
Можно еще вспомнить братьев Шориных: из них Михаил стал хормейстером Большого театра. Как и многие другие «синодалы», он сочинял, и одно его песнопение – на Лазареву Субботу, «Прежде шести дней Пасхи» – пользовалось известностью. Рассказывали, что Шорин не сознавался в своем авторстве, но раз в году приходил в храм Всех Скорбящих Радости на Ордынке послушать свое сочинение, которое Матвеев там всегда исполнял.
А то еще был у нас в школе один мальчик – грек Попандопуло, его товарищи не особенно любили за угрюмость и неразговорчивость. Маленького роста, черноволосый, этот мальчик отлично играл на скрипке и кончил училище в последнем выпуске 1918 года по первому разряду – вместе с Митей Шведовым, своим единственным другом. Через несколько лет мы встретились при таких обстоятельствах.
С наступлением НЭПа произошло и смягчение сухого закона, введенного в начале Первой мировой войны. Закрытые чайные и трактиры вновь стали открываться на московских рынках. Особенно расплодились пивные – московский люд так и валил туда. Под пивные пошли бывшие небольшие рестораны, магазины и прочее. Впрочем, обстановка там была вполне приличная, пиво прекрасное (включая так называемое «бархатное») и замечательные закусочки, которых подавали понемножку: моченый горох, мятные прянички, хребтинка воблы, соленые сушки, ломтики копченой колбасы. В каждой пивной имелся свой ассортимент, и завсегдатаи делились друг с другом адресами лучших заведений. Кроме того, для многих посетителей пивных притягательной силой становились выступления артистов и музыкантов, преимущественно из числа безработных. Особым вниманием пользовались исполнители русских песен, а также выступавший в пивной на Арбатской площади (в помещении столовой ВЦИКа, по вечерам обращавшейся в пивную) ансамбль цыган – он стал потом основой театра «Ромэн». Как-то мы, трое друзей-«синодалов», зашли в одно из подобных заведений – пивную Ливенбрет у Покровских ворот. Там играл струнный оркестр, и возглавлял его наш Попандопуло! Конечно, мы подошли к нему. Но трудно было предположить, что обычно угрюмый Попандопуло станет вспоминать об училище с умилением, буквально со слезами на глазах. Играл он замечательно, и как только раздавались звуки скрипки, зал затихал. Не знаю, что с ним произошло дальше.
Как я уже говорил, большей части моих школьных товарищей пришлось изменить профессию.
Вот Саша Чепцов – близкий мой друг, сосед по парте: карьеру свою он кончил председателем Верховной коллегии Военного трибунала. Он приходил на встречи «синодалов» в послевоенные десятилетия. Однажды рассказал такую историю.
Чепцов служил в Пятигорске, а Николай Михайлович Данилин приехал туда на курорт лечиться. Встретились они как-то на улице, и Данилин не узнал своего бывшего ученика, а Чепцов нарочно не поздоровался. И так несколько раз. В конце концов при очередной встрече Чепцов, носивший военную форму, сказал: «Товарищ Данилин? Следуйте за мной». Таким образом он довел очевидно перепуганного Данилина до собственного дома, попросил жену принести им выпить и закусить и назвал свое имя. Дальше они весьма тепло побеседовали. Мне рассказывали, что в преклонных годах, уже выйдя в отставку, Чепцов как-то попал в Синодальное училище – его пригласили быть членом экзаменационной комиссии на юридическом факультете. Человек очень суровый, он на этот раз поставил всем хорошие отметки и сказал, оглядывая наш зал: «Был я здесь когда-то Божьей дудкой...»
А еще был у нас отличный альт Саша Дроздов (он солировал на премьере «Вечной памяти» Кастальского). В 20-х годах Саша, как и некоторые другие из наших мальчиков и взрослых певчих, оказался в «органах». И случилось так, что ему с группой сотрудников пришлось делать обыск в квартире Данилина: под подозрением оказался брат Николая Михайловича, живший вместе с ним (он был арестован и, кажется, выслан). Позже, в 30-х, я встретил Дроздова на улице, и он сам рассказал мне эту историю. Но самое интересное, потом он свою службу оставил и пришел наниматься к Данилину в церковный хор. Николай Михайлович его спрашивает: «Не ты ли, Саша, приходил ко мне с обыском?» А тот отвечает: «Что вы, Николай Михайлович, как бы я посмел». По-видимому, Данилин все же его узнал, но в хор взял. Дальнейшая судьба Дроздова мне неизвестна.
С Лешей Ряузовым мы вместе после Гражданской войны пытались продолжить образование. А надо сказать, что воевал Леша в дивизии Котовского. Выбрали мы почему-то химический институт, но нам отказали: «Вы уже учились – с вас хватит, дайте поучиться другим». В результате оба мы вернулись на военную службу, но я там и остался, а Леша вскоре ушел и работал экономистом на каком-то заводе. Бухгалтером стал и Володя Костромитин. Леша Ряузов во время войны ушел на фронт и погиб там. Я потом много лет в день Лешиных именин навещал его матушку.
Особенно много «синодалов» пошло по военной линии. Сережа Юргенев в училище был известен как хороший скрипач, первый пульт в нашем оркестре. Потом он окончил военно-инженерное училище, работал в Китае и завершил службу в звании полковника. Учились у нас братья Плетюхины, Николай и Владимир. Николай после училища пошел в армию, но военное дело ему не понравилось, он стал работать в торговле, и вполне успешно. Во время Отечественной войны он сам попросился на передовую и не вернулся оттуда. По училищу Николай запомнился всем как очень развитый, начитанный мальчик. Читать он любил настолько, что забывал про уроки, и книжки у него приходилось отбирать силой. В войну ему едва исполнилось сорок лет. Его брат Владимир, полковник, долгое время служил в Министерстве обороны. Военным стал и Сергей Воскресенский – он служил в Политуправлении армии.
Очень интересовался я судьбой Сергея Васильева: он был исключительно приятным товарищем, мягким, спокойным. Окончил Васильев училище в 1918-м, и больше я о нем ничего не слыхал, пока на нашей встрече на квартире Голованова в 1975 году его одноклассник Ромашков не сообщил мне, что Васильев покончил жизнь самоубийством.
Другой любимый товарищ – Вася Бутузов. Тоже добрый, спокойный, он до глубины души оставался предан школе, ее памяти.
У него в детстве был хороший голос, и одно время Бутузов, как и Пасхин, находился «под рукой» у Голованова и смотрел на Николая Семеновича влюбленными глазами. После революции он служил бухгалтером в каком-то министерстве. Для меня имя Васи Бутузова – символ любви к нашей школе. Его давно уже нет в живых, а сын его – моряк, контр-адмирал.
* * *
Выпускник Синодального училища, регент Синодального хора Николай Семенович Голованов писал: «Синодальное училище дало мне все: моральные принципы, жизненные устои, железную дисциплину, умение работать много и систематически, привило мне священную любовь к труду».
В духе этих традиций прожили жизнь и сам Николай Семенович, и Николай Михайлович Данилин, и все те из «синодалов», кто свято хранил добрую память об училище и хоре, чувство дружбы к своим однокашникам. Я считал своим долгом помянуть хотя бы некоторых из тех, кто долгие годы оставался верен нашему прошлому.
Комментарии
В основе публикации лежит машинописный текст с разновременными правками и вставками автора (1990–1992 годы), а также беседы с автором, записанные на кассеты (все материалы в архиве составителей).
Николай Данилин
Впервые я услышал имя Николая Михайловича Данилина летом 1909 года, когда мой дядя Александр Константинович Смирнов, бывший воспитатель и педагог Синодального училища, а в ту пору преподаватель в Придворной капелле, направил меня к Данилину – своему бывшему воспитаннику – для предварительной пробы голоса с целью поступления в училище. Случилось так, что в это лето моя мать лежала в больнице, отца мы потеряли еще тремя годами ранее, и на пробу меня повел старший брат. Идти мне не хотелось, и потому я обрадовался, когда сказали, что Данилин в отъезде и проба не состоится. Осенью, когда в училище меня привела мать, я робел меньше. Испытывали голос двое: Кастальский и преподаватель постановки голоса П. В. Власов. Я стал учеником Синодального училища и вскоре встретился с Данилиным.
Он как раз тогда был назначен главным регентом хора, а также вел сольфеджио в первом и втором классах, а с четвертого по девятый – чтение хоровой партитуры. Таким образом, все годы моего пребывания в училище и хоре были связаны с ним.
Первое непосредственное общение началось на уроках сольфеджио. Пение сопровождалось игрой Данилина на рояле. Урок начинался с объявления номера по учебнику Альбрехта, потом учитель брал начальный аккорд и указывал темп. По взмаху руки мы начинали петь – обычно всем классом и только иногда по одному. Петь сольфеджио в классе Данилина было наслаждением, настолько увлекала его виртуозная игра на рояле. Голос так распевался, что конец урока всегда казался неожиданным.
Думаю, что Николай Михайлович взялся преподавать сольфеджио именно в первом и втором классах с целью подготовки квалифицированных певцов для хора. Он не только развивал умение петь с листа, но и ставил голоса и дыхание будущим хористам; на его уроках шло выравнивание коллективного пения, вырабатывались уверенность, четкость исполнения521.
Иногда на уроках сольфеджио мы разучивали некоторые произведения. Помню юбилейную кантату Ипполитова-Иванова, которую выучили наизусть за один урок. Через несколько дней кантата исполнялась всем детским составом в концерте, и вихревое, задорное звучание звонких мальчишеских голосов вызвало бурю аплодисментов522.
В третьем и четвертом классах сольфеджио проходили по очень трудному учебнику Саккетти. Уроки вел Николай Нилыч Толстяков, тоже прекрасный пианист, но педагог значительно слабее Данилина, «без огонька».
Если на сольфеджио мы пели главным образом вместе, то чтение хоровой партитуры носило индивидуальный характер523. В четвертом и пятом классах на занятиях по этому предмету проходили обиходное пение и все церковные службы в том виде, как они пелись в Успенском соборе. Исключались лишь песнопения, исполнявшиеся по нотам, да и то не все: например, «Ангел вопияше» Бортнянского мы сдавали, как и обиход, наизусть в трех тональностях. На этих уроках Данилин сам не играл – только давал задание и проверял его исполнение. Отметки он ставил достаточно жестокие: играть следовало без ошибок, в правильном темпе и со всеми принятыми в хоре оттенками. Иногда среди учеников возникали споры по поводу темпов и нюансов, так как сам Николай Михайлович дирижировал тем или иным произведением по-разному. Спор решался отметкой, полученной на уроке.
Приходил Данилин на занятия обычно с опозданием – задерживался в учительской комнате. Но всегда успевал всех спросить: ему достаточно было послушать начало задания, чтобы поставить соответствующую оценку. При этом игру ученика-неудачника он мог сравнить с игрой тапера в немом кино и тому подобное. Николай Михайлович вообще был мастер на образные сравнения. Так, готовя хор к концерту, в котором должна была исполняться Херувимская Чайковского, он не мог добиться пианиссимо от детских голосов, начинающих песнопение. После многократных повторений он даже пригрозил заменить нас фисгармонией, а потом сказал: «Ведь это – шелест крыльев херувимов».
На уроках чтения партитуры в регентском отделении, то есть с шестого по девятый класс, изучался остальной репертуар Синодального хора: сочинения Бортнянского, Турчанинова, Чайковского, Рахманинова, Кастальского, Шведова, П. Чеснокова и многих других. Готовить задание следовало по нотам, но тоже в трех тональностях. Часто ученики регентского класса, уже спавшие с голоса, обращались к тем, кто в это время пел в хоре, с просьбой подсказать характер исполнения заданного произведения. Ведь на спевки хора никого не пускали, и они проходили при закрытых дверях.
Николай Михайлович появлялся в училище всегда строго одетым: костюм-«тройка», брюки с большим напуском на штиблеты; сам – чисто выбрит, усы подстрижены, волосы «под ежик». На спевках в Большом зале мы невольно сравнивали внешность нашего регента с бюстом Василия Сергеевича Орлова, который помещался справа от эстрады. В те годы Данилин ходил очень медленно, шагал с каблука, прищелкивая подошвой. Притаившись в ожидании грозного учителя, мы по шагам определяли его приближение к классу. Иногда кто-либо из старших учеников пытался «пугнуть» нас, шагая по коридору походкой «под Данилина». Но вот в класс входил сам Данилин и произносил коротко: «По алфавиту!», что означало: первым вызывается ученик, чья фамилия стоит первой в журнале. Или: «С конца!», то есть к роялю шел последний по журналу. Затем слышалось: «Довольно, следующий!» Впрочем, иногда учитель приходил в веселом настроении, садился с нами за общий стол, раскрывал журнал; тогда он слушал нас снисходительно и ставил добрые отметки. Даже спрашивал нас: «Что поставить такому- то?» – столько и ставил.
Готовить задания по чтению партитуры было тяжело: не хватало ни времени, ни свободных инструментов, и приходилось ночами, тайком спускаться из спальни в музыкальные комнаты. И это не всегда помогало, в журнале появлялись жестокие отметки. Но как-то Данилин на уроке, сказав роковое «довольно», не сказал «следующий», а остановился у окна и задумчиво поглядел на училищный двор: может быть, вспомнил свое детство, – и потом, повернувшись к нам, ласково пожалел неудачников.
Сам Николай Михайлович всегда был отлично подготовлен – к занятиям, к репетициям, к концертам, безукоризненно сдержан в общении с певчими, взрослыми и малолетними, серьезен, строг и бесконечно требователен. Позже воспитатель и педагог училища И. Г. Красильников рассказал мне о своем разговоре с Данилиным. Николай Михайлович вспомнил, как однажды, в начале своей деятельности, он оказался неподготовленным к службе и сорвал одно песнопение. Сильно удрученный, Данилин отправился в трактир, а потом дал себе слово никогда и нигде не выступать, не будучи в совершенстве подготовленным. Работать с Данилиным, учиться у него было и страшно, и радостно. Говорили, что Данилин груб и что это следствие «синодальной бурсы». Однако мы считали требовательность регента вполне естественной. Как и Данилина, нас в нашей школе учили быть трудолюбивыми, правдивыми, прямыми людьми. Таким мы и видели нашего учителя. Он четко ставил цель и уверенно вел к ней хор, потому и авторитет его был непоколебим.
Данилин работал без ассистентов, не разрешал присутствовать посторонним. Рассказывали, что у Орлова за роялем обычно сидел девятиклассник. Данилин же всегда играл сам. Он требовал полной сосредоточенности, не допускал форсирования звука, учил петь «без подъездов», твердо «ставить» ноту. Часто напоминал о дикции возгласом «Слова, слова!» Почти всегда подпевал хору, и вообще чувствовалось, что дирижер и хор органически слиты в единое целое.
На репетициях либо возобновляли старый репертуар, либо разучивали новый. Часто повторяли отдельные «куски», пели и полным составом, и по голосам, «с отделкой» и без таковой. Обычно сначала Данилин проигрывал сочинение на рояле в темпе и со всеми оттенками. Потом – сольфеджирование в замедленном темпе под рояль. После – пропевание с текстом, вместе и по голосам. Следующий этап – по голосам без рояля. Заключительный этап – пение всем хором с частичным сопровождением рояля, в требуемом темпе и с нюансами.
Характерно для Данилина, что он никогда не унижал певцов и не заставлял петь поодиночке на хоре. Он мог обратиться к партии или к пульту с требованием спеть то или иное место. Иногда сам показывал – и очень хорошо, – как нужно взять определенную ноту или интервал. Характерно и то, что он достигал pianissimo не за счет сокращения числа поющих, а за счет мастерства управления хором (Голованов же иногда прибегал и к сокращению певцов).
В концертах хор строго выполнял все отработанное на спевках. На клиросе же исполнение почти всегда отличалось новыми, неожиданными деталями.
Рассказывали, что великий регент Синодального хора Орлов не особенно любил клиросное пение, предпочитая концерты. Данилин – наоборот: пение на клиросе всегда было вдохновенным, всегда с большим подъемом. Видимо, и на регента, и на хор действовали Успенский собор и сама служба. Только здесь, на клиросе, рождался неожиданно новый нюанс, вдруг раскрывавший красоту обычного, простого обиходного песнопения. Так, хор всегда ожидал исполнения «Отче наш» напева Большого Успенского собора: при очень медленном темпе на фоне пиано всего хора четко выделялось кантабиле вторых басов, преимущественно октавистое. Во время службы в полной мере раскрывалась красота едва ли не самого чудесного произведения Кастальского – икоса «Сам Един». Случаи «необыкновенного исполнения» возникали у Данилина почти на каждой службе. На клиросе бывало тесно и душно, стоять в «парадах» длинную службу тяжело, но петь – захватывающе интересно. Кстати, эту данилинскую клиросную манеру – внезапно «выводить» какой-то голос, подголосок – в полной мере унаследовал один из наших знаменитых выпускников, руководитель Хора донских казаков Сергей Жаров.
Так называемое «простое», гласовое пение и пение нотное исполнялись на клиросе по-разному. Пение «на гласы», например, стихир, отличалось бесстрастием; здесь требовалась прежде всего четкая дикция. Исполнение же композиторской музыки отличалось тщательностью нюансировки. В богослужебном репертуаре хора в предреволюционные годы преобладали произведения Кастальского, часто исполнялись песнопения Павла Чеснокова, Гречанинова, Виктора Калинникова. Реже – Бортнянского, Львова, Чайковского, Римского-Корсакова, Ипполитова- Иванова, Никольского, Шведова, Рахманинова (из Литургии), Голованова, Комарова, Толстякова (московского). В определенных службах – обязательно некоторые песнопения Турчанинова, Львовского, Смоленского. Насколько я помню, не пели или почти не пели Архангельского524. Была ли у Данилина своя «схема дирижирования»? Нет, было властное гипнотическое воздействие на певцов. Хору все было показано – и руками, и мимикой, словесных пояснений почти не требовалось. Широкий взмах или едва заметное движение пальцев, губы, повторяющие ело- ва песнопения, устремленный на нас ястребиный взгляд, в руке камертон. Хор под управлением Данилина не знал срывов – ни на службах, ни на концертах. (Срывы бывали у регентов И. С. Чумакова, В. П. Степанова – певцы не воспринимали заданного тона, вступали вразброд, но тоже крайне редко; мне помнятся лишь два таких случая.)
На концертах Данилин задавал тон, прохаживаясь между рядами певцов, и при этом делал указания, призывы ко вниманию, иногда персональные. В это время чувствовалось особое напряжение, доходившее до предела в тот момент, когда дирижер вставал перед хором – монолитным инструментом, готовым с полной отдачей выполнить волю своего руководителя.
Как выяснилось позже, Данилин сочинял церковную музыку, но мы об этом даже не подозревали. Помню, мы однажды спросили у Филиппа Петровича Степанова: «Почему Николай Михайлович сам не пишет?» Филипп Петрович ответил, что он тоже задавал такой вопрос Данилину и тот объяснил, что не может писать, потому что у него в памяти звучат все исполняемые хором произведения, и следовательно, то, что он напишет, неизбежно будет заимствованием откуда-нибудь. Все композиции Данилина написаны уже после революции и, кажется, никогда не были напечатаны525.
Я знаю от регента Виктора Комарова, что в 1944 году он приходил к Данилину, чтобы поговорить о его хорах. Данилин был, по-видимому, один дома, и Комаров долго ждал перед дверью, пока не услышал медленные шаги в шлепанцах: Николай Михайлович открыл дверь. И он рассказал Комарову, как нужно исполнять его песнопение «О Тебе радуется», и когда я услышал потом этот хор под управлением Комарова, я понял, что он воспроизвел точно данилинские указания, в частности темповые526.
Синодальный хор часто очень хвалили. Данилин этим не обольщался, повторяя нам, что «вот когда не Тит Титыч, а музыкант похвалит, тогда это ценно». Помню, мы стремились познакомиться с рецензиями Юрия Сахновского, критика умного и к нам очень требовательного527.
Данилин знал голос каждого певца, взрослого или мальчика. Уже будучи в пятом классе, я почувствовал спад своего голоса. На спевке Николай Михайлович серьезно и как-то печально поглядел на меня и сказал только: «Жмешь горло – это плохо». Мной овладела тоска: скоро конец моей певческой жизни, времени детских радостей и горестей, тяжелых служб и вдохновенных переживаний, необыкновенных впечатлений. На одной из служб в соборе митрополиту Макарию потребовался посошник, и выбор пал на меня. Стою у царских врат в ожидании выхода митрополита и снова вижу устремленный на меня печальный взор Данилина.
Это был конец моего пребывания в составе великого, до сих пор никем не превзойденного хора, ушедшего в легенду, как и его дирижер.
Комментарии
Очерк о Данилине написан в 1992 году. Поводом к его созданию послужила публикация в сборнике Музыкальных собраний «Наследие – 1992» воспоминаний А. П. Смирнова о похоронах Кастальского. Кроме авторской рукописи, находящейся у составителей, в очерке использованы фрагменты устных воспоминаний Смирнова.
Всенощная Рахманинова
В феврале 1915 года на одной из очередных репетиций Синодального хора на пультах появилась новая партитура в синей обложке. Раскрыв ноты, мы увидели надпись: «С. Рахманинов. Всенощное бдение. Памяти Степана Васильевича Смоленского». Нам предстояло первыми исполнить это произведение на концертной эстраде528.
Несколькими годами раньше Синодальный хор (тоже впервые) исполнял другое сочинение Рахманинова – Литургию, и мы знали, что тогда, то есть в 1910 году, один экземпляр литографированной партитуры пропал. Дело осложнялось тем, что Литургию (как и потом Всенощную) хор получил на правах рукописи и должен был соблюдать интересы автора до выхода сочинения в свет. Виновником происшествия оказался певчий Синодального хора. После случившегося никто из нас не мог и предполагать, что вторая встреча с композитором когда-либо состоится529.
Предстоящая работа вызвала ощущение радости как среди певцов, так и у нашего дирижера Николая Михайловича Данилина, это чувствовалось по его приподнятому настроению. Немаловажную роль в этом сыграло посвящение нового произведения памяти Смоленского: для Синодального училища и хора это имя было священным. К репетициям приступили с волнением. Обычно перед разучиванием Данилин проигрывал новое произведение один раз, но теперь он сыграл произведение дважды, сопровождая показ короткими замечаниями: «Послушайте еще раз», или: «Это только кажется, что трудно. Трудно исполнять на рояле, а в хоре легко». И действительно, Всенощная Рахманинова не оказалась для Синодального хора столь трудным произведением. Законченная композитором в начале февраля, она была исполнена впервые 10 марта и получила высокую оценку музыкальных критиков и слушателей; восхищались одновременно и музыкой, и исполнением530.
Из общего числа номеров Всенощной сразу были исключены три: первый – «Приидите, поклонимся», тринадцатый – «Днесь спасение» и четырнадцатый – «Воскрес из гроба». Разучивание началось со второго номера – «Благослови, душе моя, Господа» греческого роспева, и шло в порядке номеров. При изучении второго номера мы обнаружили, что нечто подобное уже было в нашей практике – вспомнилось «Благослови, душе моя» греческого роспева Кастальского, и первоначальная робость исчезла. Некоторая задержка произошла при разучивании двенадцатого номера – Великое славословие, но и здесь хор преодолел все трудности, благодаря тому, что «синодалы» отличались высокой техникой чтения нот с листа. Теперь, памятуя прошлое, после каждой спевки мальчик-библиотекарь Саша Чепцов собирал ноты раньше, чем хор расходился531.
На одной из первых репетиций к пультам взрослых певцов были поставлены ученики старших классов Синодального училища, которые в недавнем прошлом детьми пели здесь, а теперь готовились сами стать регентами. Такое «подключение» вполне грамотных музыкантов, хотя с крайне посредственными (из-за ломки) голосами было временным (всего на две репетиции), но принесло определенную пользу. По традиции на спевки Синодального хора почти никто и никогда не допускался. Исключения делались, например, для авторов, чьи произведения готовились к первому исполнению (на памяти посещения М. М. Ипполитова- Иванова и А. Т. Гречанинова). Со Всенощной дело обстояло так. Как-то занятие хора посетил наш начальник – прокурор московской Синодальной конторы Ф. П. Степанов, – пробыв в зале не более десяти минут. Но однажды во время репетиции стеклянная дверь вдруг распахнулась и в зал вошел медленной уверенной походкой мужчина необыкновенно высокого роста; он прошел средним проходом к первым рядам кресел, сел и, раскрыв точно такую же партитуру, как и у нас, начал слушать.
Дирижер не остановил хор, но все догадались, что это Рахманинов. С этого дня аккуратно к началу репетиции являлся и Сергей Васильевич; садился на то же место, внимательно следил за исполнением, одновременно со всеми перелистывал страницы и.… безмолвствовал. Лишь один раз вместо Рахманинова пришла его жена, прослушала всю спевку, а в перерыве читала книгу.
Во время антрактов Рахманинов и Данилин шли в регентскую комнату, помещавшуюся рядом с залом, и там оба курили; их голоса до нас не доходили. Но вот на одной из последних репетиций Рахманинов заговорил, и мы услышали густой низкий бас, который напомнил нам голоса наших октавистое. В работе в это время находился второй номер. Сергей Васильевич попросил спеть сольную партию не всем альтам, как было приготовлено, а только первым, потом предложил попробовать вторым. Надо сказать, что в Синодальном хоре не было принято солирование. Сольные места исполнялись или всей партией, или пультом (четырьмя-пятью певцами), и в данном случае соло готовили всей альтовой партией, тем более что партитура позволяла такое совмещение. Рахманинова это не удовлетворило, и он, как стало известно, рекомендовал для этого номера солистку Большого театра О. Р. Павлову, обладательницу прекрасного меццо-сопрано. (Замечу, что для пятого номера – «Ныне отпущаеши» – уже был приглашен артист Оперы Зимина С. П. Юдин.) Когда об этом узнал прокурор, он предложил передать Всенощную в Большой театр. На концертах сольную партию пели альты.
На одной из репетиций произошел такой случай. Рахманинов в каком-то из номеров настойчиво добивался иного исполнения по сравнению с тем, что предлагал Данилин. Он явно искал новые оттенки в звучании, и Николай Михайлович выполнял пожелания автора. Вскоре стало заметно, что Данилину такое экспериментирование надоело, он нахмурился и, повернувшись к Рахманинову, сказал: «Хорошо, Сергей Васильевич, мы учтем», – и закрыл крышку рояля, что означало конец репетиции. Композитор и дирижер пошли в разные двери.
Мы решили, что из-за этого случая вообще прекратятся репетиции Всенощной. Но какова была наша радость, когда на следующий день мы снова увидели ту же партитуру и, как прежде, в зал вошел Рахманинов. В этот раз Данилин остановил хор и, обернувшись лицом в зал, сказал: «Здравствуйте, Сергей Васильевич!» – на что последний ответил: «Здравствуйте». Инцидент, как видно, был исчерпан, и все почувствовали облегчение.
Вся подготовка к концертам проходила в атмосфере большого творческого подъема. Вообще я должен сказать, что Синодальный хор пел всегда с большим подъемом, в особенности под управлением Н. М. Данилина. Характер исполнения никогда не был унылым, бесцветным или тусклым, наоборот – всегда бодрым и радостным. Так было и со Всенощной. На все концерты мы шли уверенные в успехе. Несмотря на существовавшее правило, запрещающее аплодисменты во время исполнения духовной музыки, слушатели после заключительного аккорда Всенощной начинали бурно аплодировать; на опустевшую эстраду выходил один Рахманинов и возвращался за кулисы, держа в руке веточку белой сирени.
Всех концертов в течение месяца состоялось пять – все пять в Большом зале Благородного собрания. Юдин пел с хором только в двух первых концертах, начиная с третьего – солировал первый пульт теноров, где среди певцов выделялся Н. К. Скрябин, обладатель замечательного голоса.
Может возникнуть естественный вопрос: а исполнялась ли Всенощная в Успенском соборе? В середине 1910-х нам казалось, что для Всенощной Рахманинова еще не пришло время. Мы чувствовали, что в Успенском соборе могло бы прозвучать песнопение «Богородице Дево, радуйся», но только однажды, под Успеньев день, Синодальный хор спел в соборе одним правым клиросом под управлением Данилина заключительную часть – «Взбранной воеводе». Я хорошо помню эту службу: собор был переполнен молящимися, даже великую княгиню Елизавету Федоровну и обер-прокурора Св. Синода Саблера буквально притиснули к клиросу; мы, певчие, очень устали, и вдруг Данилин решил петь Рахманинова! Исполнение не имело ничего общего с тем, как это было на концерте: ни по звучанию, ни по общей слаженности.
В последний раз Всенощная исполнялась Синодальным хором в конце 1916 года в Большом зале Синодального училища. В тот день в училище приехали Рахманинов и Шаляпин, среди приглашенных лиц находился Н. Д. Кашкин532.
Приезд Шаляпина для нас был большой неожиданностью. При входе в зал Рахманинов представил гостя А. Д. Кастальскому. Последний заметно волновался, и на лице его появился румянец – явление для нашего директора необычайное. Шаляпин выразил удовольствие по поводу знакомства и сказал, что он «много наслышан» о Кастальском. Когда гости вошли в зал, их встретил улыбающийся Данилин. Обменявшись рукопожатием с Рахманиновым и Шаляпиным как старый знакомый, а может быть, и друг, он вернулся на эстраду, чтобы руководить исполнением гениального творения композитора – как оказалось, последним исполнением Всенощной Рахманинова Синодальным хором. К этому случаю Николай Михайлович приготовил пять частей Всенощной, со второй по шестую (первая, как уже говорилось, нами не разучивалась).
По окончании пения никто не покинул зал. Рахманинов, Шаляпин, Кастальский, Данилин, Кашкин и другие гости о чем-то долго беседовали. Все ждали «ответного» выступления прославленного артиста. Однако ожидания оказались напрасными. Федор Иванович ограничился тем, что, собрав вокруг себя мальчиков, которые расположились на полу у его ног, стал рассказывать о школьнике, который неудачно отвечал на вопросы учителя, при этом Шаляпин в живых интонациях передавал диалог. Содержание рассказа не помню, зато «управление» голосом и его исключительную бархатистость запомнил навсегда. Во время рассказа Шаляпин был серьезен, гости улыбались, а ребята искренне смеялись. И здесь я впервые увидел, как замечательно улыбался Рахманинов. Он смотрел на Шаляпина восхищенным взглядом как-то снизу-вверх. До этого момента мы видели его всегда строгим, замкнутым, «неулыбой». Перед отъездом Шаляпин расписался в книге почетных посетителей («Золотой книге»).
Прошли годы. В 1960-х годах я встретил бывшего артиста и инспектора хора Большого театра Николая Ивановича Озерова. Этот человек в молодости занимался перепиской нот для Синодального хора. Именно он переписывал Всенощную с авторской рукописи для литографирования. От него я узнал, что на одном из концертов он был представлен Рахманинову как переписчик его Всенощной, и при нем композитор лестно выразился по адресу хора. «Я и не ожидал, – сказал Рахманинов, – что написал такое произведение». Высшей оценки пения Синодального хора и не могло быть!533
Отличительной чертой пения Синодального хора являлась монолитность, и это особенно было заметно во время исполнения Всенощной Рахманинова. Мой старший брат, побывавший на одном из концертов, говорил мне: «А я все время смотрел на тебя, и мне казалось, что ты один поешь за всех альтов».
Что касается работы над Всенощной, то и в этом случае Данилин оставался самим собой – кратким, конкретным, и это обязывало певцов быть точными при выполнении требований дирижера. Отдельные пояснения Данилина помогали хору точнее выразить характер каждого номера. В Шестопсалмии он указывал на имитации колокольного звона, это соответствовало уставу звонить в колокола во время службы и было нам понятно. По поводу «Ныне отпущаеши» он заметил, что этот номер – колыбельная, и это также соответствовало сюжетным положениям библейского сказания. При разборе «Взбранной воеводы» Данилин пояснил, что здесь слышатся трубы, которые звучали при взятии Иерихона.
Хотя партитура Всенощной изобиловала всевозможными авторскими указаниями, Николай Михайлович вводил много своих нюансов и прекрасно расцвечивал произведение. Так, в начале второго номера на слове «аминь» Николай Михайлович делал crescendo, и это небольшое добавление особым образом действовало на хор, который сразу же оказывался во власти дирижера, предельно внимательный и сосредоточенный. Когда мы, воодушевленные исполнением, подходили к заключительному аккорду, который звучал не на piano, а на mezzo forte и даже forte, нам всегда было жаль расставаться с музыкой.
Комментарии
Очерк о работе Синодального хора над Всенощным бдением Рахманинова перепечатывается из сборника «Памяти Н. М. Данилина» с некоторыми сокращениями (сокращенные фрагменты введены в текст «Воспоминаний» А. П. Смирнова) и измененными, ввиду специфики данного сборника, комментариями.
Николай Голованов
Как-то в начале осени 1910 года на спевке Синодального хора в Большом зале училища мы увидели за роялем красивого юношу. По требованию руководителя спевки Ивана Семеновича Чумакова, помощника Н. М. Данилина, он послушно играл отдельные фрагменты исполняемых хором произведений. Это был Николай Голованов, закончивший Синодальное училище весной 1909 года и получивший должность четвертого регента Синодального хора534.
Вчерашний ученик, сразу ставший регентом, – явление в практике Синодального училища ранее не встречавшееся. Коля Голованов был прекрасным учеником и закончил курс со званием регента первого разряда. Обладая превосходным голосом – дискантом – и отличным слухом, он являлся солистом хора, одним из трио так называемых «исполатчиков», то есть мальчиков, которые во время архиерейских служений исполняют песнопения на греческом языке. Голованов был старшим в трио, в которое входили еще второй дискант Александр Потоцкий и альт Владимир Степанов (будущий хормейстер Большого и Мариинского театров, профессор Московской консерватории). В последние годы пребывания Голованова в училище ему поручалось руководить небольшим составом хора на службах во дворце великой княгини Елизаветы Федоровны535.
В течение всех лет учения Коля Голованов был вожаком, уверенно проявлявшим свою волю по отношению не только к одноклассникам, но и к старшим ученикам. В частности, был случай, когда, заподозрив одного воспитанника в фискальстве, Голованов организовал ему бойкот. В условиях общежития нарушителя товарищеской этики всегда ждет отчужденность, и такая мера воздействия заставляет каждого быть требовательным к своим поступкам и неукоснительно соблюдать в жизни законы, которым нас учили на уроках Закона Божия и катехизиса. Кстати, этим следует объяснить ту суровость и требовательность, которые проявились впоследствии в деятельности как Голованова, так и других «синодалов». Однако бойкот, объявленный воспитаннику Василию Гребневу, отразился на Голованове неблагоприятно: его, блестяще окончившего Синодальное училище, не занесли на почетную «Золотую доску», ту, на которую были занесены имена других выпускников – Михаила Климова, братьев Павла и Александра Чесноковых, Николая Толстякова, всего не более десятка, и последний – упомянутый Василий Гребнев, окончивший училище в 1910-м536.
В 1911 году отмечалось 25-летие реформированного Синодального училища. Концерт Синодального хора, посвященный этой дате, был составлен из произведений недавних выпускников, в их числе исполнялся головановский эксапостиларий Пасхи «Плотию уснув»537. Композицией Николай Семенович стал заниматься еще в последних классах училища, первые его произведения относятся к 1907 году. Как сравнительно недавно стало известно, духовных композиций Голованов написал около семидесяти, причем последнюю – в 1952 году. Из них до сих пор изданы только 23 номера, вышедшие у Юргенсона до революции538.
Конечно, выбор текстов определяется мыслями и настроениями композитора в данный момент, но все же можно сделать некоторые предположения. Так, очевидно, что ряд произведений связан с Успенским собором Кремля, в котором Николай Семенович сначала пел, потом регентовал: например, эксапостиларий на Успение, храмовый праздник. Есть песнопения, посвященные святителю Николаю – покровителю Николая Семеновича. Голованов всегда был человеком православным и не скрывал этого. Некоторые произведения прямо посвящены Синодальному хору, как духовные, так и светские. Неоднократно встречается посвящение А. Д. Кастальскому: для Голованова Александр Дмитриевич был не только директором училища и хора, но и добрым наставником, защитником. Написанное в 1927 году рождественское песнопение «Дева днесь» посвящено «светлой памяти А. Д. Кастальского», скончавшегося в декабре 1926-го539.
...Однажды, в 1946 году, я случайно включил служебный репродуктор. Шла передача с участием Николая Семеновича. Я услышал тот самый чеканный головановский выговор, к которому привык в годы учения. Голованов говорил о своем учителе Кастальском – приближалось 90-летие со дня рождения Александра Дмитриевича. Не отрываясь слушал я дорогие мне имена прежних товарищей и учителей. Выступление Голованова всколыхнуло далекие прекрасные воспоминания, и сам Николай Семенович стал мне особенно близок и дорог...
Интересно, что два произведения, созданные в 1920 и 1936 годах – «Приидите, ублажим Иосифа» и «Воскресение Твое, Христе Спасе», – посвящены памяти Смоленского. Степан Васильевич ушел с поста директора Синодального училища в 1901 году – в то время, когда Голованов учился в первом классе. На прощание директор подарил каждому ученику свое фото с подписью. Память о Смоленском свято хранилась в стенах училища и передавалась от поколения к поколению – так же, как память о Василии Сергеевиче Орлове, которому Голованов посвятил два песнопения из того же опуса, где посвящения Смоленскому (ор. 37, Песнопения Великого Поста и Страстной Седмицы). И другие головановские посвящения связаны с Синодальным хором и училищем – посвящения Н. М. Данилину, П. Г. Чеснокову, а также Виктору Сергеевичу Калинникову, превосходному автору духовной музыки и преподавателю теоретических дисциплин в училище540. На его занятиях Голованов получил твердые знания, позволившие впоследствии легко поступить в Московскую консерваторию и блестяще ее окончить по композиторскому отделению у С. Н. Василенко: за одноактную оперу «Принцесса Юрата» Голованов получил малую золотую медаль, и фамилия его была занесена на мраморную доску, рядом с Танеевым и Рахманиновым.
Но вернемся к деятельности Голованова в Синодальном хоре. Поездка сокращенного (сорок один человек) состава хора на открытие памятника-храма в Лейпциг принесла Голованову большие и заслуженные лавры. Я рассказываю об этой поездке подробно в своих воспоминаниях. Случилось так, что не главный регент, а именно Голованов дирижировал концертом хора в Берлине в присутствии кайзера Вильгельма. Помнится, что вышел Николай Семенович на эстраду своим обычным широким шагом, но начал дирижировать неуверенно. Впрочем, хор, понимавший сложность и ответственность положения, был полностью подготовлен к концерту и пел отлично. Дирижировал Голованов и в Варшаве, где Синодальный хор выступал не впервые. И еще воспоминание. Мы, мальчики-певчие, ехали обратно в Москву в вагоне поезда в сопровождении Николая Семеновича и стали расспрашивать его о том времени, когда он сам был учеником. Один лихой мальчик – воспитанник Вихрев – спросил Голованова, почему тот не попал на «Золотую доску». После такого вопроса наш регент встал и ушел в другой вагон.
Вообще Голованов начал управлять Синодальным хором очень молодым. Уже 28 января 1911 года он дирижировал в концерте Литургией св. Иоанна Златоуста Рахманинова – сразу после первого исполнения этого произведения под управлением Данилина, который и разучивал сочинение с хором541. При этом Голованов не присутствовал на данилинских спевках, разве что мог слушать их из прилегающей к залу библиотеки. Только на спевках младшего помощника Данилина, В. П. Степанова, Голованов мог находиться в регентской комнате. И однажды на такой спевке за какое-то нарушение был удален мальчик Коля Плетюхин. Вместо того чтобы идти к выходу обычным путем, Коля стал, шаля, перелезать через кресла партера. В хоре послышался смех, спевка остановилась: все, включая регента Степанова, смотрели на проделки смельчака. Неожиданно из регентской комнаты вышел Голованов и, дождавшись Плетюхина у дверей, ударил его по щеке и приказал встать на площадку центральной лестницы. Само по себе стояние на площадке было у нас серьезнейшим наказанием. Поступок же Голованова произвел на всех тяжелое впечатление: никакого рукоприкладства в училище никогда не допускалось. Был один случай с Кастальским, но, по крайней мере, в коридоре и не при всех (говорят, на клиросе Александр Дмитриевич мог слегка стукнуть зазевавшегося мальчика камертоном по голове).
Надо сказать, что регент, который вел эту спевку, Владимир Павлович Степанов – по характеру вовсе не был похож на своего друга Голованова. Он происходил из семьи регента Новочеркасского кафедрального собора и был отдан в Синодальное училище, чтобы потом продолжить отцовское дело542. Общежитием Володя не пользовался – жил на частной квартире, носил свою одежду. Обладая прекрасным альтом, он долго, до седьмого класса был исполатчиком и канонархом (в частности, он солировал в знаменитом «Верую» из Литургии Гречанинова, и всем слышавшим запомнился его ровный, бесстрастный речитатив)543. Окончив училище в 1908 году, Степанов стал помощником регента в храме Христа Спасителя и в 1912 году – четвертым регентом Синодального хора и преподавателем училища. Летом он ездил с нами на дачу в Новый Иерусалим, где занимался подготовкой первоклассников к пению в хоре. Владимир Павлович был добрый, общительный, интеллигентный человек, и поступок Голованова с провинившимся Плетюхиным, конечно, огорчил его. Впрочем, с Николаем Семеновичем они крепко дружили, и пережил Степанов своего друга всего на год.
Другой эпизод. Осенью 1912 года Голованов проводил с Синодальным хором разучивание нового Всенощного бдения А. Т. Гречанинова544. Спевки шли с трудом, что бывало с хором редко. На репетициях певчие почему-то неуклонно понижали, и Голованов посадил за фисгармонию Степанова, который время от времени брал соответствующие аккорды. Хор был утомлен многократными повторениями отдельных эпизодов и к премьере отнесся безразлично. Концерт состоялся 18 ноября в Большом зале консерватории и успеха не имел. По возвращении из отпуска Данилин на спевке познакомился с сочинением и сказал библиотекарю: «Убрать». Правда, впоследствии мы все-таки исполняли отдельные части этой Всенощной, но очень редко545.
Вообще работать с Головановым хору в ту пору было трудно: он делал очень много замечаний, причем особенно доставалось мальчикам. Видимо, это была его тактика: держать всех в постоянном напряжении. По всякому поводу он мог наказать малолетнего певчего – например, оставить без отпуска на воскресенье или на праздник. Правда, потом мог быстро «отойти», простить провинившегося – для этого надо было явиться с повинной на квартиру регента. Николай Семенович обычно произносил: «Иди, и чтоб больше не баловался», а жившая с ним сестра Ольга Семеновна награждала пришедшего яблоком.
Голованов был хотя и строгим, но на свой лад добрым человеком. Помнится, пел у нас в хоре мальчик Борзенков. Однажды Николай Семенович оставил его за какую-то провинность без отпуска. После обеда Борзенков обратился к Голованову с просьбой разрешить ему все-таки идти в отпуск по семейным обстоятельствам, и надо было видеть, как отечески разговаривал Голованов с наказанным, расспрашивая о его семье. Мальчик остался без матери и в отпуск уходил редко: в доме хозяйничала мачеха. Участие Николая Семеновича тронуло ребенка, и он расплакался. Конечно, отпускная ему была немедленно дана.
На клиросе Голованов выдвигал иные требования, нежели Данилин: например, требовал исполнять обиходные песнопения легато, добивался органности, цельности звучания. Данилин же обращал главное внимание на четкое произнесение текста и на ритм, любил rubato.
И все-таки, несмотря на конфликтные ситуации, Голованов был достойным помощником регента546. С ним было петь хотя и трудно, но интересно, и хотелось петь. Он умел сосредоточить на себе полное внимание всех певчих и всегда добивался нужных ему нюансов. Это радовало нас, видевших в Голованове достойного преемника Данилина. Радовало и то, что с 1915 года Николай Семенович начал успешно дирижировать летними симфоническими концертами на Сокольническом кругу, что вскоре он стал хормейстером, а потом и дирижером в Большом театре.
Конечно, главный регент оставался для нас главным, и мы в ту пору отдавали предпочтение Данилину – великому импровизатору-интерпретатору. Что касается пения в соборе, то здесь и сам Голованов чувствовал превосходство Данилина. Причем соборный репертуар был у них разный, у каждого свой. Регентовали они по особому графику, и только библиотекарь знал репертуар данной службы заранее, поскольку должен был везти в собор ноты на извозчике (и всякий из нас норовил подсесть к нему и прокатиться)547.
Иногда возникали и непредвиденные ситуации. Так, 21 мая 1915 года, в день празднования иконе Владимирской Божией Матери, архиерейское служение с пением Синодального хора совершалось во Владимирском соборе на Никольской улице. Пел один клирос Успенского собора, причем левый, под управлением Голованова и с прибавлением трех исполатчиков. В Успенском соборе в то же время пел хор правого клироса под управлением Н. Н. Толстякова. Вдруг там появился Данилин и отозвал всех мальчиков, а частично и взрослых певцов, для неожиданно объявившейся службы в Архангельском соборе Кремля. Таким образом окончание пения в Успенском соборе возлагалось на оставшихся певцов. Однако в Архангельском соборе служба совершалась тоже архиерейская, то есть нужно было второе трио исполатчиков, какового в Синодальном хоре на тот момент не нашлось. Во избежание подобной ситуации на будущее Данилин всех мальчиков в этот праздничный день оставил без отпуска и заставил всех их учить песнопения, положенные для трио при архиерейском служении. На следующий день на общей спевке хора он проверил задание и выразил удовлетворение.
Вообще и Голованов, и Данилин были людьми нелегкими. Рассказывают, Данилин сам как-то сказал: «Я – человек хмурый, у меня на все мрачный взгляд». Тем не менее оба наши регента впоследствии заняли видные места в музыкальной культуре России. И оба оказались страдальцами: Данилин, блестящий хормейстер, руководитель Государственного хора, не получил никакого почетного звания; Голованова, великого симфонического и оперного дирижера, увольняли из Большого театра три раза. Вот что я могу рассказать об этом.
Я нередко посещал своего бывшего воспитателя Ивана Григорьевича Красильникова, который жил в доме для служащих училища на Кисловке. Здесь жили также Данилин и Голованов, и потому от Красильникова я многое знал о них. Когда же Голованов начал дирижировать консерваторским оркестром, я стал его постоянным слушателем.
Дело было во второй половине 1920-х годов. Оркестр состоял из студентов консерватории, программы – классические548. Концерты проходили обычно в дневное время, и сначала зал не был полон. Потом оркестр приобрел известность, и публики прибавилось. Особенно много народу приходило во времена так называемой «головановщины».
Ведь в первые десятилетия после революции само слово «русский» оказалось запретным: определенные лица во всем усматривали русский шовинизм и болезненно реагировали на любое упоминание о русском, подозревая везде антисемитизм. А обвинение в антисемитизме было чревато весьма тяжелыми последствиями, вплоть до предусмотренного законом тюремного заключения. Лицами еврейской национальности были заняты многие руководящие посты, и это позволяло развивать национальный протекционизм до необычайных размеров. Только с началом Второй мировой войны подобные настроения стихли, и воспрянул русский патриотизм, который, конечно, предполагает понимание того, что Россия страна всеобъемлющая, единая для своих граждан разной национальности.
Композитор Сергей Никифорович Василенко написал оперу «Сын Солнца» на либретто Гальперина. Голованов в разговоре со своим бывшим учителем посетовал, что либретто – не из русской жизни. Василенко передал эти слова Гальперину, и отсюда возникло обвинение в адрес Голованова. Правда, все это могло быть не более чем слухом. Василенко уверял, что ничего подобного никому не передавал. Скорее всего, имел место обычный шантаж, направленный против Голованова. Одновременно произошел другой случай: в качестве дирижера Большого театра Николай Семенович отказался принять в труппу одну претендентку еврейской национальности, оценив отрицательно ее вокальные данные. Голованов вообще отличался резкостью и прямотой суждений, особенно же когда речь шла о его родном Большом театре. Возник еще один повод обвинить Николая Семеновича в антисемитизме, и в газетах замелькало новое слово – «головановщина».
И вот тогда-то в Большой зал консерватории устремилась публика – больше из любопытства, скорее посмотреть, чем послушать. Как только на эстраду выходил Голованов, раздавались разом и аплодисменты и свист. Такое начало концертов стало обычным делом. А в канун Первого мая вышла следующая история.
Концерт был вечерний, зал – заполнен до отказа, при появлении дирижера – обычные бурные аплодисменты и пронзительный свист. Голованов встал у дирижерского пульта, посмотрел на зал и.… улыбнулся.
Рядом с нами, двумя «синодалами», в центре первого ряда партера сидели два элегантно одетых господина средних лет. Оба громко свистели. Демонстрация не прекращалась, шум нарастал. Тогда из ложи поднялся комиссар Подвойский и попытался сказать, что на концерт приходят слушать музыку, однако голос его потонул в общем шуме. Вдруг откуда-то с балконов раздался призыв: «Бить!» Голованов резко изменился в лице, побледнел. Тут группа тромбонистов из оркестра встала и сыграла туш. Николай Семенович обернулся к музыкантам и поклонился. Шум же еще усилился. В оркестр поднялся из зала проректор консерватории Назарий Григорьевич Райский, поднял руку – и зал стих. «В связи с предстоящим праздником, – сказал он, – оркестр исполнит «Интернационал"». Голованов встал за пульт, и оркестр заиграл. «Интернационал», конечно, слушали стоя. Потом начался концерт по программе. Один из наших соседей злобно произнес: «Сволочь!»
Как известно, нарком просвещения Анатолий Васильевич Луначарский был прирожденным оратором и очень часто выступал публично на разные темы – о мещанстве, об интеллигенции, об искусстве, о религии. Он проводил публичные диспуты с митрополитом «обновленцев» Александром Введенским, выступал со вступительным словом перед концертами и спектаклями. Например, он однажды говорил перед концертом в Большом театре, посвященном Чайковскому, и в конце речи назвал великого композитора «великим нытиком».
Попасть на выступления Луначарского было трудно. Помню, в 1923 году он говорил с трибуны около Большого театра перед проходящей демонстрацией рабочих московских заводов, вызванной ультиматумом Керзона: обсуждался советский ответ британскому министру. И вот, доходя до трибуны и слушая Луначарского, демонстранты останавливались и неохотно шли дальше – требовали продолжать выступление. Выйдя из колонны, я отправился домой и, проходя по пустынному Газетному переулку, увидел двигающуюся навстречу открытую легковую машину. Она ехала медленно по булыжной мостовой, и ее единственный пассажир подпрыгивал от тряски, придерживаясь за кузов. Это был Лев Давидович Троцкий: видимо, он направлялся к Большому театру. И единственный на пустынной улице прохожий, поравнявшись с машиной и взглянув на пассажира, произнес одно слово: «Лейба» ...
О выступлениях Луначарского сообщалось заранее. На одной из афиш, относящейся к году «головановщины», публику оповещали о концерте оркестра под управлением Николая Семеновича со вступительным словом Анатолия Васильевича. Однако накануне концерта в газетах появилось письмо Луначарского, где говорилось, что «по известным причинам» он не сможет выступить. Однако тогда же М. И. Калинин на встрече с комсомольцами выразил более умеренный взгляд на ситуацию. Страсти стали затихать, тем более что самого Голованова из Большого театра уже уволили. Это случилось в 1928 году, а в 1930-м его вновь пригласили в театр. Но еще в 1929-м прошла премьера оперы «Сын Солнца» в филиале Большого, и в директорской ложе Голованов находился вместе с Василенко549.
В 1936 году последовало второе увольнение Голованова – на этот раз вызванное протестом части труппы против грубости дирижера550. И только в 1948-м, уже Народным артистом СССР, Голованов в третий раз пришел в Большой, теперь главным дирижером. В это время он работал в консерватории и в Радиокомитете, где организовал оперный Радиотеатр и руководил Оркестром Радио, скоро ставшим одним из лучших в стране. Он руководил и Московской филармонией и Оперной студией К. С. Станиславского551.
Хорошо известно, что с послевоенной деятельностью Голованова в Большом связаны постановки «Бориса Годунова», «Хованщины», «Садко». Это были для дирижера очень плодотворные годы, и имя Голованова с глубоким уважением произносилось профессионалами и любителями музыки. И вдруг в мае 1953 года его снова увольняют из Большого – якобы за развал работы. Встретив дирижера Большого театра Мишу Жукова, моего одноклассника по Синодальному училищу, я спросил его о причине увольнения. И получил ответ, что Голованов имеет очень высокую зарплату (700 рублей) и при этом не дирижирует. Однако причины могли быть и другие. Рассказывали, что еще в 1939 году Голованов и Нежданова были приглашены консультантами при проведении в Москве Декады белорусской культуры, и со свойственной ему прямотой Николай Семенович посоветовал премьерше Белорусского оперного театра Л. П. Александровской оставить сцену. Александровская пожаловалась первому секретарю ЦК Белоруссии П. К. Пономаренко, а после войны этот секретарь стал министром культуры СССР и расквитался с Головановым.
После увольнения Голованов уехал к себе на дачу на Николину Гору и только в августе вернулся в Москву. Наступало время сбора труппы Большого, и появились сведения, что приказ об увольнении Голованова будет отменен. Однако отмена задерживалась, и Николай Семенович вновь уехал на дачу. 25 августа дирижер Юрий Файер приехал на Николину Гору с печальным сообщением, что отмены не последовало. Николай Семенович пошел провожать Файера, и у калитки с ним случился второй – смертельный – инфаркт (первый вместе с инсультом он получил в 1948 году). Через три дня его не стало. И было это в Успеньев день, столь памятный Николаю Семеновичу и всем «синодалам», – храмовый праздник Успенского собора. Именно в этот день Провидению было угодно положить конец страданиям великого русского дирижера552.
Гроб был доставлен в Москву. Я пришел на квартиру Николая Семеновича проститься. Дверь отворила его сестра Ольга Семеновна. В комнате никого не было. Ольга Семеновна готовилась к отпеванию. Я простился с любимым дирижером...
Хорошо помню концерт памяти Голованова, состоявшийся в 1955 году в Большом зале консерватории: тогда оркестром Большого театра были исполнены отрывки из спектаклей, которыми дирижировал Голованов; выступал и Оркестр Радио. Дирижировали разные мастера по очереди. Особенно сильное впечатление оставило вдохновенное звучание фрагментов из «Раймонды» Глазунова под управлением Файера. Зал был переполнен и с восторгом слушал концерт, посвященный любимому дирижеру553.
Комментарии
Очерк о Голованове – хронологически последний фрагмент воспоминаний А. П. Смирнова (осень 1992 года). В основе публикуемого текста – авторская рукопись, хранящаяся у составителей данного сборника.
Великий архидиакон
Кремлевские соборы приходов не имели, и москвичи, как и многие приезжие, приходили в Успенский собор, особенно в воскресные и праздничные дни, чтобы послушать пение знаменитого хора и насладиться службой известного всей России протодьякона. Одна внешность Константина Васильевича вызывала радостное чувство. Высокий, с правильным лицом, курчавыми волосами, он был во всем очень гармоничен и являл собой тип русского красавца. Сквозь золотые очки смотрели добрые, доверчивые глаза, и все его служение убеждало в искренности слов и действий.
Неторопливость и уверенность Константина Васильевича создавали атмосферу полного спокойствия у хора и у всех сопричастных к служению. Так было всегда, и никакие трудности, никакие высокопоставленные лица не влияли своим присутствием на благочинность и стиль службы Константина Васильевича.
Мне самому довелось восторгаться Константином Васильевичем не только в древнем Успенском соборе, где все действо так гармонировало с окружающей стариной, но приходилось петь в службах других церквей, где присутствовали главы государств. Так было на различных торжественных службах в 1912 году в связи со 100-летием Отечественной войны 1812 года, так было и в 1913 году в Лейпциге, на освящении и открытии храма-памятника, посвященного «Битве народов» 1813 года.
Пение Синодального хора часто, если не всегда, сочетали со службой Константина Васильевича. И неизменно он был великолепен. Особенно поражал его голос. Это был прекрасный, необыкновенный по тембру бас-профундо, исключительного звучания, без каких-либо хрипов или качаний. Полная уверенность и спокойствие, постоянное чувство своих возможностей – вот что отличало протодьякона Розова. Я, например, не помню ни одного срыва на высоких нотах при полном звучании голоса, в Многолетии, да и на низком звуковом диапазоне он никогда не «давился» и всегда знал свои возможности554.
Дикция Константина Васильевича была великолепна. Навсегда запомнилось его чтение Евангелия в Великую Пятницу. Чтение это длится очень долго, но держит слушателей в полном внимании к тексту, что достигается не только содержанием, но и ровностью звучания, изумительным дыханием. И это чтение Розова изумляло не только тогда, но и много лет спустя моих товарищей-синодалов, когда мы вспоминали о своей школе, своем детстве, юности.
В последний раз я видел и слушал Константина Васильевича и свой Синодальный хор в 1917 году. Я отправился в Успенский собор ко всенощной службе под праздник Воздвижения. Время было тревожное. Народ заполнил собор, что называется, до отказа. Пройти на клирос было невозможно, и я остановился у западных дверей, где было все видно и слышно. Как всегда при архиерейском служении, певцы в своих одеждах малинового цвета сошлись с клиросов на амвоне для исполнения торжественного песнопения «Хвалите имя Господне». Хор запел произведение Кастальского.
Растворились царские врата, и все духовенство во главе с епископом вышло на середину собора. Шествие замыкал Константин Васильевич. В его руке был сноп зажженных свечей, и в это время, по обыкновению, по свечам центрального паникадила побежал зажженный шнур, осветивший паникадило и собор. Торжественный, незабываемый момент!
Весной 1919 года, вернувшись в Москву после долговременной отлучки, я узнал, что вместо Синодального хора, слившегося с певцами других московских хоров, организовалось три хора. В одном из них, где хормейстером был А. В. Александров, пел и Константин Васильевич, не оставляя служения в храмах Москвы555. Слушал я этот хор в зале сада «Эрмитаж» летом 1919 года. Пожалуй, это выглядело странным, но ничего зазорного я, как и все, в этом не чувствовал. Концерт проходил днем, народу было мало. По окончании концерта все вышли на свежий воздух. Возле Константина Васильевича сгруппировался кружок, в котором были П. Г. Чесноков, Н. С. Голованов, А. В. Александров и другие. Слышался голос Голованова, он в то время давал в церквах концерты духовной музыки с участием Неждановой, Стрельцова, возможно, и Розова556.
В 1921 году Москва отмечала юбилей Константина Васильевича – 25-летие его служения церкви. Храм Христа Спасителя был переполнен народом. Мне с трудом удалось пробраться к правому приделу храма на хоры, откуда я его и увидел в облачении и камилавке: он был уже архидьяконом. Я вновь увидел мощную фигуру этого красавца, но услышать его голос мне не удалось; служба долго не начиналась, еще не приезжал патриарх Тихон, который должен был возглавить это торжество. Было видно, как Константин Васильевич переходил с одного клироса на другой и разговаривал с П. Г. Чесноковым и Н. М. Данилиным. Я не мог долго оставаться там и вынужден был до начала службы покинуть храм. Как оказалось позже, я ушел, не дождавшись наречения Константина Васильевича Великим архидиаконом. Такое наречение было первым в православной церкви557.
В 20-х годах я жил на Пречистенке, и путь мой на службу лежал по Моховой улице. Однажды, в 1922 году, на углу этой улицы и Воздвиженки я увидел в пролетке Константина Васильевича. На нем было легкое пальто, шляпа, в руках палка, на которую он опирался, и неизменные золотые очки. Милый, всегда дорогой для меня человек! В те годы в Москве жителей было мало, и я, заметив на себе его взгляд, снял фуражку и поклонился ему.
Эта встреча была для меня последней. Весной 1923 года с моим товарищем мы готовились к поступлению в вуз. Происходило это у одного из преподавателей Синодального училища, продолжавшего жить в прежней, когда-то казенной квартире. И вот однажды его прислуга Матрена собралась уходить, как она сказала, на панихиду. Оказалось, что скончался Константин Васильевич и будет первая панихида в Крестовоздвиженском храме, что находился в этом же дворе.
В храме людей было немного, пришли те, кто жил поблизости. Были А. Д. Кастальский, Н. М. Данилин, Н. С. Голованов, П. Г. Чесноков. Первую панихиду служил архиепископ Трифон, многочисленные служения которого в Успенском соборе совершались всегда вместе с Константином Васильевичем. Совместное служение этих двух пастырей всегда отличалось красотой и убедительностью. Если будет дозволено сказать – это был великолепный дуэт!
Сказанное архиепископом Трифоном прощальное слово было полно печали и глубокого сожаления о ранней смерти Константина Васильевича. Запомнились мне сказанные им слова, что покойный Константин Васильевич относился к вере очень непосредственно, «подобно ребенку», и это очень точно. Гроб с его телом несколько дней находился на Воздвиженке, и ежедневно совершалось несколько панихид в многочисленном присутствии почитателей Великого архидиакона.
21 мая старого стиля Православная церковь отмечает день московской святыни – иконы Владимирской Божией Матери, которая находилась в Успенском соборе Московского Кремля, а также память равноапостольного царя Константина. И случилось, что похороны Константина Васильевича пришлись именно на этот день. Гроб был установлен в храме Большого Вознесения. Накануне совершалась всенощная; служил весь причт Успенского собора с протопресвитером Н. А. Любимовым во главе558.
Неожиданно прибыл священник Красницкий, который вместе с митрополитом Александром Введенским возглавлял церковный раскол тех лет – так называемую «Живую церковь». Патриарх Тихон находился под арестом в Донском монастыре, а «Живая церковь» бурно захватывала церкви разных приходов не только Москвы, но и многих городов России. Сам московский люд, притихший, подавленный историческими событиями, предпочитал посещать храмы, сохранявшие старые традиции и, в частности, церковный календарь, от которого отказались «живоцерковники». Священство Успенского собора оставалось стойко приверженным традиционной церкви. Возможно, Красницкий в этот день пытался найти контакт с московской паствой. Быть может, искал примирения. Случай представился вполне подходящий. Служба прошла обычно и закончилась панихидой. Скандал разразился на улице, при выходе Красницкого из храма, и продолжался, пока он не вошел в подошедший трамвай559.
Литургия и отпевание следующего дня продолжались очень долго, и выстоять всю службу в битком набитом храме можно было лишь с сознанием любви покойного Константина Васильевича к своему призванию, а также любви к покойному москвичей.
Народом были заполнены и обе прилегающих к храму улицы. Катафалк, запряженный двумя парами лошадей в белых попонах, направился к Ваганьковскому кладбищу. Отдать последний долг тому, кто так украшал жизнь москвичей, собрались тысячи благодарных людей. Стояла прекрасная солнечная погода. Но предание тела земле состоялось на следующий день – еще не все успели проститься с Константином Васильевичем560. На Ваганьковском тогда присутствовала вся приверженная старине Москва. Подобный всплеск народного чувства был, мне кажется, предпоследним. Последним стали похороны патриарха Тихона в Донском монастыре.
На сороковой день кончины Константина Васильевича была совершена литургия в храме на Ваганьковском кладбище. За несколько дней до этой памятной даты освободили из-под стражи патриарха Тихона, и он в сопровождении протопресвитера Любимова приехал днем на кладбище, чтобы отслужить литию на могиле своего Великого архидиакона.
Отмечалось и полугодие кончины Константина Васильевича. Было это в храме Василия Кесарийского на Тверской улице. Служба была очень торжественная, с патриархом Тихоном. Отдавали восхваление человеку, неуклонно устоявшему в годы церковного раскола, о чем в своем слове, по указанию патриарха, говорил епископ Можайский Борис.
Комментарии
Очерк о Великом архидиаконе был написан А. П. Смирновым по просьбе дочери К. В. Розова Людмилы Константиновны в 1989 году; в ее личном архиве сохранился машинописный экземпляр с надписью: «Людмиле Константиновне Розове – в память о Константине Васильевиче». В 1991 году очерк опубликовал журнал «Наше наследие» (1991, № 1) – с небольшой редакторской правкой и купюрой эпизода, связанного с «живоцерковником» Красницким: этот эпизод сохранился в другом машинописном экземпляре из архива автора, датированном 15 июня 1989 года (находится у составителей). Публикация выполнена по этому экземпляру с учетом некоторых изменений, сделанных при журнальной публикации и согласованных с автором.
Церковный календарь Синодального хора
Сегодня – 5 августа. Завтра – день Преображения и сбор Синодального хора, который после Троицыного дня все лето пел в сокращенном составе. Сегодня малолетние певчие, попрощавшись со своим летним отдыхом в Новом Иерусалиме, приступают к обычной трудной и напряженной работе561. За этот один день надо добраться до училища (трамваем от Виндавского [ныне Рижского] вокзала до Арбатской площади, затем пешком парами до Б. Никитской улицы), успеть сходить в баню в Брюсовский переулок; потом – спевка в Большом зале училища, после которой будет всенощная в большом Успенском соборе, в Кремле. Туда тоже надо дойти пешком и там не только отстоять два с половиной часа, но и петь и быть в большом напряжении – иначе можно получить взыскание и остаться без отпуска. А как хочется домой!
6 августа – обедня. Хор поет, как и пел всенощную, на два клироса. Архиерейскую службу с освящением плодов обычно служит епископ Трифон. Хор поет с подъемом, отдохнувшими голосами. Во всей службе чувствуется большая торжественность. У ребят приподнятое настроение: из отпуска вернулись товарищи-одноклассники, которых не было все лето; решается вопрос, кто с кем будет сидеть за одной партой в следующем классе, а главное – сегодня после службы будет отпуск домой на воскресенье.
С 7 августа начнутся ежедневные, исключая субботу и воскресенье, спевки к главному празднику Успенского собора – дню Успения. Репетиции будут продолжаться два часа с перерывом в пятнадцать минут. В хоре мальчиков новое пополнение: вливаются бывшие ученики приготовительного класса, перешедшие весной в первый класс. Их обычно около двадцати человек. Еще летом, в Новом Иерусалиме, все они разучивали под руководством В. П. Степанова канон Успения. На первой же спевке Н. М. Данилин делает «прогон» всего канона и, убедившись в освоении его новым поколением, сдерживает ретивость малолетних певцов. Через неделю, в канун праздника, малышей приведут в Успенский собор и распределят по хоровым пультам; не успевших выучить канона поставят на левом клиросе. С этого дня начнутся незабываемые часы их жизни в замечательном храме, представляющем собой духовный центр государства и олицетворяющем Святую Русь.
Чем поражал Успенский собор? Торжественной строгостью! Все здесь было прекрасно: древний иконостас, чеканной работы «царские врата», великолепные оклады икон, серебряное паникадило со свечами (электричество в соборе отсутствовало), фресковая живопись на стенах, внутри куполов, на столпах, золоченые шатры над мощами московских святителей, медь решеток клиросов, массивность медных подсвечников...
Около западного входа располагалось архиерейское возвышение, занимавшее расстояние от левого столпа до правого. Вся середина собора, амвон, оба клироса, весь алтарь были покрыты красным сукном, частично коврами и дорожками. В дни архиерейских служб все присутствующие из числа молящихся находились за четырьмя столпами, а внутренняя часть собора была закрыта деревянными, массивными, невысокими разборными заграждениями.
Духовенство всегда имело прекрасные ризы одного общего цвета и покроя. Обслуживался собор служителями-мужчинами, одетыми в специальные кафтаны синего, а в большие праздники красного цвета. Службы шли без каких-либо заминок как в самом ритуале, так и в пении, чтении и произнесении возгласов.
В репертуаре Синодального хора были главным образом произведения А. Д. Кастальского, суровое аскетическое творчество которого Н. С. Голованов сравнивал с фресками Успенского собора, подчеркивая, что произведения этого композитора по исключительной оригинальности и стильности, по национальной сущности перекликаются с гениальной живописью Андрея Рублева562.
Пение Синодального хора в Успенском соборе отличалось бесстрастностью и спокойствием. Поющие на клиросе были серьезны и сосредоточенны563. «Обычное пение» шло по Обиходу под редакцией Кастальского. Внешняя и внутренняя красота убранства храма, пение Синодального хора, само богослужение – все это объединялось в законченную гармонию Православия. Не удивительно, что собор был главной достопримечательностью Москвы, где старались побывать не только москвичи, но и все, приезжавшие в древнюю столицу.
В канун праздника Успения, 14 августа, служба в соборе начиналась с вечерни в три часа дня. Вечерня состояла, главным образом, из пения канона. Хор пел двумя клиросами, которые сходились в центре храма, оставляя между собой проход на ширину «царских врат». Управлял хором регент правого клироса. Хор пел вечерню в своих лучших «парадах» – голубых боярских кафтанах.
После этой службы певцы отправлялись на отдых. В помещении Синодальной конторы устраивался чай с обилием фруктов, домашними левашниками и другой едой. В шесть часов вечера начиналась всенощная – самая тяжелая служба за весь годовой календарь. Она продолжалась очень долго, и одетым в бархатные красные «парады» певчим стоять в условиях большой духоты от многочисленных свечей и многолюдности, да еще петь, было страданием. Видимо, этим обстоятельством вызывался перерыв в пении клиросов. Певчие по очереди выходили на свою площадку возле Синодальной конторы подышать свежим воздухом и выпить разбавленного кагора.
В отличие от обычной службы, на всенощной Успеньева дня «Приидите, поклонимся» не читалось, а пелось протодьяконом К. В. Розовым, стоявшим на амвоне возле правого клироса. Он стоял с большой свечой и пел по нотам, которые перед ним держал один из головщиков хора. Розов начинал первую фразу псалма «Блажен муж»; затем это песнопение (киевского роспева) продолжал альт-канонарх – мальчик из Синодального хора с ярким, зычным голосом. Одно время, помню, канонархом был ученик Чернышев, потом прекрасный альт Дроздов, а после него – Вася Алексеев.
В 1915 году за службой в Успеньев день единственный раз под управлением Данилина в исполнении правого клироса прозвучало рахманиновское сочинение «Взбранной воеводе» – ничего не получилось! Вообще песнопения из Всенощной Рахманинова в Успенском соборе никогда не исполнялись. Считалось, что их современное звучание не отвечало, древности храма. Кроме того, после блестящих концертов Всенощной трудно было даже Синодальному хору приспосабливать исполнение к условиям церковной службы. Только один номер – «Богородице Дево» – «синодалы» считали созвучным Успенскому собору благодаря его исключительной задушевности.
По окончании всенощной Успеньева дня мы парами возвращались в училище и по дороге из Кремля шли и «клевали» носами от усталости. Все праздничные службы в Успенском соборе были для малолетних певчих очень мучительными. Иногда случалось, что ребята, по каким- либо причинам не ходившие на службу и остававшиеся дома, пением встречали возвращавшихся вечером из храма: «Помучили, помучили». И некоторые дети не выдерживали и начинали плакать. Но за ночь все же удавалось отдохнуть, и литургия на следующее утро шла без устали.
Надо сказать, что петь литургию Успеньева дня было трудно и ответственно: репертуар был очень сложным, а строгость дирижеров чрезмерной. Особенно отличался Н. С. Голованов, который все три службы управлял левым клиросом. На правом клиросе в этот праздник всегда дирижировал Н. М. Данилин. В обычные дни между ними была очередность, поскольку Голованов был помощником Данилина.
Получить взыскание от Голованова ничего не стоило, и он умудрялся за одну лишь службу оставить ученика без отпуска на один-два месяца. Однако день 15 августа был особым: после праздничного обеда наступал отдых и снимались все наказания, полученные как на спевках, так и в соборе. В праздник Успения все наказания снимал инспектор Синодального училища К. П. Успенский, который, в порядке исключения, совместно с дежурным воспитателем сам рассматривал причины наказания и принимал добрые решения. Затем москвичей отпускали по домам, а иногородние могли идти в город.
В отпуск мы шли до 19 августа. С этого дня начинались обычные службы в Успенском соборе, проводившиеся на два клироса. На правом клиросе чередовались регенты Н. М. Данилин и Н. С. Голованов; на левом – Н. Н. Толстяков и В. П. Степанов. Все четверо были выпускниками Синодального училища и впитали его лучшие традиции и навыки; все четверо в прошлом – малолетние певчие Синодального хора, прошедшие школу знаменитого регента В. С. Орлова. За время с 21 по 31 августа Синодальный хор полным составом пел только субботнюю и воскресную службы да одну спевку. В конце августа Москва отмечала два праздника: 26 августа – Сретение иконы Владимирской Божией Матери и 30 августа – Перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского. Однако оба дня хор был свободен от службы как в Успенском соборе, так и в Сретенском монастыре.
Малолетние певчие Синодального хора отправлялись на церковные службы в Кремль парами. Выстраиваясь в училище у библиотеки имени С. В. Смоленского, они затем выходили во двор и направлялись напрямую в Кремль по Б. Никитской улице, мимо Никитского женского монастыря, на Моховую улицу, мимо университета. Не доходя угла Воздвиженки, они пересекали трамвайные пути, шли мимо Манежа, проходили Кутафью башню и по правому тротуару виадука входили в Троицкие ворота. Далее путь лежал мимо казарм до Царь-пушки, затем мальчики сворачивали направо и входили во двор Синодальной конторы. Сразу же за воротами, с левой их стороны впритык к стене здания собора Двенадцати апостолов находилась деревянная пристройка. В ней хранились парадные костюмы хора. Одев «парады», дети парами направлялись на службу и входили в Успенский собор через северные его врата. Зимой в храм входили через западные двери и переодевание происходило в правой части алтаря. Перед началом службы певцы располагались по клиросам, где некоторое время взрослые могли посидеть на откидывающихся скамьях, а дети – на скамеечках, поставленных перед иконостасом. Скамьи для отдыха певчих были установлены в 1910-е годы нынешнего века.
Новые «парады», выполненные по эскизам художника В. М. Васнецова и сшитые фабрикантом парчи А. В. Голосовым, появились у хора в 1909 году. В «парадах» пели на богослужениях, в то время как на концертах ребята были одеты в свою школьную форму564. Прежде Синодальный хор, подобно другим московским церковным хорам – Чудовскому, храма Христа Спасителя и другим – был одет в польские кафтаны (кунтуши) с откидывающимися назад рукавами. «Парады», напоминавшие русские боярские костюмы XVII века, были сшиты из разных тканей и употреблялись в следующих случаях:
–– малиновые бархатные – использовались в зимнее время на всех архиерейских службах;
–– голубые атласные – при особо торжественных событиях: Успеньев день, Пасха, заграничные поездки хора;
–– черные с лиловым отливом бархатные – в дни Страстной недели и на траурных церемониях;
–– светло-серые из плотной шерстяной ткани – в дни архиерейских служений в летнее время.
Все «парады» были расшиты золотой тесьмой. В 1970-х годах мне вновь довелось увидеть эту парадную одежду в отделе тканей Музея Московского Кремля. Удивительно, что сохранилось некоторое количество «парадов», поскольку в результате боев в Кремле в 1917 году была разрушена палатка, где хранились костюмы Синодального хора. Разрушенные ворота и палатка представлены на одной из фотографий, помещенных в журнале «Нива» за 1918 год565.
Размещение хора на клиросах Успенского собора было следующим.
Схема расположения Синодального хора на клиросах Успенского собора
На каждом из клиросов, начиная от царских врат, вдоль иконостаса располагались первые и вторые тенора; затем, полукругом, стояли октависты, басы и баритоны. Таким образом, октависты смыкали строившихся полукругом теноров и басов. Линию взрослых певцов завершал стоявший вслед за баритонами головщик. Дети находились как бы внутри взрослого хора: впереди теноров, лицом к молящимся, стояли дисканты; впереди басов и баритонов, лицом к алтарю, стояли альты. Мальчики-певчие, в отличие от взрослых, располагавшихся шеренгами, стояли пультами – то есть небольшими группами по 4–5 человек. На каждый пульт приходился один экземпляр нот, который во время пения держали один или два мальчика. Часть нот хранилась в Успенском соборе, в специальном шкафу за правым клиросом. Но обычно пользовались нотами, которые привозились к службе на извозчике из библиотеки Синодального училища и раздавались на всю службу.
Регенты клиросов стояли посреди разомкнутого к амвону кольца певцов и были обращены лицом к иконостасу. Ноты перед дирижером держал один из мальчиков. На языке «синодалов» это называлось «стоять под рукой» у регента. Удостаивались этой чести наиболее способные ребята. Так, «под рукой» у Орлова стоял Коля Голованов, потом у самого Голованова – Вася Бутузов.
При исполнении таких значительных песнопений, как «Благослови, душе моя, Господа», Херувимская, «Милость мира» и другие, оба клироса сходились к центру амвона, оставляя между собой проход на ширину царских врат. Полный состав хора пел под управлением регента правого клироса; регент левого клироса уходил вглубь солеи. Если исполнялись сочинения с солирующими голосами, то певчий-солист становился перед амвоном.
Головщики Синодального хора – оба басы – следили за правильностью выбора песнопений во время богослужения, а также пели вместе с басовой партией хора. Головщиком левого клироса был Д. М. Булычев, правого – С. А. Королев, который в особых случаях мог заменить Н. М. Данилина: например, во время Пасхи, когда певцам, пришедшим с крестного хода, нужно было петь, а дирижер не успевал прийти на клирос.
Однако вернусь к календарю Синодального хора, к первому его дню.
1 сентября – начало церковного года, а с ним и начало учебного года в Синодальном училище, начало планомерной работы Синодального хора. В это утро в большом зале училища служился молебен, который совершал законоучитель о. Виктор Кедров при пении Синодального хора под управлением Данилина. На молебне присутствовал весь педагогический состав, а также прокурор Синодальной конторы Ф. П. Степанов.
Первым большим праздником, приходившимся на начало учебного года, было отмечаемое 8 сентября Рождество Богородицы. В этот день в Успенском соборе пел в полном составе Синодальный хор и совершалось богослужение с участием архиерея.
13 сентября – предпразднство Воздвижения. Всенощная в Успенском соборе совершалась с чином «воздвижения креста», во время которого хор обоих клиросов сходился вместе за амвоном, на левой стороне для исполнения произведения Львовского «Господи, помилуй». Такая традиция существовала во времена В. С. Орлова, а возобновил ее Н. С. Голованов, который всегда дирижировал этой всенощной. Только 13 сентября 1917 года службой управлял Н. М. Данилин. Помнится, что сам крест был большого размера и, что обращало на себя внимание, он был заключен в металл сплошной чеканной работы. Литургия в день Воздвижения всегда была торжественной, архиерейской. Хор выступал с серьезным репертуаром.
19 сентября, в память избавления Москвы от татар в 1591 году, совершался крестный ход в Донской монастырь.
1 октября, в день Покрова Богородицы, богослужение было не только в Успенском соборе, но и в храме Василия Блаженного, где в этот день пела лучшая часть Синодального хора. Службе, совершаемой митрополитом с участием протодьякона К. В. Розова, предшествовал крестный ход из Успенского собора в храм Василия Блаженного, а затем, после литургии, обратно в Кремль.
Последней в году всенощной, которую Синодальный хор пел в полном составе, была всенощная 4 октября в канун дня Московских святителей: Петра, Алексия, Ионы, Филиппа и Гермогена. Их мощи, кроме мощей митрополита Алексия, покоившихся в Чудовом монастыре, находились в Успенском соборе. Перед началом всенощной, которую совершал митрополит, вдруг раздавалось пение монашеского хора – это из Чудова монастыря выносили икону митрополита Алексия, изображавшую святителя в полный рост. Икону помещали за правым клиросом, у южных дверей собора. Торжественными и длительными были как всенощная, так и литургия этого большого праздника Москвы.
После дня Московских святителей всенощные в Успенском соборе долгое время не служились. Вероятно, это объяснялось стремлением сохранить хор, и главным образом ребят. Я помню, однажды, когда был ремонт Успенского собора, мы пели на клиросе в шубах. И надо было видеть, с какой отеческой бережливостью смотрел на ребят проходивший мимо них сакелларий Пшеничников.
В зимнее время в соборе вместо всенощных перед воскресеньями и праздниками служились утрени, на которых пела группа взрослых певчих численностью в десять человек. Таким образом, взрослые певцы хора разбивались на три очереди, а так как пели они ночью, то и носили прозвище «ночников». Управлявший пением ночников регент В. П. Степанов рассказывал нам, что в затемненном соборе почти никого не было, только слышалось рокотание низких голосов священнослужителей да пение мужского хора. Ночное пение в пустынном полутемном соборе производило впечатление чего-то совершенно необычного и старинного. Казалось, что из-за колонны вот-вот выйдет Иван Грозный.
На эти утрени пешком из Марфо-Мариинской обители приходила великая княгиня Елизавета Федоровна – сестра императрицы. Ее всегда сопровождала женщина в таком же, как и у Елизаветы Федоровны, светлом одеянии. Эту великую княгиню мы постоянно видели и на других службах в соборе, где присутствующие приветствовали ее поклоном. Бывала она и у нас в училище. Запомнились тонкие черты ее красивого лица и милая улыбка. Муж Елизаветы Федоровны, великий князь Сергий Александрович, брат императора Александра III, был убит террористом Иваном Каляевым, и прах его покоился в Чудовом монастыре. Мы иногда ходили петь заупокойную литургию по нем.
После Покрова всенощные для ребят совершались в самом Синодальном училище, в его большом зале, где перед эстрадой ставился аналой и на него возлагались Евангелие и крест. На этих всенощных пел хор, состоящий из младших воспитанников, учеников регентского отделения (6–9 классы), а также ребят, голос которых был «переходным» и которые не участвовали в пении Синодального хора. У нас тоже были левый и правый клиросы. На левом клиросе по очереди дирижировали ученики восьмого класса, а на правом – ученики девятого класса. Были обязательно и канонархи – альты третьего класса. Старшие ребята пытались исполнять соло. Например, Вася Кусков солировал в «Ныне отпущаеши» Кастальского.
Училищные всенощные служил наш духовник протоиерей Успенского собора Иоанн Воздвиженский, который вел службы внимательно и ровно. Он был человеком с мощной фигурой, седой головой, в очках, плавно движущийся и добрый566. Воздвиженский обладал низким басом и служил точно в тоне, дополняя общий ансамбль каждой церковной службы. За регентскими пультами стояли юноши, но надо было видеть, с каким вниманием относился к ним Воздвиженский.
22 октября – празднование иконе Казанской Божией Матери. В этот день крестный ход шел из Успенского собора в Казанский собор, располагавшийся на Красной площади, на углу Никольской улицы. Все службы в этот день совершались подобно тому, как и 1 октября, когда крестный ход направлялся в храм Василия Блаженного.
31 ноября – праздник Введения во храм Богородицы. Литургия обязательно с архиерейским служением.
Следующая большая служба была 6 декабря, в день святителя Николая. В конце месяца – Рождество Христово. Этому празднику предшествовал сочельник, когда служили вечерню с водосвятием и «царскими часами». На последних исполнялось «Господи, помилуй» Г. Ф. Львовского. Обычно этой службой управлял Н. С. Голованов, который выводил оба клироса за амвон и исполнял все песнопения сводным составом. Говорили, что так было еще во времена В. С. Орлова.
24 декабря, в канун Рождества, в два часа ночи, в соборе служилась утреня. Учеников укладывали спать в шесть часов вечера, а ночью с трудом поднимали. Шли в Кремль сонными, но по приходе на клирос заметно оживали, и вскоре хор пел с подъемом. Особенно оживляли ирмосы «Христос раждается» ... Для ребят «маячили» елка и рождественские каникулы. Наутро – торжественная обедня, а по ее окончании молебен. Во время утрени и литургии хором управлял Н. М. Данилин.
Репертуар песнопений на рождественских богослужениях всегда был отменным. На утрени исполнялось «С нами Бог» Кастальского. Вообще предпочтение произведениям А. Д. Кастальского отдавалось всегда и, в частности, на Рождество пели его тропарь и кондак, «Хвалите», Херувимскую «на разорение Москвы» (этот день был связан с воспоминанием о войне 1812 года), «Милость мира» сербского роспева, «Верую» № 1.
На второй и третий дни праздника, если они не были воскресными, хор пел литургию только на один клирос. Воскресную литургию, как обычно, пели полным составом.
Под Новый год в Успенском соборе в 12 часов ночи совершался новогодний молебен. Так же, как и под Рождество, учеников укладывали спать с шести часов вечера, так же трудно поднимали с постелей с окриками дядек и дежурных воспитателей, так же полусонными вели в Кремль. Одно утешение: короткая служба и опять песнопение «С нами Бог», которое сразу оживляло хор.
Молебну предшествовало слово, произносимое в назидание верующим. Особенно мне запомнился молебен под 1916 год. Ровно в 12 часов ночи служившее духовенство во главе с митрополитом вышло из алтаря и выслушало проповедь протоиерея храма Василия Блаженного Иоанна Восторгова567. Он считался монархистом, и с его именем было связано возвышение Распутина, которого Восторгов рекомендовал к царскому двору. Будучи прекрасным проповедником, он произнес слово о неверии в народе, об отходе от православия и учащении случаев самоубийства.
В самый день Нового года совершалась литургия Василия Великого.
5 января – Крещенский сочельник, литургия Василия Великого, а затем «царские часы» и водосвятие. 6 января – Крещение, литургия, по окончании которой совершался крестный ход на Москва-реку. Процессия выходила через западные двери, проходила между двух соборов – Архангельским и Благовещенским – и спускалась вниз через Тайницкую башню. На реке устраивался специальный помост для размещения хора. Служился молебен, по окончании которого производился артиллерийский салют.
7 января, если этот день не совпадал с воскресеньем, начиналось учение после каникул.
Москва и москвичи всегда отмечали памятные даты в истории Российского государства. В такие дни из Успенского собора совершались крестные ходы, в которых участвовали церковные приходы со своим духовенством, многие горожане, а также воспитанники старших классов Синодального училища. Крестный ход, возглавляемый архиереем с многочисленным духовенством, с иконами и хоругвями, при звоне колоколов, медленно двигался по московским улицам в определенный монастырь или храм, отмечающий дату праздничного события.
В зимнее время (не помню точных чисел) совершался крестный ход вокруг Кремля в память освобождения России и изгнания галлов в 1812 году. Из Успенского собора шествие, в котором принимал участие полный состав Синодального хора, направлялось к Спасским воротам, затем через Красную площадь к Иверским воротам, где находилась часовня с чтимой всей Россией иконой Иверской Божией Матери. Каждый православный человек, приезжая в Москву, первым делом по обычаю направлялся поклониться этой святыне. Иверская часовня располагалась между двух арок, соединявших Исторический музей и Думу, и была приписана к Николо-Перервинскому монастырю. Крестный ход шел мимо церквей, из которых выходил причт и присоединялся к процессии. Возле Иверской часовни совершался молебен, по окончании которого крестный ход через Боровицкие ворота возвращался в Успенский собор.
Помню два таких крестных хода, и оба они проходили при сильном морозе. И хотя мы под бархатными «парадами» были одеты в пальто с меховыми воротниками, а на головах у нас были скуфьи, мороз сильно пробирал. Правда, у нас не было перчаток (они почему-то не полагались). Однако закалка организма учащихся была вполне достаточной для таких тяжелых испытаний, и не помню, чтобы кто-либо простудился или чтобы лазарет был переполнен. Закутанные, с нахлобученными на головы скуфьями, мы не узнавали друг друга, и это вызывало большое веселье, хотя крестному ходу предшествовала длительная литургия, совершаемая митрополитом.
28 января начиналась масляная неделя, начинались новые каникулы в учебе, которые продолжались две недели. Однако у хора наступали дни частых служб.
Вся неделя с 29 января по 4 февраля проходила в церковных службах и спевках. 2 февраля отмечался праздник Сретения; служба архиерейская. Вскоре начинался и Великий пост. В Прощеное воскресенье совершалась литургия, на которой прочувствованное слово произносил епископ Можайский Василий.
С первой недели Великого поста начинались литургии Преждеосвященных Даров. Каждую среду и пятницу хор пел эти службы в Успенском соборе, причем на первой неделе поста и на Страстной Седмице службы пелись полным составом хора, а в остальные недели – лишь одним клиросом, для чего хор делился на три очереди, называемые «назначками». При пении полного хора трио «Да исправится молитва моя» исполнялось мальчиками, в отдельных случаях – взрослыми певчими. Пение проходило перед амвоном. Все службы этой литургии служились местным причтом, без архиерея.
На первой неделе Великого поста учащиеся говели; в четверг – индивидуальная исповедь, а в субботу – обедня в церкви Николы Гостунского, что в колокольне Ивана Великого. Исповедь и литургию совершал наш духовник протоиерей Воздвиженский.
В воскресенье первой недели поста была служба, именуемая «Торжество православия». Литургии предшествовала специальная служба, во время которой выходил на возвышение протодиакон Розов и начинал поминать истинных поборников православия, провозглашая им «вечную память». Начинал он с византийских святых Константина и Елены и кончал русскими святителями. Потом наступал черед отступникам от православия. Протодьякон перечислял их имена и грехи, заключая чтения возгласом «анафема», который подхватывали мощные басы всех клириков. Нам, ребятам, было страшновато. Чин православия и литургия продолжались около трех часов568. День Православия и Успеньев день были самыми тяжелыми в году.
На третьей неделе Великого поста, в среду, из алтаря на середину собора выносился крест и возлагался на аналой. Это был тот же самый, заключенный в чеканную оправу крест, что и в сочельник Крещения. В пятницу крест вновь вносился в алтарь. Весь ритуал совершал очередной протоиерей, правящий службы этой недели.
Всенощную под Вербное воскресенье служили в самом училище. В обычные годы – в его большом зале. В военное время большой зал сдавали в аренду под концерты, приносившие училищу некоторые доходы. Поэтому всенощные начали проводить в малом зале.
Надо заметить, что в училище существовала традиция отпускать учеников на вербный базар, который открывался на Вербной неделе на Красной площади. Всем ученикам выдавалось по полтиннику для покупки игрушек и лакомств. После этого училище оглашалось звуками различных погремушек, выстрелами из пистолетов; все это сопровождалось показом «морских жителей», «тещиных языков» и т. п. Но скоро все эти забавы заканчивались и начиналась самая тяжелая страда года: после воскресной службы в Вербное воскресенье, с понедельника и до среды Страстной недели, ежедневно пелись литургии Преждеосвященных Даров. На всех этих службах «Да исправится молитва моя» Бортнянского исполняло трио мальчиков.
В первые три дня Страстной Седмицы в Мироваренной палате церкви Двенадцати апостолов совершалось мироварение569. Миро варилось не только на всю Россию, но и, как нам говорили, на Болгарию. В обряде участвовал Синодальный хор, который во время самой варки мира пел догматики Кастальского.
В Великий Четверг литургию в соборе совершал митрополит. Однажды на моей памяти в этот день был обряд «омовения ног». Совершали его митрополит Владимир и клир Успенского собора. На высоком помосте, располагавшемся в центре храма и огороженном перилами, усаживались на скамьи священнослужители по числу учеников Христа, которым омывал ноги митрополит. На другом помосте, возле «царского места», стоял протодьякон Розов и читал Евангелие. Пения во время «омовения ног» не было – только чтение протодьякона.
В этот же четверг в большом зале училища совершалась всенощная с чтением Двенадцати Евангелий. Пел ученический хор, исполнявший на этой службе «Разбойника благоразумного» Кастальского.
В Страстную Пятницу в Успенском соборе пелась вечерня с выносом Плащаницы, во время которой Синодальный хор исполнял песнопения Турчанинова – «Тебе одеющагося», «Благоразумный Иосиф», «Егда снизшел еси», «Мироносицам женам» и другие. В ту же ночь совершался обряд погребения Плащаницы с крестным ходом вокруг собора.
На всех архиерейских службах (в четверг и пятницу) хор был одет в траурные «парады». В понедельники, среды и субботы у певцов были черные костюмы, в которых они пели на «простых» службах.
В Великую Субботу всем соборным причтом при участии полного хора совершалась литургия Василия Великого, на которой Евангелие читал протодьякон Розов. Хор пел «Да молчит всякая плоть» и «Не рыдай мене, Мати» Турчанинова, «Воскресни, Боже» Бортнянского и другие песнопения.
Всеми службами Великого поста на правом клиросе управлял Данилин и только иногда на вечерне в пятницу – Голованов.
На Страстной неделе все учащиеся вторично исповедовались и причащались Святых Даров.
Наконец, наступали долгожданные пасхальные торжества. Все три богослужения первого дня Пасхи были раздельными: заутреня с крестным ходом вокруг Кремля, литургия и вечерня. Помнится, перед началом заутрени хор под управлением Данилина подходил к западным дверям собора, располагался за архиерейским местом и пел гречаниновское «Волною морскою». Священство в это время находилось в алтаре.
Крестный ход на Пасху был особенно торжественным и проходил при звоне всех колоколов Ивана Великого. После заутрени хор возвращался в училище, разговлялся и отдыхал. Через несколько часов – снова подъем и поход в Кремль на литургию, которую так же, как и заутреню, совершал митрополит с соборным причтом.
Обе службы совершались при полном освещении собора; полы были устланы красным сукном и ковровыми дорожками. Около алтаря на треногах тлели благовонные травы, дополняя торжественность пасхальных служб. Духовенство облачалось в красные ризы, а хор пел в малиновых «парадах». Оба регента были одеты в вицмундиры со шпагами. Такая же форма была у них и по случаю «царских дней», в то время как на обычных службах регенты были в черных костюмах. В 1920-е годы, когда Н. С. Голованов стал дирижером Большого театра, ему припомнили его вицмундир.
На пасхальной литургии, после чтения Апостола дьяконом Румянцевым, читалось Евангелие – на четыре стороны света. Чтение Евангелия на амвоне начинал и заканчивал протодьякон Розов. До сих пор помню это чтение: «В начале бе Слово, и Слово бе к Богу, и Бог бе Слово...», – это произносилось на самой низкой ноте с такой убедительной дикцией, так сосредоточивало внимание! У западного входа в собор, на специальном возвышении, обращенном к западу, Евангелие читал дьякон Питаев. Таким же порядком читалось далее Евангелие с обращением на юг дьяконом Ходней и на север – дьяконам Ризположенским. А в алтаре Евангелие читал сам митрополит на греческом языке.
Дьяконы читали по очереди отдельные стихи Евангелия, возвращаясь к чтению неоднократно и заканчивая его, как положено, на высокой ноте, на продолжительном дыхании. И, конечно, выделялось заключительное чтение протодьякона Розова, после которого хор пел «Слава Тебе, Господи, слава Тебе».
Все Евангелия были в старинных окладах и богато украшены дорогими камнями. По окончании чтения каждый дьякон, высоко неся Евангелие, возвращал его в алтарь на престол.
Вечерня первого дня Пасхи представляла торжество необыкновенное: отдохнув после литургии, все духовенство в великолепных ризах с наградами на груди проходило в алтарь через левый клирос, и было заметно повышенное настроение священнослужителей. Хор на эту службу одевал голубые «парады»570.
По окончании вечерни певчие иногда направлялись в Чудов монастырь, где происходило христосование с митрополитом и каждый получал красное пасхальное яйцо. Такое яйцо, полученное мною в 1915 году от митрополита Макария, я храню и теперь – как память о моем детстве и о последнем митрополите дореволюционной Москвы.
Начиная с пасхальной недели, всенощные бдения хор пел в Успенском соборе в полном составе, и так продолжалось до Троицына дня, после которого всенощные и обедни совершались при пении хора на один клирос. И только в канун дня Преображения хор вновь собирался в соборе полностью.
На четвертой неделе по Пасхе, в Преполовение Пятидесятницы, из Успенского собора после литургии совершался крестный ход на Москва-реку. Он выходил из западных дверей собора, шел по Ивановской площади между двумя соборами – Архангельским и Благовещенским – и через Тайницкую башню выходил к реке. По ходу стояли шпалерами войска; военный оркестр исполнял «Коль славен». В то же время с колокольни Ивана Великого лился мощный колокольный звон. По окончании водосвятия крестный ход возвращался в собор тем же путем.
В отдание праздника Пасхи, как и во дни отдания двунадесятых праздников, Синодальный хор в соборе служб не пел.
Служба под Николин день и в самый праздник (9 мая) служилась как очередной «табельный» день, то есть как обычная служба. Но особенно пышно, с присутствием высокопоставленных лиц, совершался молебен, заканчивающийся концертом. Характерно, что многолетие провозглашалось протодьяконом, одиноко стоящим в середине собора, у архиерейского места.
День Пятидесятницы. В канун служилась всенощная, а наутро литургия с идущей вслед за ней без перерыва вечерней и «коленопреклоненными» молитвами. Службы архиерейские, преимущественно с митрополитом. Хор на вечерне пел с цветами в руках у каждого певчего.
12 мая – день прославления патриарха Гермогена, мощи которого находятся в соборе. Всенощная и литургия были архиерейскими с пением полного состава хора.
Открытие мощей патриарха Гермогена, на которое прибыли многие важные персоны, в том числе патриарх Антиохийский Григорий, произошло в 1913 году571. Церковных иерархов было так много, что обладавший изумительной памятью протодьякон Розов должен был на этот раз при «выкличке» воспользоваться запиской. О подготовке к этому празднованию нам подробно рассказывал прокурор Синодальной конторы Ф. П. Степанов, который накануне вместе с епископом Трифоном и сакелларием собора Пшеничниковым вынимал из земли, омывал и укладывал в гроб останки патриарха: они были повреждены камнем, упавшим со стены собора при ремонте, который проводился по случаю подготовки коронации Александра III. В день праздника, насколько я мог видеть с клироса, положенные на носилки мощи обнесли вокруг собора, затем внесли внутрь и поставили на архиерейском месте. За исключением лобовой части, к которой все ринулись приложиться, они были накрыты покрывалом.
21 мая – празднование иконе Владимирской Божией Матери, находившейся в Успенском соборе. В этот день совершался крестный ход во Владимирскую церковь на Никольской улице, где по случаю праздника, посвященного также памяти спасения Москвы от крымского хана Гирея в 1521 году, служил митрополит в сослужении протодьякона Розова с участием Синодального хора. В Успенском соборе оставалась лишь небольшая группа певчих. Сама древняя икона переносилась с крестным ходом во Владимирскую церковь, а вместо нее в киот у левого клироса Успенского собора устанавливалась другая икона с изображением Владимирской Божией Матери.
День Святого Духа. Литургия поется на один клирос. Хор состоит приблизительно из двух третей общего числа взрослых певчих, а также детей, остающихся на каникулы в Москве. С этого дня пение полным составом хора прекращается, и все последующие всенощные и обедни поются на один клирос. Иногородние ученики почти на два месяца разъезжаются по домам, а училище переезжает на дачу в Новый Иерусалим. Только в канун церковных праздников и воскресных дней ребята приезжали в Москву для пения в Успенском соборе или в монастырских, или других храмах, куда совершались крестные ходы из Кремля.
Праздник 23 июня тоже был посвящен Владимирской иконе Божией Матери, ее Сретению. В этот день крестный ход совершался в Сретенский монастырь572. Празднование было установлено в память спасения Москвы от нашествия Ахмат-хана в 1480 году. 28 июня была поездка в Москву в канун дня Петра и Павла.
Весь июнь не был загружен службами, зато с июля начинались частые праздники, требующие присутствия хора в городе. 3 июля отмечалось Перенесение мощей Филиппа, митрополита Московского, покоившихся в Успенском соборе на правом клиросе. Этот день был памятен также именинами нашего прокурора Ф. П. Степанова, который повседневно посещал училище и каждые свои именины отмечал большим праздником в Новом Иерусалиме.
5 июля – Сергиев день; именинник – всеми любимый ученик Сережа Жаров; и опять в обед по кружке горячего шоколада с бисквитом. В ближайшую субботу предстоит выезд в город на воскресную всенощную и литургию, а также на отмечаемый 8 июля праздник Явления иконы Казанской Божией Матери, сопровождаемый крестным ходом в Казанский собор, что на Красной площади. В Казанском соборе хор пел неполным составом, а в Успенском соборе совершалось простое богослужение.
Следующая праздничная служба совершалась 20 июля, в день Пророка Илии, когда крестный ход направлялся из Успенского собора на Воронцово Поле в храм Илии Пророка. В Успенском соборе оставалась половина Синодального хора.
28 июля в день Смоленской иконы Божией Матери из Успенского собора совершался крестный ход в Новодевичий монастырь. Выходя из Кремля Троицкими либо Боровицкими воротами, он шел по Волхонке, затем по Пречистенке и Поддевичке. Это был самый длинный крестный ход в году. Участников хора в Новодевичий монастырь, так же, как и на Воронцово Поле, доставляли на линейках.
После 28 июля наступали последние дни летнего отдыха в Новом Иерусалиме. До 5 августа, дня отъезда, мальчики стремились обегать и обойти все памятные места и местечки – монастырскую стену, Гефсиманский сад, Фавор, побывать на реке Истре, в Воскресенске. Прощание с летом всегда было грустным. Так было в период с 1912 по 1916 год. В 1917 году училище уже более не выезжало на отдых ни в Новый Иерусалим, ни куда-либо еще.
Церковная жизнь Синодального училища и хора не ограничивалась участием в календарных службах. Пением «синодалов» сопровождались богослужения по случаю важных исторических событии. Так, в феврале 1911 года отмечалось 50-летие крестьянской реформы573. На литургии в этот день в соборе присутствовали в большом количестве старшины. Это были крестьяне-бородачи, все в поддевках и с большими серебряными медалями.
Особые торжества, в которых принимал участие Синодальный хор, происходили в Москве по случаю приездов государя Николая II574.
Первый приезд в Москву царя на моей памяти произошел в мае 1912 года и был связан с открытием памятника Александру III. Синодальный хор пел на молебне у памятника в присутствии царской семьи. В августе этого же года приезд государя с семьей был связан с празднованием столетия победы над Наполеоном. По случаю царского приезда состоялась торжественная служба в храме Христа Спасителя, на которой присутствовало множество официальных лиц. Синодальный хор расположился на левом клиросе, в то время как на правом клиросе находился хор храма Христа Спасителя под управлением регента Карпова. Кажется, Карпов через протодьякона Розова попросил Данилина пропеть службу без участия его хора, на что Данилин ответил: «Ну хорошо, мы споем». В результате вся служба с начала до конца была пропета одним Синодальным хором. Отмечу, что в хоре храма Христа Спасителя, точно так же, как и в Синодальном хоре, пели мальчики. Приезд царя в Москву в 1913 году был связан с 300-летним юбилеем дома Романовых, по случаю чего состоялась торжественная литургия в Успенском соборе.
Каждое прибытие в Москву государя начиналось с его поклонения Иверской иконе Божией Матери – и опять на молебне у иконы пел Синодальный хор под управлением Данилина в самом ограниченном составе (4 дисканта, 3 альта, 2 тенора, 1 баритон и 2 баса). Так было и в 1914 году, когда в Москву по случаю начала войны приехала царская семья. Синодальному хору предстояло петь в ее присутствии не только в Успенском соборе, но и на закрытых церковных службах для одной царской семьи.
Объявление войны 1914 года ознаменовалось высочайшим выходом царской семьи из Московского Кремлевского дворца на молебствие в Успенский собор. Выход происходил в присутствии правительства и послов союзных государств. Я хорошо помню, как в собор через южные его врата входил царь со своей свитой. Митрополит Макарий в это время был на Алтае, поэтому государя встречал речью и препровождал в храм епископ Трифон. Богослужение шло обычным порядком, только, может быть, с некоторым ускорением.
Всенощное бдение в канун Преображения служилось в Архангельском соборе, где кроме причта и малочисленного состава Синодального хора (12 человек) при молящейся царской фамилии никто не присутствовал. Недалеко от западного входа в собор поставили два кресла, в которые села царица и был посажен наследник. Царь и четыре его дочери стояли около кресел. Хор размещался перед левым клиросом. Служба шла в тишине, очень слаженно и отличалась необычайной кротостью. Чтение Шестопсалмия было сокращено.
В день Преображения литургия совершалась в кремлевской церкви Спаса за Золотой решеткой. Как и накануне, служба была очень молитвенной. Сопровождающая царскую семью свита также отсутствовала. И только за «золотой решеткой» в коридоре стояли и молились дворцовые служащие. Через некоторое время Николай подошел к заслону, снял караульный пост, и через открытую «золотую решетку» молящиеся хлынули в храм. Так произошло наглядное единение царя с народом в этом маленьком праздничном эпизоде.
Через несколько дней тем же составом хора было совершено отпевание двух погибших на фронте братьев Катковых, офицера и юнкера. Одна литургия была в храме Симеона Столпника на Поварской, а вторая – в селе Знаменском, где и сейчас стоит тот же храм, но без апсиды.
Церковными службами с участием митрополита отмечались в Успенском соборе все так называемые «царские дни», то есть тезоименитства царя и царицы и другие подобные даты575. На этих литургиях присутствовали официальные чины: генерал-губернатор, командующий войсками Московского военного округа, предводитель московского дворянства, руководители правительственных органов. Среди молящихся всегда можно было встретить великую княгиню Елизавету Федоровну с ее помощницей Варварой, великого князя Иоанна Константиновича, с братьями (дети великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р.). Многие военные были в генеральских и офицерских погонах, в парадных мундирах, с орденами и при холодном оружии. Когда по окончании молебна они подходили к кресту, то раздавался звон шпор и шпаг, и в это время хор исполнял концерт, обычно Бортнянского.
Военные стояли на левой стороне, в то время как гражданские и отставные военные чины стояли по правую, более почетную сторону отгороженной части центра. Среди них почти всегда находился сын поэта Пушкина Александр Александрович – человек невысокого роста, стройный, с седыми волосами и в золотых очках. Он был смуглым и всем обликом напоминал портреты своего отца. Военное его звание было генерал от кавалерии. Во время службы молодой красивый помощник старосты обходил высокопоставленных лиц с большой золотой тарелкой, на которую те клали деньги.
На большие праздники у южных дверей собора собиралась большая толпа, в основном интеллигентные люди, которые стремились попасть внутрь храма. Мы же, если было холодное время, шли в собор с «парадами» в руках. Так вот, иногда те, кто стоял у дверей и не имел пропуска, просили кого-нибудь из ребят: «Мальчик, дай мне твой кафтан. Я пройду и тебе его верну». Иногда ребята давали свои «парады», некоторые же боялись отдавать.
Побывать в Успенском соборе за праздничной службой действительно было непросто. Однажды я наблюдал такой случай. Во время причастия в алтаре к Филиппу Петровичу Степанову подошел солист хора – прекрасный драматический тенор Папиашвили, который пел также в хоре Художественного театра – и сказал: «Иван Михайлович Москвин очень любит наш хор и спрашивает, нельзя ли ему как-нибудь попасть в собор на праздничную службу?» «Ну, – говорит Филипп Петрович, – я не знаю, ведь у меня же нет пропусков. Правда, говорят, пускают по моей визитной карточке. Я вам дам мою визитную карточку».
Хочу добавить, что в Успенском соборе не было обычая причащать богомольцев. Причащалось только духовенство, а миряне – в исключительных случаях; как говорили, только царь и царица576. Лишь один раз на моей памяти Синодальный хор за службой пропел «Тело Христово». А случилось это так. Однажды во время литургии после алтарного причастия открылись царские врата, и вышли митрополит и протодьякон Розов. После возглашения «Со страхом Божиим и верою приступите» неожиданно из народа вырвались две женщины, пожилая и молодая. Обе были одеты в белые платья. Служащий собора пытался их не пустить, но пожилая с криком «Як владыке!» упала на колени, как бы прося причастия. Митрополит несколько нахмурился, но начал читать молитву перед причастием, а затем причастил обеих женщин. Затем было вынесено теплое питье, и довольные причастницы вернулись на свое место. Случай небывалый за все время моего пребывания в Синодальном хоре, и я не помню, чтобы рассказывали о чем-либо подобном.
Причастивший в Успенском соборе двух женщин митрополит Московский и Коломенский Макарий появился в Москве в 1913 году577. Это был старец низкого роста, с редкой растительностью на лице и на голове, неулыба. Его произношение возгласов и чтение было тихим – в силу возможностей голоса, движения медленные, без поспешности. И если бы не его облачение, он представлял бы собою аскета с древних церковных фресок.
При его появлении православная Москва нашла в новом иерархе большое сходство с митрополитом Филаретом, почитаемым в России стойким пастырем и хранителем веры578. Это он написал православный катехизис, по которому учились в средних школах и получали первые навыки морали и нравственности. Преддверие и время Первой мировой войны все больше и больше расшатывало устои русского человека, и прибытие на Московскую кафедру митрополита Макария, столь сходного хотя бы по внешнему облику с митрополитом Филаретом, вызывало у москвичей чувство большой симпатии.
Все церковные службы, совершаемые в храмах Москвы митрополитом Макарием, неизменно привлекали много народа. Так было и в Успенском соборе Кремля. Здесь обязательными службами, которые возглавлял митрополит, были:
–– новогодний молебен, совершаемый точно в 12 часов ночи;
–– крещенское водосвятие на Москва-реке;
–– воскресная служба в неделю Торжества Православия;
–– освящение мироварения на Страстной Седмице.
Кроме того, митрополит совершал все три службы первого дня Пасхи, богослужения на Успеньев день и на день Московских Святителей. На Рождество Христово он служил в храме Христа Спасителя. Это был престольный праздник храма, и Москва особенно отмечала этот день большой торжественной службой во всех церквах города, но особенно в своем кафедральном соборе.
Кроме того, литургии с митрополитом совершались в Успенском соборе и в так называемые «царские дни».
Помимо праздничных служб митрополит Макарий иногда приезжал в Успенский собор для молебна по какому-либо случаю, вызванному событиями на фронтах войны. Приезжал он обычно в сопровождении двух иподьяконов и без посошника. Однажды, в 1916 году, таким посошником оказался я. Для меня этот год был последним в моем пребывании в хоре: начинался спад голоса. Внимательно наблюдая действия участников церковной службы, я мог без труда выполнить обязанности посошника.
Надев стихарь, я встал с посохом по левую сторону царских врат, в ожидании выхода из алтаря митрополита. Вскоре он вышел в сопровождении протодьякона Розова. Я подал посох, и все трое медленно пошли к архиерейскому месту у западных дверей собора. Впереди, в полном облачении, с посохом в правой руке, шествовал митрополит, почти рядом с ним К. В. Розов, а поодаль, с орлецом, передвигался и я. Приняв посох, я встал за спиной митрополита, ступенькой ниже, рядом с протодьяконом.
Началась служба чтением. В этот момент ко мне обратился протодьякон, сказав: «Мальчик, пойди в алтарь и спроси книгу (он назвал какую, но теперь не помню), а я за тебя постою с посохом». Я отправился в алтарь через левый клирос, поспешая выполнить просьбу Розова. Получив нужную книгу, я вернулся на архиерейское место и вновь встал с посохом. По окончании очень непродолжительной службы я вернулся в алтарь через правый клирос, но здесь ко мне подошел иподьякон и сообщил, что меня хочет благословить митрополит и я должен дождаться его разоблачения. Вскоре я подошел к митрополиту. Он внимательно стал вглядываться, и я сложил руки для принятия благословения. Затем он осенил меня знамением креста и положил свою руку на мои ладони. Я ее поцеловал и направился к выходу. Вскоре я оставил пение в хоре, и больше мне не довелось видеть митрополита Макария.
Литургии с архиерейским служением всегда предшествует чин облачения. Сняв с себя, с помощью иподьякона, верхние одежды и оставшись в одном подряснике, как бы обнажившись, митрополит начинает постепенно одевать ризы, включая омофор. Затем из алтаря через левый клирос на большом подносе выносят митру, панагию, крест и несут к архиерею. Они всегда отличались своим убранством – драгоценными камнями, золотым шитьем и, главное, высоким искусством. Мне навсегда запомнились эти реликвии, вынесенные из алтаря через клирос для облачения митрополита Макария, – они были украшены одними хризолитами различного размера и являлись настоящим произведением искусства. Где теперь эти драгоценности, какова их судьба? Думается, все они были царским подношением.
Наречение архиепископа Томского и Алтайского Макария на московскую митрополичью кафедру приписывается влиянию Распутина, – у владыки было только семинарское образование. Распутин мог неоднократно видеть владыку Макария, потому что сам был родом из тех же сибирских мест579. Такой старец, как владыка Макарий, вполне мог оказаться созвучным настроениям, которые преобладали у царицы, искавшей необыкновенного иерарха, отличного от обычно безмолвного царского окружения.
Митрополит Макарий любил простое пение, а в Успенском соборе в первое время его пребывания на кафедре это не было учтено. Однажды в ответ на замечание митрополита, что пение хора является концертным, Синодальный хор с одной репетиции изучил и спел службу в соборе по Обиходу Бахметева580. И вот, когда в Успенском соборе зазвучало такое пение, митрополит заметил, что на архиерейском богослужении не должно быть простого пения. Но он все же предпочитал именно его и даже предложил хору разучить «лепты», что и было исполнено; мы пели их публично только однажды, в Епархиальном доме581.
Пасхальная служба в 1916 году в Успенском соборе с митрополитом Макарием была последней на моей памяти. В следующем году эту службу совершал архиерей из Гродно582, без разделения во времени заутрени и литургии. Сам митрополит Макарий был отправлен «на покой» и, как говорили, находился в Николо-Перервинском монастыре, а потом жил у одного крестьянина деревни Печатники, что у станции Люблино583. Более сведений о судьбе этого пастыря я не имею.
Исключительно интересной личностью был неоднократно служивший в соборе знаменитый епископ Трифон, князь Туркестанов. Он был очень близок к нашему училищу. Сохранилась большая фотография, где Синодальный хор исполняет в большом зале училища «Пещное действо» Кастальского в присутствии Трифона. Это был очень музыкальный человек, который на службе всегда пел в тон. Перед Трисвятым тон ему, как и каждому архиерею, задавали исполатчики, и он всегда начинал в точной тональности и служил прекрасно. После революции Трифон служил в храме Адриана и Наталии на 1-й Мещанской в Москве, где регентовал наш выпускник Н. Данилов, свято хранивший традиции своих учителей. Когда Трифон умер, то на его отпевании в храме Адриана и Наталии было колоссальное скопление народа. Среди многих больших архиереев был архиепископ Можайский Димитрий – представительный, интересный, высокого роста человек. Ходил он в каких- то полутемных очках. Голос у него был достаточно зычный. Помню, во времена моей юности он был архимандритом, настоятелем приписанной к Успенскому собору церкви Двенадцати апостолов.
Среди епископов того времени, когда я пел в Успенском соборе, все викарии были по-своему замечательны. Помимо Димитрия, я очень хорошо помню епископа Анастасия, который долгие годы совершал чин «погребения Плащаницы» в Страстную неделю и, находясь под Плащаницей, провозглашал своим высоким тенором «Премудрость, прости».
Очень ярко мне также запомнился епископ Можайский Василий. Это был невысокого роста человек. Он уже начал кое-что забывать, и когда выходил на амвон перед исполнением Трисвятого, ему подсказывал текст иподьякон. В результате его забывчивости случилась довольно неприятная история. Это было еще тогда, когда митрополитом Московским был Владимир. Однажды во время богослужения владыка Василий вышел несвоевременно с возгласом, который должен был произнести сам митрополит. Видимо, волновался епископ Василий и вышел вместо митрополита в «царские врата». По-моему, это тоже послужило в какой-то степени основанием удаления его на покой.
Запомнилось мне его яркое выступление в Прощеное воскресенье. Он так мило, так чисто, так хорошо рассказывал людям, обступившим амвон, каким должен быть человек. В его речи была такая доходчивость, что я до сих пор ее помню.
Вообще, надо сказать, архиерейские служения в Успенском соборе были не столь уж часты. Помпу здесь не любили. И если служили архиереи, то лишь те, служение которых было в стиле Успенского собора. Обычно же богослужения совершались причтом самого храма. Например, всенощные под воскресный день в соборе служили один священник и два дьякона. Разумеется, под праздники, и если был выход царской фамилии в собор, то приходило больше.
За будними службами хора в соборе не было. Пели сами священнослужители, которые по старой традиции этого храма состояли из обладателей низких голосов и при приеме в соборный штат прошли певческое испытание в нашем училище584. На всенощной клирики собора на два клироса пели «От юности моея» и другие антифоны. Помню, как в соответствующий момент службы, перед чтением Евангелия, через правый и левый клиросы Синодального хора проходили священники и дьяконы. Они спускались вниз с амвона и становились двумя группами, пультами. Поющие были одеты в подрясники и стояли лицом к «царским вратам». На парусиновом раскладывающемся аналое перед ними лежала книга. В каждом пульте, которые пели поочередно, но никогда вместе, было примерно по шесть человек. Пение правого пульта возглавлял протопресвитер Любимов, под началом которого были такие басы, как Розов и Ризположенский. На левом клиросе, где пели Румянцев, Воздвиженский и другие, головщиком был сакелларий Пшеничников. Не помню сейчас, на каком из клиросов пел иерей Ермонский – обладатель необычайной красоты баса. Его чтение Евангелия в алтаре было незабываемым! Он читал Евангелие по-дьяконски, постепенно повышая голос и доводя звучность до forte. Помню, я слушал это чтение как зачарованный.
Вообще каждый причетник Успенского собора представлял собой интересную, запоминающуюся на всю жизнь личность. Сакелларий, или ключарь собора Пшеничников был, говоря современным языком, режиссером всей службы. Он прекрасно знал устав и обычаи Успенского собора и следил за их выполнением. Пшеничников был человеком невысокого роста, с небольшим низким баритоном и хорошей дикцией. В соборе он был первым лицом после протопресвитера Любимова – крупного, полного мужчины.
У диакона Ризположенского был высокий, несколько металлический баритон585. Читал он прекрасно, с исключительной дикцией, но очень быстро. Когда Ризположенский исполнял роль чтеца, то все движение службы заметно убыстрялось. Вероятно, за тембр голоса и быстрое чтение он получил прозвище Петух. Ризположенский, надо полагать, был обременен большой семьей, и поэтому его часто можно было видеть служащим в других храмах. После революции он был протодьяконом в церкви Рождества Богородицы в Путинках, и его очень любили москвичи, заполнившие улицу во время похорон Ризположенского.
Дьякона Питаева я помню совсем немного и застал его почти безголосым. Он исполнял обязанности псаломщика, но, читая, запинался, пропускал слова и бывал частенько навеселе. Вскоре его послали на покой.
Дьякон Ходня был чурбанообразного вида и имел голос плотный, грубый и не очень обтесанный, такой же, как и он сам. Но в то же время бас его был крепким и низким. Служил он и читал с напряжением. Мне рассказывал мой друг, тоже «синодал» С. А. Шумский, что перед тем, как Ходня поступил в Успенский собор, у него была проба голоса в Синодальном училище. «Ну, это было интересное дело послушать будущих дьяконов, – говорил Шумский. – Вот я помню, как пришел Ходня, и на нем был какой-то ситцевый подрясник». После Февральской революции Ходню произвели в протодьяконы, и он уехал к себе на родину на Украину.
Вторым после Розова дьяконом в соборе был Румянцев. Красивый, высокого роста человек, он обладал хорошим баритоном. Но всегда, читая Апостол, – а читал он его часто, – Румянцев на «верхах» срывался. И с каким огорчением он шел потом в алтарь! Будто артист, не получивший аплодисментов. Вместе с тем он был добрый человек. Вспомнился один случай. Мы, ученики, должны были еженедельно по пятницам ходить в баню, и вот, смотрю – пришел туда и Румянцев. Он подумал, что я не справлюсь со своим мытьем, и решил помочь. Ему так хотелось отмыть меня! Поймал он меня и давай намыливать, а я все вырывался от него.
Последний раз я видел Румянцева на сороковой день памяти Розова на Ваганьковском кладбище, где он служил. Помню, что эта панихида совпала с освобождением из заточения патриарха Тихона, которому всегда сослужил Розов. Поэтому настоятель храма на Ваганьковском кладбище вышел и сказал: «Ну, а теперь мы споем «многая лета“ нашему патриарху». Руководил пением Румянцев.
Комментарии
Очерк А. П. Смирнова написан по просьбе известного московского регента Н. В. Матвеева. Задуманный как учебный материал по истории церковного пения, он предназначался для студентов регентского класса Московской духовной академии, где с 1969 года преподавал Матвеев. «Календарь» составлялся в течение года: начат 27 августа 1979 и завершен 28 августа 1980 года. Мемуарист как бы вновь прожил в течение этого года свою училищную молодость, записав вспомнившееся в виде своеобразной «хроники», вобравшей в себя то, что осталось в памяти от восьмилетнего пребывания в Синодальном училище. «Хроника» не может претендовать на исчерпывающую полноту, однако Александру Петровичу удалось воссоздать достоверный и фактически точный контур событий.
На этом работа не закончилась. Текст воспоминаний стал поводом для многочасовых бесед редактора и мемуариста. Таким образом, предлагаемая читателям версия «Календаря» существенно расширена введением в основной текст фрагментов устных воспоминаний.
В 1995 году мемуары были опубликованы в церковно-богословско-философском ежегоднике «Православный путь», издаваемом Свято-Троицким монастырем в Джорданвилле (США). Авторская рукопись и аудиозаписи бесед хранятся у редактора.
* * *
В Синодальном хоре существовали должности регента и его помощника; с 1907 года введены должности старшего и младшего помощников.
В таком возрасте в Синодальный хор, конечно же, не принимали; в случае со Свирским могла подействовать записка-просьба дьякона Протопопова.
С 1881 по 1891 год помощником регента Синодального хора был Н. И. Соколов. Многие регенты старой школы репетировали со скрипкой в руках, время от времени подыгрывая, исправляя ошибки или показывая. Считалось, что звук скрипки приближается к человеческому голосу и идеально передает кантилену.
Действительно, в составе Синодального хора был певчий Сперанский – по имени-отчеству Михаил Александрович, прослуживший в хоре 25 лет, с 1864 по 1890 год, за что ему была назначена пенсия. В 1887 году Синодальное училище (по старому образцу, то есть четыре класса) окончил Константин Сперанский, возможно, сын певчего.
В этом возрасте ни о какой карьере солиста не могло быть и речи.
Никитский девичий монастырь не соприкасался со двором Синодального училища; сразу за монастырем начинался Большой Кисловский переулок, соединявший Большую Никитскую с Воздвиженкой.
К. Саврасенков содержал гостиницу на Тверском бульваре, в которой, вероятно, и помещался трактир.
Московский беллетрист А. М. Пазухин печатал свои повести и романы в различных периодических изданиях; в это время был сотрудником газеты «Московский листок» и журнала «Развлечение».
У Д. Г. Вигилева было четверо сыновей, но ни одного с именем Вадим.
«Кружка» существовала для накопления «чайных» денег, получаемых взрослыми певчими во время частных служб. Эти деньги делились периодически между всеми участниками хора.
Столь суровая кара митрополита не могла распространяться на Вигилева как на лицо светское. Достоверно известно, что Д. Г. Вигилев, оставив службу в Синодальном хоре (то есть в духовном ведомстве), перешел с 1 апреля 1886 года на службу в Виленский учебный округ (ведомство Министерства народного просвещения); за месяц до ухода он брал отпуск в Петербург и другие города – возможно, для приискания места. Есть также сведения, что Вигилева взял в Вильно бывший прокурор Московской Синодальной конторы А. Н. Потемкин.
Архив семьи Никольских.
Там же.
ГЦММК, ф. 294 (не заинвентаризировано).
РГАДА, ф. 1183, оп. 9, № 68.
Из письма А. В. Никольского к К. И. Балашевой от 26 августа 1896 года. Архив семьи Никольских.
РГАЛИ, ф. 662, оп. 1, №121, л. 14.
Из письма А. В. Никольского к К. И. Никольской от 4 марта 1905 года. Архив семьи Никольских.
Архив семьи Никольских.
Птица К. Б. Мастера хорового искусства в Московской консерватории. М., 1970, с. 51.
Там же, с. 56.
Программа курса церковного пения, разработанного Никольским для студентов Московской консерватории на 1942/43 учебный год, хранится в ГЦММК (ф. 294, № 277).
В данных письмах композитора упоминаются его дочери Людмила Никольская (Люся) и Татьяна Фаворская, внуки Галина и Роман, а также погибший на войне зять Глеб Фаворский.
Архив семьи Никольских.
Речь идет о поступившем в один год с Никольским в Синодальный хор учителе церковного пения Полтавского духовного училища Александре Орловском.
В 1894/95 учебном году в Синодальное училище поступили на службу: профессор Московской консерватории М. М. Ипполитов-Иванов (музыкальные формы, контрапункт свободного стиля), преподаватель Московской консерватории Н. Н. Соколовский (скрипка) и профессор Филармонического училища С. Н. Кругликов (гармония).
Упоминаемые Никольским певчие Синодального хора также были выпускниками духовных семинарий: И. Г. Крылов – Саратовской, А. Засядко – Полтавской.
Речь идет о великой княгине Елизавете Федоровне, тезоименитство которой отмечалось 5 сентября.
В ГЦММК сохранилось записанное Никольским расписание предметов, которые он посещал в 1894/95 и 1895/96 учебных годах (ф. 294, № 379, л. 133–134).
Капитолина Ивановна увлекалась гомеопатией и лечила не только Александра Васильевича, но и крестьян села Телегино.
Родители А. В. Никольского – протоиерей Василий Александрович Никольский (1841–1904) и его супруга Ирина Яковлевна – жили очень бедно; их материальное положение мало отличалось от положения крестьян. При этом они пытались помогать своему многочисленному потомству (в семье протоиерея Никольского было трое сыновей и четыре дочери). Как вспоминала дочь А. В. Никольского Т. А. Фаворская, «память о своих родителях, по-видимому, не ослабевала в сердце папы до конца дней, что угадывалось в бережном хранении портрета деда в заветном ящике письменного стола, где хранились разные ценности». Однажды А. В. Никольский рассказал детям о причине, приведшей его отца – блестящего выпускника Пензенской духовной семинарии – в деревенское захолустье: «Василий Александрович Никольский после завершения в 1864 году образования сверх высших баллов за знания был аттестован блестящим проповедником, что послужило скорому его назначению дьяконом в церковь Петра и Павла города Пензы. Но успех не долго способствовал ему, столкнув с неудачей, а может быть даже с чужим подвохом. Случилось это так: однажды, готовясь вместе со священником к Евхаристии, они по неловкости плеснули на покров алтарного престола часть вина, что по уставу православия относится к великому греху. А дедушка, не совладав с собой, помянул черта, удвоив тем свою вину, о чем участник неудачи, страхуя себя, поспешил донести в Синод. Последовал перевод деда в глушь Пензенского края, в село Владыкино (за 80 верст от Пензы и в 15 верстах от уездного города Чембара)». В памяти посещавших Владыкино внуков дедушка запечатлелся как книжник и почти святой; снижала образ лишь одна, присущая многим русским людям, слабость.
Друг Никольского, известный в провинции регент Алексей Васильевич Касторский, во время учебы Никольского в Пензенской духовной семинарии являлся регентом семинарского хора и учителем церковного пения. После обучения в Придворной певческой капелле и Петербургской консерватории он вернулся в Пензу и в 1891 году возглавил архиерейский хор, вскоре приобретший известность за пределами города. Естественно, что для приехавшего в Москву Никольского хор его друга был точкой отсчета при оценке других хоров.
Об Исторических концертах Синодального хора см. «Воспоминания» Смоленского и комментарии к ним.
На следующий день после написания этого письма глубоко почитаемый Никольским и его подругой император Александр III скончался.
Автор имеет в виду книгу итальянского певца и вокального педагога Леоне Джиральдони «Аналитический метод воспитания голоса» (М., 1889).
Речь идет о работе Никольского в Строгановском художественном промышленном училище, куда он поступил в качестве внештатного преподавателя церковного пения 14 октября 1894 года по рекомендации Смоленского и Орлова. Никольский прослужил в Строгановском училище вплоть до 1918 года, создав там хор и симфонический оркестр. Сведений о службе композитора в Вифанской духовной семинарии не обнаружено.
Александр Васильевич ходатайствовал за двух мальчиков из села Телегино, где он обычно проводил летний отпуск.
В этом фрагменте письма Никольского звучат отголоски большой кампании, которая проходила в эти годы в Синодальном училище в связи с подготовкой его нового устава, принятого в 1897 году. К сожалению, конкретные советы по преобразованию училища, которые Никольский давал регенту Орлову, нам неизвестны.
Речь идет о пензенском дьяконе Никольском. См.: А. П. Смирнов. Церковный календарь Синодального хора. Комментарии 24, 26.
Два варианта русской народной песни «Жавороночек» опубликованы в сборниках «Концерты М. Е. Пятницкого с крестьянами» (М., 1914) и «Великорусские песни в народной гармонизации. Записаны Е. Э. Линевой» (Вып. 1. СПб., 1904).
Речь идет о богородичном догматике пятого гласа «В Чермном мори...».
Автор описывает певческие костюмы старого – польского образца, введенные в обиход еще во времена Николая I (по указу 1831 года). Новые парады для Синодального хора в древнерусском стиле (по образцу формы певчих дьяков) были пошиты в количестве ста штук зимой 1908/09 года по высочайше одобренным эскизам В. М. Васнецова на средства, предоставленные архимандритом московского Донского монастыря Иаковом.
Автор ошибается. Хорошо известно, что мальчики, поступившие по конкурсу в Синодальное училище в возрасте 8–9 лет, в течение первого года не участвовали в спевках и службах Синодального хора. Таким образом певческий стаж мальчиков обычно составлял пять-шесть лет (от 9–10-ти до 14–15-ти, в редких случаях до 16 лет).
В 1900-е годы, то есть в период обучения Сергеева в училище, в педагогическом расписании Кастальского значились: сольфеджио в третьем–девятом классах, обычное пение в третьем–четвертом классах, контрапункт свободного стиля в девятом классе и музыкальные формы в восьмом классе; народную музыку Кастальский начал преподавать с 1914/15 учебного года.
В партитуре «Верую» верхние ноты у дискантов – соль и ля второй октавы.
В конце августа 1903 года на место Раковского поступил А. И. Цвирко.
Полное название предмета – «обычное пение в установленной гармонии за фортепиано». Предмет предполагал практическое изучение за фортепиано в течение трех лет (третий–пятый классы) так называемого простого напева (обычного пения) – от несложных песнопений в элементарной гармонизации до основных богослужебных циклов (литургия, всенощная, праздники, панихида). В 1907/08 учебном году вместо обычного пения в четвертом и пятом классах начали преподавать чтение хоровой партитуры.
У кого из двух названных преподавателей занимался Голованов, установить не удалось; по косвенным данным – у Григорьева.
Голованов занимался у Шаборкина.
Подробный перечень учебников, по которым занимались в четвертом классе Синодального училища в указанное время, – документ, конечно, весьма важный, однако из-за приблизительной передачи названий не всегда можно с точностью определить, каким именно учебником пользовались ученики.
Интересно проследить на примере класса Голованова, как изменялось количество учеников в течение первых пяти лет учебы, то есть в певческом отделении: 1900/01 – 17 человек, 1901/02 – 13 человек, 1902/03 – 8 человек, 1903/04 – 5 человек, 1904/05 – 8 человек; в последующих классах состав почти не менялся, и в 1909 году училище окончило 8 человек.
Родственник Голованова. Сокольский.
Учебный год четвертый класс начал в количестве шести человек (с Пацевым), но в начале октября полупансионер Пацев был уволен за неуплату первого полугодового взноса за содержание.
Сокольский.
Речь идет об ученическом вечере (первом в этом учебном году) с драматическим отделением, который состоялся в конце сентября.
Окончивший в 1903 году курс в Синодальном училище Н. Н. Толстяков уехал преподавателем церковного пения в Курскую духовную семинарию.
Служба в Большом Успенском соборе в память московских святителей с участием Синодального хора.
О некоторых подробностях, касающихся уроков Сокольского, сообщает в своих воспоминаниях А. Сергеев: «Нам по русскому языку Николай Николаевич задавал наизусть много стихов и зверски строго требовал их выразительного чтения. Как же мы ругали Селедку (прозвище Николая Николаевича)! Он знал, что нам трудно доставалась зубрежка стихов, и безжалостно увеличивал порцию, выбирая лучшие образцы русской и мировой поэзии. И мы начали незаметно для себя слушать музыку стиха» (ГЦММК, ф. 189, № 15, л. 58).
Серебреницкий.
Т. е. карцер на площадке черной чердачной лестницы между вторым и третьим этажами. Площадка была огорожена решеткой. В карцере стояли стол и кровать без матраца с одним одеялом.
Возвращаясь с юга России в Петербург, обер-прокурор Св. Синода К. П. Победоносцев задержался на один день (10 октября) в Москве. Для высокого гостя в зале училища Синодальный хор под управлением Орлова дал концерт, в программу которого вошли произведения Кастальского, Самарина, Львова, Сахновского, Чайковского, Чеснокова, Гречанинова, Панченко и Львовского. В кратком официальном отчете о деятельности Синодального училища за 1903/04 учебный год, помещенном в «Русской музыкальной газете», говорилось: «Работа училища и хора по-прежнему привлекает к себе внимание высоких лиц. В течение учебного года училище в разное время посетили г. обер-прокурор К. П. Победоносцев, товарищ обер-прокурора Св. Синода В. К. Саблер, директор канцелярии обер-прокурора Д. Н. Соловьев, начальник Придворной певческой капеллы граф А. Д. Шереметев и др.; для всех гостей Синодальным хором были исполнены концерты из обычного репертуара» (1904, № 27–28, стлб. 646).
Известный московский промышленник Михаил Абрамович Морозов, принимавший в качестве одного из директоров ИРМО деятельное участие в строительстве нового здания Московской консерватории, в конце 1890-х годов был избран старостой Большого Успенского собора. Как вспоминает супруга Морозова, известная меценатка Маргарита Кирилловна Морозова, ее муж «собор очень чтил и любил, истратил большие средства на его отделку и ремонт и, кроме того, работал над его историей» (Морозова М. К, Мои воспоминания // Московский сборник. М., 1997, с. 198).
Так называемые «туманные картины» вошли в жизнь Синодального училища по инициативе инспектора И. Н. Строганова.
Ширинский-Шихматов, Орлов, Кастальский, Попов, Данилин, Быстрицкий.
Популярные концерты «Московского трио» проводились в зале Синодального училища по воскресеньям в два часа дня.
Традиция поминать П. И. Чайковского в день его кончины установилась в 1895 году благодаря горячему желанию Орлова и Смоленского. С тех пор ежегодно, вплоть до кончины Орлова, 25 октября Синодальный хор со своим регентом участвовал в службе в церкви Б. Вознесения у Никитских ворот (иногда в другом храме), где настоятелем служил о. И. Арбеков, исполняя Литургию Чайковского.
Строганов.
Второй музыкально-литературный ученический вечер был посвящен памяти Чайковского и состоял из его произведений.
Исполнилось десять лет со дня кончины (1 октября 1893 года) бывшего воспитанника и одного из первых преподавателей-музыкантов Синодального училища.
Экспромт – по-видимому, небольшое классное сочинение по русскому языку или географии.
В этот день в Успенском соборе служилась обычная литургия с участием Синодального хора; что происходило в это время в Покровском соборе, остается неизвестным.
Первый в сезоне духовный концерт Синодального хора в зале училища под управлением Орлова включал Всенощное бдение Чайковского.
Чесноков.
Приезды А. Д. Шереметева в Москву в 1903 году имели определенную цель. По рассказам дочери Орлова, он уговаривал Василия Сергеевича переехать в Петербург и занять место старшего учителя пения в Придворной капелле (после кончины в июле 1903 года прежнего дирижера капеллы С. А. Смирнова). Орлов долго колебался, спрашивал совета у всех членов своей семьи. Все же привязанность к Москве, к Синодальному хору и училищу не позволила Орлову принять заманчивое предложение графа. Кастальский писал Смоленскому 27 ноября 1903 года: «Шереметев был у нас раза три, наговорил, хоть отбавляй, всяких «я ничего подобного в жизни не слыхал» и прочее. Говорил, что «все бесплодно ищет человека с душой», коего, по-видимому, и обрел в образе Василия Сергеевича, который пока, кажется, все «руками и ногами» отбрыкивается, что, по-моему, весьма напрасно. Граф произвел почти на всех впечатление человека, с которым быть в ладу надо «очень уметь». Но, по-моему, вопрос о будущем все-таки должен пересиливать. Я ваши слова в отношении Василия Сергеевича ему показывал, но он, по-видимому, не желал туда перелезать, надеясь, что и тут его «не обидят» (РГИА, ф. 1119, on. 1, № 146, л. 44 об. – 45).
Никольский.
Третий духовный концерт Синодального хора в зале училища под управлением Орлова состоял из сочинений Кастальского.
Кастальский.
Сокольский.
Четвертый духовный концерт Синодального хора в зале училища под управлением Орлова включал сочинения Панченко и Ипполитова-Иванова. В своем дневнике С. И. Танеев записал 14 декабря 1903 года: «Я, Антон Степанович, Г. Э. Конюс, Сахновский поехали в Синодальное училище. Концерт. Обедня Панченко и Ипполитова-Иванова. Видели Семена Алексеевича, Н. Д. Кашкина. В антракте ходили к В. С. Орлову, пили чай» (Танеев С. И. Дневники, кн. 3. М., 1985, с. 100).
Третий музыкально-литературный ученический вечер состоялся в преддверии рождественских каникул (23 декабря/6 января). В официальном отчете сообщалось: «Кроме духовных концертов, в течение истекшего года в училище было устроено четыре музыкально-вокально-литературных ученических вечера, между прочим один посвящен памяти П. И. Чайковского и один памяти М. И. Глинки» (РМГ, 1904, № 27–28, стлб. 646). Обычно вечера устраивались два раза в году – на Рождество и масленицу.
Богослужение Рождественского сочельника (литургия Василия Великого с малым повечерием) в Большом Успенском соборе с участием Синодального хора.
В декабре 1903 года Ширинский-Шихматов получил назначение на губернаторский пост в Тверь.
Описка: 3 аршина (2 м 13 см).
«Назначка» – выражение, бытовавшее в певческой среде и означавшее определение небольшого числа певчих на службу по особому случаю (например, по заказам частных лиц).
В театре «Эрмитаж» в сезоне 1903/04 проходили спектакли Товарищества артистов Московской частной оперы (руководитель и дирижер Ипполитов-Иванов).
Спектакль Товарищества Русской частной оперы (антреприза М. Кожевникова).
День памяти святителя Филиппа отмечался в Успенском соборе службой с участием Синодального хора.
Неточность: архиепископ.
Серебреницкий.
Утренние спектакли 4 и 5 февраля в Театре Солодовникова (Товарищество Русской частной оперы).
Сольный концерт Ф. Вечея в Благородном собрании состоялся 3 февраля 1904 года – это было третье, последнее выступления юного скрипача в Москве; тогда же, в январе 1904 года, прошли гастроли Я. Кубелика.
По обычаю две недели весеннего календаря – Страстная и Пасхальная (в 1904 году с 22 марта по 4 апреля) – являлись свободными от учебы, но для малолетних певчих Синодального хора это был период напряженных служб в Успенском соборе.
«Багдадские пирожники, или Волшебная лампа» – представление в трех действиях с хорами, куплетами, превращениями и танцами. Сюжет заимствован П. Григорьевым из арабских сказок.
Два ученика из класса Голованова – Бачманов и Кондратьев – занимались по индивидуальной программе в связи с тем, что были заранее определены, как не отвечающие среднему уровню музыкальных способностей, к поступлению в духовную семинарию после окончания первых пяти классов; поэтому они не изучали некоторые музыкальные предметы, зато занимались латинским и греческим языками.
П. В. Власов занимал место помощника регента с сентября 1904 по декабрь 1906 года.
Данилин преподавал в этом учебном году не только сольфеджио в первом и втором классах и обычное пение в пятом, но также церковное пение в первых пяти классах.
В. П. Войденов с декабря 1898 года состоял членом Наблюдательного совета при Синодальном училище и хоре как заведующий частными духовно-певческими хорами Москвы.
А.А Завьялов.
Орлов.
По сообщению газеты «Русский листок», программа концерта была посвящена старым композиторам (Бортнянский, Глинка, Бахметев и др.) и не представляла выдающегося интереса. Исполнение, как всегда, отличалось художественной законченностью в целом и тонкостью нюансировки в частности.
Описка: 10 октября (воскресенье).
Крестный ход с участием Синодального хора совершался во второе воскресенье октября в память избавления столицы от неприятеля в 1812 году
Великий князь.
По семейным преданиям, отец Сергея, Алексей Васильевич Жаров, за время службы в городе Макарьеве Костромской губернии фельдфебелем в роте капитана- исправника скопил небольшую сумму денег, позволившую ему заняться торговлей. Он открыл лавку в двухэтажном деревянном доме на Кладбищенской улице и через несколько лет вступил в купеческую гильдию. У него было семеро детей – дочь от первого брака и шестеро от второго. Вторую жену он потерял, когда старшему сыну Сергею было десять лет. Торговля не приносила большого дохода, а пристрастие к вину и вовсе погубило Алексея Васильевича. Какое-то время он торговал с лотка, пока не спился вместе со своей третьей женой окончательно. Старшая дочь Варвара заменила мать детям от второго брака.
Описываемые события происходили летом 1906 года – Сергею было уже десять лет.
До поступления в Синодальное училище Сергей окончил два класса в макарьевском 1-м приходском мужском училище. Приемные испытания в Синодальном училище в 1906 году проводились 12 и 13 августа. Оценки из приемного листа Жарова: чтение – 2, чтение на церковнославянском – 2, письмо – 2, Закон Божий – 4, арифметика – 3; голос (отметка помощника регента и преподавателя постановки голоса) – 3+, знание песнопений (отметка преподавателя церковного пения) – 3. 14 августа 1906 года Сергей был зачислен в первый класс.
Концертный зал училища (вместе с хорами) вмещал 600 человек.
В. И. Кедров начал преподавать в Синодальном училище с сентября 1908 года, ранее законоучителем был Ф. Никольский.
Действительно, Жаров учился не блестяще. По музыкальным предметам имел тройки, гораздо реже четверки. Интерес проявлял только к гражданской истории и имел по этому предмету пятерку. В седьмом классе (1913/14 учебный год) он получил три годовые двойки – по чтению хоровой партитуры, контрапункту строгого стиля и формам музыкальных сочинений, был оставлен на второй год и лишен казенного содержания. С этого времени Жаров был вынужден платить за свое содержание по 60 рублей в год.
Этот факт не отражен в личном деле Жарова, но, судя по описанию, в инциденте участвовал Голованов, который имел в ученической среде прозвище Жаба. Как рассказывал бывший «синодал» Д. Н. Шведов, Голованов становился зеленым, когда злился, а злился он очень часто, потому что был недоволен звучанием хора. По другой версии, прозвище было дано за круглое лицо, на котором не росла борода. По третьей версии, Голованов одно время носил зеленый костюм.
Голованов никогда не преподавал гармонию
По сведениям Костромского областного архива, отец Жарова в 1918–1919 годах проживал в Самарской губернии и периодически получал от своего старшего сына денежную помощь.
По документам фонда Синодального училища в РГАЛИ (ф. 662) видно, что Жаров в 1915/16 и 1916/17 учебных годах являлся регентом хора при Обществе трудовой помощи инвалидам мировой войны, занимаясь с увечными воинами два раза в неделю и готовя их к самостоятельной певческой деятельности. Работал он и с хором Никольской общины сестер милосердия. Переписка нот была весьма распространенным среди воспитанников Синодального училища способом заработка. Нужно заметить, что двое младших братьев Сергея – Павел (с 1910 года) и Василий (с 1913 года) – тоже обучались в Синодальном училище.
Жаров пел в дискантовой партии удивительно долго: в заграничной поездке 1911 года ему было уже 16 лет, но и следующий учебный год он числился в составе Синодального хора.
Речь идет о Хоре донских казаков, побывавшем с концертами во многих городах Европы.
Жаров участвовал в первом исполнении Литургии Рахманинова 25 ноября 1910 года.
Знакомство с Рахманиновым состоялось в сентябре 1927 года в Дрездене. Вот как описан этот эпизод в воспоминаниях Жарова: «...После одного из концертов в Дрездене дверь в артистическую отворилась, и высокого роста господин со строгим и умным лицом направился ко мне. Я узнал его сразу, я не мог не узнать. Это был С. В. Рахманинов, которого я еще мальчиком знал в Москве. Волнуясь и радуясь, я смотрел на Сергея Васильевича. Разговорились. Я спросил его о впечатлении, произведенном концертом. Он посмотрел на меня своими холодными серыми глазами. Улыбнулся. «И на солнце есть пятна. И у вас есть шероховатости. Надо работать, еще много работать». Наши встречи стали чаще. <...> Каждый раз, когда я бываю в городе, где находится С. В. Рахманинов, я неизменно посещаю его, чтобы пополнить мой опыт его указаниями, и чтобы мои новые работы подвергнуть критике моего великого соотечественника» (С. Рахманинов. Литературное наследие, том 3. М., 1980, с. 276).
Со своей стороны, Рахманинов в письме к Елинскому от 19 ноября 1935 года рассказал следующее: «С Жаровым я познакомился еще в Москве, когда он был совсем маленьким мальчиком с чудесным голосом, певшим в нашем знаменитом Синодальном хоре.
С Жаровым – регентом Хора донских казаков – я встретился лет десять назад в Дрездене. Сразу было видно, что регент хора прошел прекрасную, быть может, лучшую в мире школу хорового пения – Московский Синодальный хор и что его учителем был такой мастер и знаток своего дела, как регент Данилин.
<...> Несколько лет тому назад, здесь, в Нью-Йорке, хор Жарова доставил мне истинное наслаждение, исполнив в закрытом концерте ряд моих любимых духовных песнопений. Хорошо они поют духовную музыку!» (Там же, с. 64).
В училище у Жарова было прозвище Циклоп.
В программах Синодального хора значился предмет «дирижирование и совместная игра», который предполагал исполнение струнным составом партитур духовно-музыкальных сочинений и инструментальных трио и квартетов под управлением учеников данного класса. С 1912/13 учебного года с учениками пятых– шестых классов занимался В. П. Степанов, с учениками седьмого–девятого классов – Голованов. На экзамене в 1917 году Жаров по этому предмету получил четверку при четвертных отметках 3, 3, 3, 4. В то же время в училище существовал и оркестровый класс, объединявший учеников пятых–девятых классов. Оркестр репетировал два раза в неделю под управлением учеников девятого класса. Руководил оркестровым классом в 1910-х годах Голованов, он же составлял репертуар и делал переложения на струнный состав. В репертуаре оркестра были сочинения Чайковского, Лядова, Аренского, Прокофьева, Грига, Сибелиуса, Равеля и др. Занятия в оркестровом классе не аттестовывались и не выносились на экзамен. Оркестр участвовал в ученических вечерах при публике.
Выпуски Синодального училища 1915–1917 годов почти в полном составе поступали в Александровское военное училище на сокращенные курсы, которые в течение четырех месяцев готовили младших офицеров для действующей армии. По окончании курсов летом 1917 года Жаров служил прапорщиком в 25-м запасном полку.
Вскоре после революции Жаров вернулся в Макарьев и в марте 1918 года поступил учителем пения в женскую гимназию. После ее закрытия продолжал работать, теперь уже в школе второй ступени, до февраля 1919 года. В этот же период он руководил хором в одном из соборов города. Затем Жаров оказался на Дону. Пройдя подготовку на курсах пулеметчиков, он вступил в пулеметный полк 3-й Донской дивизии генерала Абрамова, где и служил в чине хорунжего до эвакуации дивизии 15 ноября 1920 года из Керчи в Турцию на пароходе «Екатеринодар» (см. также комментарий 52 к воспоминаниям А. П. Смирнова).
По рассказам Кученкова, Данилин, обычно хмурый и угрюмый («в себе») преображался за пультом: лицо вдохновенное, руки наэлектризованные. Дискантов он называл скрипками.
Речь идет о младшем помощнике регента Н. Н. Толстякове.
Вторым младшим помощником регента с мая 1912 года был В. П. Степанов.
Имеется в виду дом на Б. Никитской № 11 и дом по Среднему Кисловскому переулку №4.
Вероятно, речь идет об А. А. Крылове – студенте Московского Коммерческого института и певчем Синодального хора с октября 1912 года.
Заштатный священник Троицкой церкви села Троицкого Юрта Новохоперского уезда Воронежской губернии Д. И. Шишлов после окончания Коммерческого института вышел в июле 1916 года из состава Синодального хора и уехал в Воронеж на место служащего в обществе «Кооперация».
Высказывание Шаляпина о пользе для солиста пения в церковном хоре приведено в работе выпускника Синодального училища Д. Н. Шведова, со слов Н. М. Данилина: «Уже будучи прославленным артистом с мировым именем, Шаляпин как-то приходит ко мне со следующей просьбой: «Николай Михайлович, разреши мне постоять в твоем хоре вместе с басами, ибо я что-то совсем разладился». Недели две-три он ходил петь с басами. После пришел и, поклонившись в ноги, сказал: «Спасибо. Вот теперь я настроился, все в порядке». И так бывало не один раз» (Шведов Д. Н. Искусство Шаляпина и мировая культура // Сб. «Н. М. Данилин», с. 270). О том же вспоминал сын А. Т. Белова, московского регента, у которого Шаляпин бывал на хоровых спевках.
Официально обучение регентов сосредоточивалось в конце XIX и начале XX века в трех местах: Придворной певческой капелле, Синодальном училище (после реформы) и Регентском училище, учрежденном Смоленским в Петербурге в 1907 году.
Старейшим из этих учреждений являлась Капелла, где уже с 1848 года было введено трехступенное обучение регентов: младший, средний и старший курсы, каждый рассчитанный примерно на два года. Однако регентский класс в то время не был учебным заведением; по сути, желающий получить аттестат Капеллы занимался частным образом с ее учителями и затем держал экзамен у ее директора. Прохождение официального полного курса было и слишком продолжительно по времени, и практически недоступно в материальном отношении: три курса стоили в совокупности около 500 рублей. С 1848 по 1884 год Капелла выдала 435 регентских аттестатов, причем 6 – учителям пения самой Капеллы, 81 – регентам архиерейских и 114 – регентам полковых хоров. С приходом в Капеллу Балакирева и Римского-Корсакова в 1883 году началось реформирование регентского класса в стабильное учебное заведение с курсом, близким консерваторскому в области теории музыки. С 1886 по 1904 год регентский аттестат получило 475 человек, из которых примерно десятую часть составляли ученики Капеллы, около половины – прослушавшие курс, а остальные – сдававшие экзамены экстерном. В 1906 году на регентских курсах обучалось 83 человека. (Данные приводятся по статье «Регентские классы при Придворной капелле» // РМГ, 1906, № 19–20.)
Летом 1907 года Придворная капелла объявила о прекращении приема частных лиц в регентский класс. Спустя некоторое время появилось новое «Положение о регентских классах», где предусматривался четырехлетний курс обучения и три варианта аттестата: помощник регента, регент, регент и учитель церковного пения; в «Положении» было подтверждено, что посторонние Капелле лица могут держать экзамены по полной программе в порядке исключения, с разрешения директора.
Чтобы заполнишь образовавшуюся пустоту в регентском образовании, С. В. Смоленский, тогда уже ушедший из Капеллы и проживавший в Петербурге, учредил, с разрешения Синода, частные Регентские курсы с программой, в основном соответствовавшей программе регентского класса Капеллы. Курсы открылись 1 октября 1907 года; основной педагогический состав – ученики Смоленского по Синодальному училищу и сотрудники по Капелле. По мысли Смоленского, курсы должны были стать «двухступенными»: основной курс для регентов-практиков мог дополняться высшим курсом для тех, кто предполагал преподавать церковное пение или заниматься научной работой в этой области. На регентские курсы Смоленского могли поступать и женщины – это было принципиальное нововведение; при курсах начал формироваться общедоступный хоровой класс – то есть хор любителей, с которым могли работать будущие регенты. Смерть Степана Васильевича воспрепятствовала широкому развитию этого начинания (Смоленский мечтал о постепенном создании Академии церковного пения), однако курсы продолжали жить: в 1909-м состоялся первый выпуск учащихся; в 1910-м – второй; регентское училище, как оно теперь именовалось, начало и собственную издательскую деятельность. После кончины Смоленского училищем руководил П. А. Петров; с 1911 года были организованы и месячные летние курсы (в трех отделениях; четвертое – для подготовки к экзаменам в Капелле). В таком виде училище дожило до 1917 года.
Что касается Синодального училища, то за период с 1893 по 1918 год его окончили с квалификацией «регент и учитель церковного пения» 145 человек (свидетельства выдавались первого и второго разряда). Посторонние лица – из среды певчих либо прослушавшие регентский или музыкальный курс – получали удостоверения в том, что они изучали музыкальные предметы в Синодальном училище и могут быть регентами и учителями пения (таких документов с 1895 по 1914-й было выдано 40). Только в 1907 году было объявлено, что для получения звания регента частного хора желающие могут держать экзамен в Наблюдательном церковно-певческом совете при Синодальном училище по определенной программе. Этим воспользовались многие московские регенты, не имевшие официальных документов на право заниматься регентской деятельностью. Список выдержавших испытание опубликовали «Московские церковные ведомости» (1908, № 11).
Не только выпускники училища, но и преподаватели музыкальных дисциплин, работавшие одновременно учителями пения в начальных и средних учебных заведениях Москвы, а также певчие Синодального хора способствовали притоку талантливых учеников. Регенты хора и их помощники периодически ездили отбирать детские голоса в провинцию. В 1912 году администрация Синодального училища, рассылая письма, обращалась к бывшим воспитанникам с просьбой помочь в отыскании хороших детских голосов, ввиду нехватки в очередном наборе.
По сословным признакам ученики делились, в количественном отношении, следующим образом: на первом месте – выходцы из крестьян, затем мещане, разночинцы и дети из семей духовного звания, потомственных и почетных граждан; на последнем месте – дворяне.
На вступительных экзаменах заполнялся так называемый «приемный лист», в который вносились следующие дисциплины: чтение (русский и церковнославянский языки), письмо, Закон Божий, арифметика; далее – качество голоса и слуха (отметка и отзыв). В этой части листа фиксировалось мнение регента хора и его помощника, преподавателей постановки голоса и церковного пения. Правда, порой в «приемных листах» проставлялись не все отметки.
На май-август устанавливался летний график для всех певчих Синодального хора, а также для регента и его помощников. Состав поющих в Успенском соборе сокращался в три раза, то есть пели уже на один клирос отделением примерно в 30–35 человек (25 мальчиков и 10 взрослых певчих) с одним регентом. Таких групп («очередей») обычно было три – по числу летних месяцев.
В доме номер 11 на Б. Никитской улице синодальные певчие обосновались в середине 1860-х годов. Построенный в конце XVIII века по проекту В. И. Баженова, дом в апреле 1858 года перешел от частных лиц к Московской Синодальной конторе (здесь в течение долгого времени находилась квартира прокурора конторы). В 1897–1898 годах здание было перестроено, со стороны двора пристроено новое крыло с концертным залом и музыкальными классами в первом этаже. Помимо этого, тогда же на месте ветхих строений по Среднему Кисловскому переулку был воздвигнут четырехэтажный кирпичный дом для администрации, регентов, преподавателей и служащих Синодального училища. Всеми строительными работами руководил архитектор В. Д. Шер.
В XIX веке на месте бывшего Крестовоздвиженского монастыря (угол Воздвиженки и Крестовоздвиженского переулка) Синодальное ведомство имело в своем распоряжении два корпуса: один, трехэтажный, выходящий фасадом на Крестовоздвиженский переулок – для священников и диаконов Успенского собора; второй, трехэтажный кирпичный, в глубине двора – для звонарей Ивановской колокольни и сторожей Успенского собора (первый этаж), а также для певчих Синодального хора (второй и третий этажи).
Крестовоздвиженский монастырь был основан около 1540 года и назывался Воздвижения Честнаго Креста, что на Острове (то есть внутри остатка леса среди населенных мест). Первый, деревянный, храм сгорел в 1547 году и на его месте был построен каменный, в свою очередь перестроенный в начале XVIII века. После его сооружения эта часть улицы Арбат и получила имя Воздвиженки. После нашествия французов монастырь был упразднен, и церковь обращена в приходскую. По некоторым данным, именно тогда, около 1820 года, в монастырских домах поселился причт Успенского собора. Величественный храм в стиле «московского барокко» был сломан в 1934 году; теперь на его месте – вход в подземный переход.
Двуцветный зал в голубых и белых тонах, с лепниной на стенах и потолке, строгой отделкой сводчатых окон и тонкой проработкой стен, с изящной балюстрадой балкона (хоров) во всю длину зала (с двух сторон), с красивой люстрой и наборным паркетом, с выверенной акустикой (с применением голосников) был идеальным местом для проведения хоровых и камерных концертов. На стене позади эстрады помещались два больших портрета в багетных рамах – Александра III и Николая II; над ними, у потолка, с двух сторон даты рельефом: 1886 (начало преобразования училища) и 1898 (год постройки зала). Между портретами помещалась икона Спаса Нерукотворного. В зале были проведено калориферное отопление. Места распределялись следующим образом: 400 внизу (18 рядов венских кресел и стульев по 22 места в каждом ряду, с проходом в центре) и 200 мест на хорах. При входе в зал справа, в простенке между вторым и третьим окном, на специальных кронштейнах стоял бюст С. В. Смоленского работы Н. А. Андреева (установлен в 1913-м), а напротив, по левой стене – бюст В. С. Орлова работы М. А. Керзина (установлен в 1908-м).
Позже распорядок дня подвергся некоторым изменениям. Из отчета по Синодальному училищу за 1912 год: «На 1911/12 учебный год в педагогических целях был изменен порядок дня. Ученики встают в 6 часов 15 минут. В 7 часов – утренняя молитва и чай. До 8 часов повторение уроков и занятия в музыкальных комнатах. С 8 до 12 часов – уроки по музыкальным и общеобразовательным предметам. Все одиночные занятия по фортепиано, скрипке и виолончели перенесены на послеобеденное время и на вечер. После чая, с 3 часов 30 минут до 5 часов 30 минут – хоровая спевка. После спевки, с 6 часов 30 минут до 8 часов 30 минут – ужин и приготовление уроков к следующему дню. День заканчивается вечерней молитвой в 9 часов 30 минут» (РГАЛИ, ф. 662, on. 1, № 39, л. 25).
Еще совсем недавно, в период с 1904 по 1909 год, занятия по фортепиано и скрипке в певческом отделении были коллективными под наблюдением преподавателей, но со вторым классом занимались старшие ученики, у которых эти уроки рассматривались как педагогическая практика.
По предложению Орлова, коллективные занятия начались с 1 сентября 1904 года. «В оправдание этой меры правление указывало на то, что Синодальное училище по своему уставу не призвано вырабатывать знаменитостей скрипачей и фортепианной игры или специалистов других музыкальных предметов, а должно готовить опытных учителей в пределах, требуемых правильной постановкой церковного хора... в этих видах уже на школьной скамье желательно приучать воспитанников к соответственным занятиям...» (Металлов, с. 93).
Бывший воспитанник Синодального училища К. М. Лазарев вспоминал: «Искали солиста для номера «Тебе поем“ в Литургии Рахманинова. Пробовали Балановскую, Нежданову, Степанову. Однако лучше всего подошел голос Ильи Шорина: он не выделялся, а парил над хоровой массой». Интересна реакция Неждановой и Собинова на голос Шорина. Когда на репетиции в училище Антонина Васильевна впервые услышала пение мальчика, она сказала: «Зачем вам мой голос, когда у вас есть Шорин». Собинов был настолько поражен пением Ильи, что «как-то странно и даже неприлично смотрел ему в рот».
Судя по письму Кастальского к И. В. Липаеву от 14 марта 1916 года, репетиции заняли больше времени, чем это запомнилось мемуаристу: «В 10 дней переписать партии и выучить мало-мальски прилично, – невозможно (вещи не легкие). Синодальный хор репетировал их минимум три недели» (РГАЛИ, ф. 795, on. 1, № 16, л. 5).
Что же касается разучивания Всенощной Государственным академическим русским хором под управлением А. В. Свешникова, то оно проходило в 1960-х – 1970-х годах, причем по литографированной партитуре, принадлежавшей Н. М. Данилину и содержавшей пометы дирижера.
По свидетельству С. А. Шумского, Синодальный хор пробовали писать на фонограф еще при Орлове, но неудачно. В то время можно было выставить перед записывающим устройством лишь 14–16 человек, причем голоса мальчиков ложились плохо, а мужские – лучше. Известные записи Синодального хора под управлением Кастальского осуществлены в конце ноября 1907 года. За два сеанса записи хор получил от английской компании «Граммофон» тысячу рублей. На пяти пластинках представлены следующие сочинения:
| 1 | П. Чайковский. | Свете тихий (из Всенощного бдения, соч. 52). |
| 2 | А. Кастальский. | Благослови, душе моя, Господа (греческого роспева). |
| 3 | А. Кастальский. | Хвалите имя Господне (киевского роспева). |
| 4 | А. Кастальский. | Достойно есть (сербского роспева). |
| 5 | А. Кастальский. | С нами Бог (знаменного роспева) и Многолетие. |
| 6 | Г. Львовский. | Тебе поем. |
| 7 | А. Гречанинов. | Воскликните Господеви (соч. 19, № 2). |
| 8 | С. Панченко | Во Царствии Твоем (из Литургии, соч. 18). |
| 9 | Достойно есть, киевского роспева. |
В 1911 году Синод циркулярно предписал всем епархиальным властям воспретить исполнение богослужебных песнопений и чтений для граммофонов, но данное предписание часто нарушалось.
Помощником регента Синодального хора П. В. Власов являлся с сентября 1904 по декабрь 1906 года. Назначение состоялось после того, как в мае 1904 года с этого поста ушли одновременно П. Г. Чесноков и Н. М. Данилин.
Выражаемый мемуаристом упрек в адрес Власова – субъективен. Если принять во внимание, что Власов в 1896–1901 годах был певчим Синодального хора, что он учился пению в Московской консерватории у У. Мазетти и преподавал постановку голоса в Синодальном училище с 1901 по 1918 год, то станет очевидной полезность его труда на «синодальной почве». Что же касается послереволюционной деятельности Власова, то надо уточнить, что он трудился в Музыкальном техникуме имени Римского-Корсакова в подмосковной Тарасовке (Ярославской ж. д.), где преподавал теоретические предметы, сольное пение и руководил хором.
Упоминаемый Смирновым Домарко – вовсе не итальянец: это псевдоним артиста хора Мариинского театра Марка Дмитриевича Улизько, которого пригласили в Синодальное училище на один учебный год (1911/12) для занятий с учениками первого класса. Согласно отчету за 1912 год, эти занятия были признаны неудовлетворительными.
Пение по литографированным партитурам было введено в начале 1890-х годов Смоленским (см. подробнее в его «Воспоминаниях»). В разных московских архивах и библиотеках сохранились фрагментарно отдельные произведения и сборники песнопений в литографиях Синодального училища, иногда с пометами регентов и исполнителей. Обычно составлялся сборник песнопений, который затем попадал в руки переписчика. Нотный текст воспроизводился специальными чернилами и затем размножался в типографии литографским способом (как правило, в нотопечатне В. Гроссе на Большой Спасской улице). В литографированных партитурах, как правило, имеются дата переписки и фамилия переписчика. В 1890-х – 1900-х годах большинство партитурных сборников написано А. Поповым, в 1900-х – 1910-х – В. Серковым и П. Хромовым, в 1910-х – Н. Озеровым и И. Макановым.
Премьера сочинения в исполнении Синодального хора под управлением Н. С. Голованова состоялась в Москве в концерте 18 ноября 1912 года. См. подробнее в комментариях к очерку А. П. Смирнова о Н. С. Голованове.
Судя по другим источникам, Собинов несколько раз выступал с Синодальным хором. Об этом свидетельствует прежде всего Кастальский в своих заметках «О моей музыкальной карьере», где говорится, что Собинов дважды пел соло в песнопении Кастальского «Чертог Твой». Кроме того, в сохранившихся программах концертов отражены два выступления Собинова в песнопении Кастальского «Свете тихий» № 2 (23 января 1911-го и 2 января 1913 года).
Возможно, вспоминая о концерте, в котором участвовали одновременно Собинов и Нежданова, солировавшая в чесноковском «Ангел вопияше», мемуарист имеет в виду концерт, состоявшийся 2 января 1913 года в Большом зале консерватории в пользу Елизаветинского благотворительного общества, однако в этом концерте Собинов солировал в «Свете тихий». Можно предположить, что «Чертог Твой» исполнялся на бис или же мемуарист смешал события 1911 и 1913 годов – в концерте 1911 года Собинов исполнял оба песнопения Кастальского, но в нем не участвовала Нежданова.
Поскольку же в мемуарах речь идет о военном времени, о концерте в пользу жертв войны, то мемуарист может припоминать и еще один концерт, состоявшийся 15 февраля 1915 года в зале Благородного собрания под управлением Данилина, в котором Нежданова солировала в двух произведениях Павла Чеснокова – «Ангел вопияше» и «Величит душа моя Господа» (эта программа была почти целиком составлена из премьер хоровых композиций таких авторов, как Голованов, Викт. Калинников, П. Чесноков, П. Крылов, А. Никольский
С 1894 года репетиции ученического хора проходили два раза в неделю (по часу каждая). Их содержанием была подготовка к училищным всенощным, которые проводили ученики восьмого и девятого классов. Дважды в неделю репетировал и струнный оркестр (игра в нем не входила в программы училища и рассматривалась как форма проведения досуга). Оркестром руководил Голованов, который и делал для него переложения разных произведений на струнный состав. В 1910-е годы оркестр собирался при подготовке ученических вечеров. В программы училища входил также предмет «совместная игра»: ученики по классам играли квартетами духовно-музыкальные сочинения под управлением одного из учеников.
Кастальский шутил: «Данилина сманили наши котлеты», то есть при поступлении в училище мальчик сказал матери: «Там дают котлеты» и решил остаться. На улице мальчиков из Синодального хора часто дразнили «котлетниками».
В 1890-е – 1900-е годы в Синодальном училище существовала традиция новогодних елок с подарками. Позднее стали устраивать спектакли и ученические вечера. Оперу Гречанинова «Елочкин сон» поставил ученик девятого класса Николай Журавлев, а в исполнении приняли участие воспитанники первого-восьмого классов под руководством старших учеников. В 1910 году поставили оперу-сказку Кюи «Снежный богатырь», в 1912-м – «Репку» В. Сокольского.
В Альбоме № 1 из архива Н. С. Голованова сохранилась программа ученического вечера, проведенного 19 декабря 1908 года под руководством выпускного класса. В первом отделении ученический оркестр под управлением выпускников исполнил пьесы Направника, Кюи, Жиле, детский хор – «Ноктюрн» и «Совушкину свадьбу» Гречанинова, а Синодальный хор под управлением выпускника Голованова – «Ковыль» Сахновского. Во втором отделении снова играл ученический оркестр (в числе прочего прозвучали два романса Голованова для голоса с оркестром, исполненные Н. Д. Чумаковым), пел детский хор (пьесы Глиэра) и Синодальный хор («Былинка» Кастальского). Кроме того, прозвучали пьесы для виолончели соло и «Ночь на Лысой горе» Мусоргского в переложении для фортепиано в четыре руки (Голованов и В. Орлов). Третье отделение составил спектакль «Безденежье (сцены из петербургской жизни молодого дворянина)» по Тургеневу.
Что же касается попечителей училища, то следует заметить, что потомственный почетный гражданин В. В. Варгин, занимавшийся в Москве торговлей мануфактурой, во второй половине 1890-х годов учился у Танеева в Московской консерватории, сочинял романсы и фортепианные пьесы, а в 1910-х являлся членом дирекции Московского отделения ИРМО.
Официальную должность почетного блюстителя по хозяйственной части Синодального училища исполнял в 1909–1912 годах самарский купец-меценат А. А. Субботин, который неоднократно вносил большие суммы на нужды училища и хора. По просьбе Субботина для его хора Кастальский рекомендовал в 1911 году бывшего ученика Синодального училища, талантливого регента и композитора А. А. Воронцова: он оставил заметный след в музыкальной жизни Самары. Были у Синодального хора и училища и другие жертвователи: в 1896 году – Г. Солодовников (200 000 рублей), в 1897-м – госпожа фон Мекк (по-видимому, супруга Н. К. фон Мекка).
Филипп Петрович Степанов, выпускник Николаевской инженерной академии (1870-е), занял пост прокурора Московской Синодальной конторы в 1906 году; одновременно он исполнял должности управляющего Синодальными недвижимыми имуществами в Москве и ее окрестностях и управляющего Синодальным хором и училищем. В 1907 году он стал камергером двора его императорского величества. Жена Степанова, из рода князей Ширинских-Шихматовых, умерла в апреле 1908 года. Вместе с ним в двухэтажном доме на Воздвиженке (напротив нынешнего Военторга) жил сын Петр (лицеист, погиб летом 1918 года в Ярославле); две старшие дочери жили отдельно (одна была фрейлиной двора в Петербурге; другая, жившая в Москве, носила в замужестве имя баронессы Шеппинг).
В отличие от своих предшественников, Шишкова и Ширинского-Шихматова, Степанов занимал весьма лояльную позицию относительно Синодального училища и хора, неизменно проявляя доброжелательный интерес к их деятельности. Плодотворность трудов Степанова на ниве церковно-певческого искусства неоднократно отмечалась в прессе тех лет.
Известно лишь одно сочинение Ф. П. Степанова – Литургия, которая была литографирована для Синодального хора в конце осени 1912 года. Эта Литургия исполнялась на службах в Успенском соборе, и лишь однажды в концерте (2 января 1913 года) прозвучало одно песнопение цикла – «Благослови, душе моя, Господа».
Работа Ермонского в Синодальном хоре была временной; он пел в партии первых басов, не получая жалованья.
Действительно, в 1919 году Якимов был секретарем Народной хоровой академии, в дальнейшем его имя фигурирует в списке преподавателей теории музыки, ансамбля и хорового класса
В памяти А. П. Смирнова слились в единое целое события разного времени: празднование 25-летия училища в 1911-м и открытие бюста Смоленского в 1913 году.
Доклад Металлова, прочитанный на торжественном собрании в 1911 году, был опубликован в журнале «Хоровое и регентское дело» (1911, № 12); этот текст вошел также в книгу Металлова «Синодальное училище церковного пения в его прошлом и настоящем»
Первоначально мысль об установке памятника Смоленскому зародилась в дни празднования 25-летия реформированного Синодального училища, и тогда же определился ответственный за это дело – П. Г. Чесноков.
Около 1912 года по инициативе П. Г. Чеснокова в Москве было создано Общество вспомоществования бывших воспитанников Синодального училища, которое подтвердило решение о бюсте Смоленского, а также постановило организовать ежегодные концерты Синодального хора из сочинений выпускников училища. В кассу Общества был передан денежный фонд А. А. Ширинского-Шихматова (РГАЛИ, ф. 662, on. 1, № 43, лл. 2–3).
Открытие бюста состоялось 28 октября 1913 года, о чем журнал «Хоровое и регентское дело» сообщил в следующей заметке:
«Скромное торжество состоялось в зале Московского Синодального училища церковного пения 28 октября настоящего года: поставлен бюст-памятник первого директора училища, известного деятеля в области церковного пения С. В. Смоленского. Постановка бюста принадлежит инициативе бывших учеников Степана Васильевича по Синодальному училищу и является данью их любви и уважения к памяти любимого учителя. Все необходимые средства были собраны по подписке исключительно между бывшими учениками Степана Васильевича. <...> Труды по сбору надобной суммы и все хлопоты по устройству и постановке бюста принял на себя ученик покойного, известный духовный композитор Павел Григорьевич Чесноков.
Это скромное, но памятное для всех присутствовавших на нем торжество собрало в зал Синодального училища не только бывших учеников Степана Васильевича, но и бывших его сослуживцев и почитателей. Перед открытием бюста протоиереем В. И. Кедровым в сослужен и с протодиаконом К. В. Розовым, при пении Синодального хора, была отслужена панихида, по окончании которой было снято покрывало с бюста. Затем П. Г. Чесноков, передав в нескольких словах ход устройства бюста, отметил, что доброе участие и содействие оказали два лица – прокурор Московской Синодальной конторы Ф. П. Степанов и автор бюста, московский скульптор Н. А. Андреев. После этого от имени бывших учеников Степана Васильевича, принимавших участие в постановке бюста, П. Г. Чесноков передал его в ведение администрации Синодального училища». Кроме того, речи произнесли: заведующий Регентско-учительскими курсами при Регентском училище Смоленского в Петербурге П. А. Петров, а также педагоги Синодального училища Н. Р. Кочетов и А. Я. Дубинин. Скульптору, отсутствовавшему на открытии, была послана приветственная телеграмма (Хоровое и регентское дело, 1913, № 11).
По случаю празднования 25-летия училища 6 ноября 1911 года был дан концерт Синодального хора под управлением Данилина с программой, целиком составленной из впервые исполнявшихся сочинений бывших учеников. Прозвучали: Херувимская на «Видя разбойник» П. Чеснокова, «Плотню уснув» Н. Ковина, «Достойно есть» А. Чеснокова, «Хвалите имя Господне» Н. Толстякова, Херувимская К. Шведова, «Блажен муж» А. Воронцова, «Плачу и рыдаю» И. Соколова, «Плотию уснув» и «Апостоли от конец» Н. Голованова, догматик второго гласа А. Чугунова. Завершала концерт упоминаемая мемуаристом кантата для хора с небольшим оркестром (или фортепиано) Кастальского.
Г. Э. Конюс писал 8 ноября в газете «Утро России»: «Из исполненных a cappella хоровых сочинений П. и А. Чесноковых, Ковина, Толстякова, Шведова, Воронцова, Соколова, Степанова, Голованова и Чугунова многое очень интересно, а иное даже и значительно, например, Херувимская песнь на «Видя разбойник» П. Чеснокова <...>.
Концерт <...> закончился красивой, остроумно задуманной и увлекательно выполненной кантатой А. Д. Кастальского <...>. Автор обнаружил в кантате лучшие стороны своего оригинального и симпатичного таланта».
В тексте кантаты, сочиненном самим Кастальским вместе с супругой Натальей Лаврентьевной, говорится, в частности:
Собирались речки песенны,
Речки песенны что из дальних стран:
Одна реченька цареградская,
Друга реченька-то славянская,
Старосербская да болгарская.
Сошлись реченьки, слились песенны
В стольном Киеве на Руси святой,
И запел, завел старый Киев-град
Песнь церковную старокиевску.
Уж из той речки большой знаменной
Растеклись ручьи во все стороны
По лицу земли святорусский.
Вся запела Русь песни Божии,
По восьми гласам службы приняла,
По крюкам-знаменам Бога славила...
Но не всякому дан высокий дар
Бога песнию славословити,
Дар учительства песне Божией,
Дар мусикии, песнотворчества. .
Для науки же на Святой Руси
Школы певчески поналажены.
Сладкопению научаются
Дети малые, неразумные.
А подросточки – те над грамотой
Мусикийскою ухищряются,
Чтоб самим потом с разумением
В деле Божием подвизатися...
Интересные детали, касающиеся Лейпцигской поездки хора, содержатся в мемуарах упоминаемого в тексте о. Георгия Шавельского – последнего протопресвитера русской армии и флота (с 1911 по 1917; в дальнейшем о. Георгий жил в Болгарии, был профессором богословского факультета Софийского университета и директором русской гимназии там же):
«В сентябре 1913 года обер-прокурор Св. Синода В. К. Саблер сообщил мне о желании Государя поручить мне освящение храма-памятника, сооруженного в Лейпциге в память русских воинов, погибших в «Битве народов» 5 октября 1813 года. Освящение назначалось на день столетнего юбилея. <...> Я высказал обер-прокурору, что для достойной России торжественности следовало бы вместе со мною командировать лучшего нашего протодиакона Константина Васильевича Розова (Московского Успенского собора) и Синодальный хор. Саблеру понравилась эта мысль.
Вскоре я получил официальное сообщение, что, по повелению государя, я с протодиаконом Розовым и Синодальным хором командируюсь в Лейпциг для освящение храма-памятника. Мы должны были выехать вместе с русской военной миссией, отправляемой для представительства России на торжествах. Во главе миссии стоял великий князь Кирилл Владимирович. <...>
Торжество началось 4 (17) октября. В этот день в кирхе, любезно предоставленной нам лютеранами, перед гробами с останками наших героев, в присутствии всех членов миссии и чинов русского посольства в Берлине, русских, живущих в Лейпциге, и множества немцев, была отслужена панихида, а затем с крестным ходом останки торжественно были перенесены в усыпальницу нашего храма. По пути шествия были выстроены немецкие войска с оркестром музыки, исполнявшим «Коль славен». 5(18) октября предстояло освящение храма, литургия и молебен. По церемониалу, в конце литургии на молебен должен был прибыть, после открытия своего немецкого памятника, император Вильгельм со всеми высочайшими особами, съехавшимися на торжество. <...>
Никогда не забыть мне этого 18 октября. Приехав в церковь задолго до начала службы, я с высокой паперти наблюдал бесконечно тянувшуюся мимо церкви к немецкому памятнику, пеструю, как разноцветный ковер, менявшуюся, как в кинематографе, ленту идущих войск, процессий и разных организаций. <...>
Литургию я совершал в сослужении заграничных протоиереев: Берлинского – А. П. Мальцева и Дрезденского – Д. Н. Якшича. В самом конце литургии, когда певчие начали петь «Благочестивейшего», в церковь вошли король Саксонский (как хозяин, он всегда и везде на торжествах занимал первое место, Вильгельм же второе), император Вильгельм, австрийский эрцгерцог Фердинанд, шведский принц и т. д. Всего, как говорили, тридцать три высочайших особы при многолюдной свите. Начался молебен. Своим могучим, сочным, бархатным басом протодиакон Розов точно отчеканивал слова прошений; дивно пели синодальные певчие. Эффект увеличивался от великолепия храма и священных облачений, от красивых древнерусских одеяний синодальных певчих. Церковь замерла. Но вот началось многолетие. Первое – Государю Императору, Императрицам, Наследнику и царствующему дому. Второе – королю Саксонскому, императору Германскому, императору Австрийскому и королю Шведскому. Третье – воинству. Розов превзошел себя. Его могучий голос заполнял весь храм; его раскаты, качаясь и переливаясь, замирали в высоком куполе. И этим раскатам могуче вторили певчие.
Богослужение наше очаровало иностранцев. Вильгельм – рассказывали потом – в течение этого дня несколько раз начинал разговор о русской церкви, о Розове и хоре. «Он бредит Розовым», – говорили у нас. Возвращаясь из Лейпцига, Синодальный хор пел духовный концерт в Берлине. Вильгельм не только сам приехал на концерт, но и привез капельмейстера своей капеллы. Когда Вильгельм входил в концертный зал, он прежде всего спросил: «А будет ли Розов?» Так передавали мне». (О. Георгий, Шавелъскии. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Нью-Йорк, 1957, с. 73–79.)
В своем «Опыте автобиографии» Н. С. Голованов вспоминает: «Он [кайзер Вильгельм] вызвал меня в антракте, громко восхищался хором, называя его чудом света, и пожаловал мне орден Красного Орла». (Сб. «Н. С. Голованов», с. 13).
В рапорте на имя обер-прокурора Св. Синода Ф. П. Степанов писал, в частности:
«Пение хора под управлением Данилина [при освящении храма] поразило императора Вильгельма, и когда я имел честь быть ему представленным великим князем после обеда во дворце, его величество изволил мне выразить свое восхищение хором и сожаление, что он его до сих пор никогда не слыхал; тогда я доложил его величеству, что на другой день, 6 октября, хор даст концерт в Берлине в зале консерватории, и имел смелость просить его величество пожаловать на этот концерт, на что император выразил свое согласие.
В Берлине хор остановился в Северной гостинице Инвалидной улицы и вечером 6 числа выступил в концерте под управлением Голованова. [Зачеркнутая фраза: Данилин не мог управлять вследствие болезни, почему я взял с собой двух регентов.] <...>
Концерт прошел с невероятным для Берлина успехом, повторялись по требованию публики следующие номера: «Тебе поем» Калинникова, «Господи, помилуй» Львовского, «Достойно есть яко воистину» Кастальского, «Тебе поем» Шведова. Эти номера император отметил в своей программе.
По окончании концерта император позвал нашего посла и меня в ложу и в самых восторженных выражениях передавал свое восхищение, он возвращался в ложу каждый раз, что хор снова выходил на эстраду по настойчивому требованию публики и исполнял номера сверх программы. Выло исполнено: еще один раз германский гимн, «Блажен муж» Чайковского, «Во царствии Твоем» Чеснокова и русский гимн. Император высказался, что он «не может уехать, пока хор поет, хотя бы это было до самого утра».
Император обратил особенное внимание на постановку голосов мальчиков, указывая, что звук у них на губах и резонирует от неба, а не исходит как бы из живота, как у немцев, что дает какой-то глухой сдавленный звук. Император вызвал на концерт управляющего оперой, чтобы указать ему достоинства русского хора. <...>
Из Берлина мы выехали в 3 часа дня 7-го, прямым сообщением через Калиш, и прибыли в Варшаву 8-го. 9-го хор, под управлением Голованова же, давал концерт в Варшаве в зале Филармонии. Зал был полон, было много поляков и даже ксендзов и протестантов со съезда их синода, который в это время заседал в Варшаве».
Действительно, за несколько дней до отъезда в Лейпциг Степанов, пересмотрев утвержденный состав, включил в него Голованова как помощника регента.
Содержательную рецензию на концерт Синодального хора в Берлине опубликовал протоиерей А. Мальцев в издававшемся в Берлине православном богословском журнале «Церковная правда».
О концерте, состоявшемся 9/22 октября 1913 года, на обратном пути Синодального хора из Германии в Россию, рецензент варшавской газеты «Театр и спорт» писал: «Управление хором было образцово и показало, несмотря на молодость Н. С. Голованова, что перед нами человек с огромным талантом. Нюансировка, положительно органный подбор голосов, высокохудожественная модуляция, проникновенная дикция и поразительная дисциплина хора показывают нам, сколько вкуса, труда и энергии затрачено на обучение этого, не имеющего себе равных в России, образцового хора». (Цит. по сб. «Н. С. Голованов», с. 231.)
Это был пятый концерт Синодального хора в Варшаве; первые четыре состоялись в 1911 году
В декабре 1913 года произошла своеобразная дуэль между капеллой моравских учителей и Синодальным хором. В письме от 26 ноября 1913 года совет петербургского Славянского благотворительного общества сообщал: «В декабре приезжает в Санкт-Петербург, потом в Москву чешская певческая организация – хор моравских учителей. Пользуясь широкой известностью на родине за высокохудожественное исполнение чешских народных мотивов, этот хор дает в Петербурге 4, 7 и 9 декабря, в Москве 11 и 13 декабря концерты. <...> Совет Славянского общества находил бы целесообразным, если бы Синодальное училище отметило пребывание чехов в Москве устройством в их честь концерта. <...> У чехов наблюдается черта слишком большой самоуверенности и даже отрицания нашего русского творчества в области искусства, поэтому было бы полезно, если бы они, упрочившие за собой славу талантливых певцов, послушали и наш первоклассный хор и ознакомились с мелодиями нашей духовной музыки» (ЦГАДА, ф. 1183, on. 1, № 21.)
Кастальский и Данилин решили дать небольшой концерт для чехов 12 декабря в 5 часов дня в зале училища по программе: Кастальский – «Тебе поем» (знаменного роспева) и «Свете тихий» (№ 3), П. Чесноков – «Тебе поем» (киевского роспева), Рахманинов –- Трисвятое из Литургии, С. Панченко – «Во царствии Твоем».
Об уровне мастерства чешского коллектива можно судить по рецензии П. Андреева в журнале «Хоровое и регентское дело» (1914, № 1)
В 1907–1917 годах С. Н. Василенко проводил в Москве общедоступные дневные Исторические концерты (абонементные циклы), в которых принимали участие оркестр Большого театра и ряд выдающихся исполнителей и коллективов, в том числе Синодальный хор. Среди консерваторских учеников Василенко по композиции и по инструментовке были выпускники и педагоги Синодального училища, в частности, Н. С. Голованов, П. Г. Чесноков, С. И. Потоцкий, Н. Н. Толстяков, В. П. Степанов, а также И. Н. Шведов, о котором идет речь в воспоминаниях. Все они принимали участие в подготовке программ Исторических концертов, которые носили просветительский характер и посвящались музыке определенной страны, или эпохи, или школы; в отдельных случаях, преимущественно к юбилейным датам, устраивались монографические концерты. Нередко звучали и шедевры хоровой музыки, для исполнения которых был необходим детский хор (из взрослых хоровых коллективов чаще всего в Исторических концертах выступала капелла Русского хорового общества). Так, 4 ноября 1912 года Синодальный хор принял участие в исполнении кантаты Баха № 23.
В своих «Воспоминаниях» С. Н. Василенко приводит любопытный эпизод, относящийся к 1910-м годам. В беседе с Василенко и гостившим в Москве А. К. Глазуновым Н. Д. Кашкин рассказывал, что «зашел он как-то в Синодальное училище – слышится, что наверху что-то поет хор – не разберешь что; он спросил у маленького мальчика, идущего по лестнице, что именно поют; тот ответил: «Да «Кучие» какое- то» (то есть латинское Кугіеон прочел по-русски)» (Василенко С, Н. Воспоминания. М., 1979)
В «Опыте автобиографии» Голованов пишет: «Из капитальных работ этого периода мне запомнилось разучивание «Страстей по Матфею» Баха. «Страсти» прозвучали впервые в Москве в симфоническом концерте под управлением М. Ипполитова-Иванова». (Сб. «Н. С. Голованов», с. 14.)
Этот концерт (Восьмое симфоническое собрание ИРМО) состоялся в Большом зале консерватории 9 марта 1913 года. В воспоминаниях М. М. Ипполитов-Иванов указывает, что для исполнения «Страстей» «пришлось мобилизовать не только все силы консерватории, но и других музыкально-хоровых учреждений Москвы, а именно Хорового общества, Синодального училища и даже немецких хоровых кружков (вроде Лидертафеля); ввиду же малочисленности последних и невозможности их членам по своим служебным обязанностям регулярно посещать репетиции, мне пришлось впоследствии отказаться от их участия; но зато к нам примкнули любители из церковных певчих, и хор образовался очень внушительных размеров, более 300 человек. Два самостоятельных оркестра, необходимых для оратории, составили оркестры консерватории и симфонических собраний. Партии солистов были распределены между артистами и учащимися. <...> Партию Христа проникновенно исполнил артист В. Р. Петров. <...> К разучиванию хоров, каждого в отдельности, я с моими помощниками – Н. С. Головановым, в то время еще учеником консерватории, и И. И. Слатиным, преподавателем оперного класса – приступил с октября года. <...> Первый хор был поручен консерваторскому хору, второй – Русскому хоровому обществу и третий – Синодальному училищу. Хоры звучали с поразительной компактностью, чистотой и силой, в особенности в первом двойном хоре, в котором хорал в исполнении детских голосов Синодального училища звучал необыкновенно трогательно и кристаллически чисто. Хоралы исполнялись соединенными силами всех трех хоров, что выходило очень внушительно. <...> Публики было невероятное количество, и слушали с большим вниманием. Ввиду интереса к произведению... мы исполнили его три раза, с одинаковым материальным успехом <...>. В следующем 1914 году мы повторили «Страсти» с тем же составом исполнителей и с таким же успехом» (Ипполитов-Иванов М. М. 50 лет русской музыки в моих воспоминаниях. М., 1934, с. 127–129).
Присяжный поверенный, управляющий московским отделением страхового общества «Россия», любитель церковного пения Андрей Павлович Каютов в конце 1913 года организовал небольшой хор из любителей и профессионалов в количестве 25–30 человек для участия в богослужениях церкви св. Пимена в Старопименовском переулке. Какое-то время хором руководил регент Н. Иванищев, в 1915 или 1916 году Каютов пригласил Данилина.
О Каютове см. газету «Московский листок» от 1 декабря 1916 года. Ему посвящены Литургия и Всенощная обычного роспева, ор. 50 П. Чеснокова.
Совмещение работы Данилина в Синодальном хоре с регентованием хором Каютова стало возможно только ввиду условий военного времени
Перед революцией Янович был помощником хранителя в Художественно-промышленном музее имени императора Александра II.
Алексей Иванович Кустов после революции не только продолжал работать с Головановым, но и не оставлял церковно-певческую деятельность. Так, 13 мая 1924 года в храме Николая Чудотворца в Ваганькове была отслужена торжественная вечерня в ознаменование 30-летия духовно-певческой деятельности Кустова – местным причтом в сослужении протопресвитера (бывшего Успенского собора) Н. А. Любимова и протодиакона М. К. Холмогорова. Пел местный хор под управлением Н. С. Голованова и Н. И. Демьянова при участии А. В. Неждановой.
Мемуарист ошибается в своих предположениях о причине посещения Шаляпиным Синодального училища. Дело обстояло гораздо проще: летом 1916 года Рахманинов и Шаляпин встретились на отдыхе в Кисловодске, и тогда выяснилось, что Шаляпин не слышал рахманиновской Всенощной. По приезде в Москву они обратились к Данилину, и тот решил устроить специальное прослушивание сочинения.
Ф. И. Шаляпин посетил спевку Синодального хора 8 октября 1916 года. На следующий день газета «Русское слово» сообщала: «Ф. И. Шаляпин и С. В. Рахманинов были в московском Синодальном училище церковного пения. Они приехали во время спевки. Синодальный хор под управлением Данилина исполнил для гостей песнопения из Всенощного бдения в композиции С. В. Рахманинова. Гости выразили благодарность Н. М. Данилину, а также присутствовавшему на спевке прокурора Синодальной конторы Ф. П. Степанову, директору Синодального училища А. Д. Кастальскому. Ф. И. Шаляпин, в свою очередь, исполнил арии из «Бориса Годунова» и несколько романсов С. В. Рахманинова. Аккомпанировал певцу С. В. Рахманинов» (Летопись жизни и творчества Ф. И. Шаляпина, кн. 2. Л., 1985, с. 109).
О планах преобразования управления кремлевскими соборами и прочими учреждениями Синода в Москве, включая училище и хор, после Февральской революции пишет в своем дневнике протопресвитер Успенского собора Николай Любимов (запись от конца мая 1917 года):
«Поднят был мною вопрос о желательности учреждения нового Всероссийского братства охранения святынь православных соборов в Москве. <...> В частности, относительно Успенского собора надо употребить все меры к тому, чтобы сохранить в нем и присущие ему с незапамятных времен особенности и уставности богослужения, древние, свойственные ему столбовые напевы и неразрывно связанный со всем этим состав его клира. <...>
Братство должно изыскивать способы поддержания благолепия в этих кремлевских соборах, привлекать жертвователей со всей верующей России.
Для осуществления всех этих моих предположений, принятых присутствующими с большим сочувствием, тотчас же и решено было поручить Сергею Николаевичу Дурылину, прекрасно изучившему святыни, незамедлительно составить подробную записку, выясняющую идейные задачи вновь учреждаемого братства, дабы скорее основать его и затем уже возбудить от его имени вышеупомянутое ходатайство пред Св. Синодом о том, чтобы все кремлевские соборы с их святынями, имуществом, а также и патриаршая библиотека и ризница остались в непосредственном ведении Св. Синода и чтобы в Москве был учрежден особый орган по управлению всеми этими синодальными соборами и учреждения, состоящий из настоятелей всех соборов, во главе с протопресвитером Успенского, о. ризничего патриаршей ризницы, библиотекаря Синодальной библиотеки, старост всех кремлевских соборов, представителей Синодального хора и того или другого количества мирян – членов вновь учрежденного братства.
Это управление могло бы заменить собою Синодальную контору, судьба которой уже несомненно предрешена в смысле ее закрытия. Это же управление должно ведать и всеми делами, как Синодального хора, так и других певческих хоров, поющих в других кремлевских соборах. <...>
Затем по моему предложению обсуждали вопрос об образовании при Успенском соборе особого соборного совета по образцу церковно-приходских советов. В состав этого совета должны входить: все члены соборного клира (18 человек), представитель Синодальной конторы (прокурор или секретарь), 3 члена от общества хоругвеносцев, 2 представителя от Синодального хора, 2 члена Московского Археологического общества, 3 члена от Братства четырех святителей московских, 3 лица из состава вновь образуемого Братства и б лиц по приглашению соборного клира из наиболее усердных богомольцев Успенского собора. <...> Председателем совета, естественно, является протопресвитер Успенского собора...» (Протопресвитер Николай Любимов. Дневник о заседаниях вновь сформированного Синода // Российская церковь в годы революции. М., 1996, с. 67–69.).
12 и 13 сентября взрослые певчие Синодального хора в знак протеста пропустили литургии в Успенском соборе. 15 сентября 1917 года директор Синодального училища сделал доклад протопресвитеру Успенского собора Н. А. Любимову о том, что в газетах появились слухи об участии певцов Синодального хора в забастовке. Кастальский пишет: «Общее собрание преподавателей училища, экстренно по этому поводу созванное 14 сентября администрацией училища, считает необходимым заявить, что преподавательская среда по своему нравственному и культурному уровню не может допустить и мысли о возможности подкреплять свои просьбы такими средствами, как забастовка» (РГАЛИ, ф. 662, оп. 2, № 119, л. 41).
Одно из последних выступлений Синодального хора имело место в разгар революционных событий в Москве – в день избрания Патриарха в Успенском соборе, 5 ноября 1917 года. Участник Всероссийского церковного собора князь И. Васильчиков пишет в воспоминаниях:
«Литургию совершал митрополит [Киевский] Владимир в сослужении многих архиереев. Пел» и пел замечательно» полный хор синодальных певчих. В конце литургии митрополит вынес из алтаря и поставил на небольшой столик перед иконой Владимирской Божией Матери» слева от царских врат» небольшой ковчег с именами выбранных на Церковном соборе кандидатов в патриархи. Затем он встал» окруженный архиереями» в царских вратах лицом к народу. Впереди лицом к алтарю стоял протодиакон Успенского собора Розов. Тогда из алтаря вышел старец о. Алексий в черной монашеской мантии, подошел к иконе Богоматери и начал молиться» кладя земные поклоны. В храме стояла полная тишина» и в то же время чувствовалось» как нарастало всеобщее нервное напряжение. Молился старец долго. Затем встал с колен, вынул из ковчега записку и передал ее митрополиту. Тот прочел и передал протодиакону. И вот протодиакон своим знаменитым на всю Москву, могучим и в то же время бархатным басом начал провозглашать многолетие. Напряжение в храме достигло высшей точки. Кого назовет? «Патриарху Московскому и Всея Руси Тихону!..»» – раздалось на весь храм, и хор грянул многолетие» (Новый журнал, 1971, № 2).
Провозглашенное в тот день многолетие было специально для этого случая сочинено Кастальским.
Несколько иначе описывает данную службу митрополит Евлогий (Георгиевский):
«Иеросхимонах Алексий трижды перекрестился и, не глядя, вынул из ларца записку. Митрополит Владимир внятно прочел: «Тихон, митрополит Московский»». Словно электрическая искра пробежала по молящимся... Раздался возглас митрополита: «Аксиос!»», который потонул в единодушном: «Аксиос!.. Аксиос!..»» духовенства и народа. Хор вместе с молящимися запел «Тебе Бога хвалим»...» (Митрополит Евлогий (Георгиевский). Путь моей жизни. М.» 1994, с. 279).
Об обстановке, в которой проходили последние службы в Успенском соборе с участием Синодального хора, рассказывается в дневнике протоиерея Георгия Голубцова, депутата Собора от грузинской епархии, в прошлом – выпускника Синодального училища. Накануне своего отъезда с Собора он отправился в Кремль, чтобы получить святое миро для храмов грузинской епархии. В его записи от 25 марта/5 апреля 1918 года читаем:
«В 9 часов утра я подошел к Троицким воротам Кремля. Около ворот стояло человек шесть вооруженных солдат, ворота были заперты. <...> Через две-три минуты вышел в военной шинели какой-то иностранец – немец или латыш и спросил, в чем дело; я ему все объяснил и предъявил бумагу от Синодальной конторы; тот, прочитав ее, пропустил меня в калитку, и я вошел в Кремль, который я знал великолепно, так как, будучи воспитанником московского Синодального училища (выпуска 1882 года), я успел во время пребывания в этом училище изучить в Кремле все ходы и выходы, и особенно я хорошо знал кремлевские храмы, в которых пел Синодальный хор. Поэтому, никого не расспрашивая, я направился прямо к зданию Синодального ведомства, во втором этаже которого находятся храм двенадцати апостолов и келии ризничего и других монахов, служащих при этом храме.
Кремль произвел на меня угнетающее впечатление своею загрязненностью: снег, очевидно, из Кремля всю зиму не вывозился, а сметался кучами, которые, смешавшись с грязью, покрыли собою всю площадь между арсеналом и казармами; улиц здесь, очевидно, совсем не подметают, – некому заботиться о чистоте. Было солнечно и очень тепло. Навстречу мне попалось всего два-три солдата в шинелях на плечах, без головных уборов, с выпущенными из штанов рубашками. Здесь царит какая-то зловещая тишина. Только ручейки черновато-мутной воды, вытекающей из-под тающих снеговых куч, своим журчанием нарушают эту тишину. <...>
Идя дальше, я увидел, что на главном входе Чудова монастыря разбита одна колонна; находившаяся тут же книжно-иконная лавка разрушена до основания, кругом в беспорядке валяются кирпичи, куски штукатурки, книжные листы и проч. Я вошел во двор здания, где помещается храм Двенадцати апостолов, патриаршая ризница, Мироваренная палата и Синодальная контора, и по чугунной винтовой лестнице поднялся на второй этаж, где находятся келии монахов. Я скоро нашел келию о. Евстратия по прибитой к двери визитной карточке; на мой стук в дверь никто не отозвался; я начал стучать во все другие двери; ответа нет ниоткуда, – как будто все здесь вымерли. <...> Раздался топот многих ног по винтовой лестнице, дверь открылась, и в притвор вбежало восемь солдат с винтовками в руках. Я им рассказал, как очутился здесь, показал им бумагу на имя о. Евстратия. Солдаты мне поверили и сказали, что о. Евстратий со всеми жившими монахами прошлою ночью арестованы судебными властями по подозрению в ограблении патриаршей ризницы, посоветовали мне пойти в Успенский собор, где сейчас идет служба, и там спросить у кого-нибудь из духовных лиц, от кого я теперь могу получить святое миро и частицы святых мощей. Я так и сделал. В Успенском соборе шла литургия Преждеосвященных Даров, пело отделение Синодального хора в 12 человек басов и теноров. Народу было мало. В соборе до сих пор зияет в куполе пробоина, кажущаяся снизу величиной в аршин в диаметре, а на самом деле гораздо больше. Оказывается, во время бомбардировки Кремля большевиками один снаряд пробил купол, проник вовнутрь и здесь разорвался, повредив одно большое паникадило, несколько лампад и выбив все стекла в окнах. Все святыни уцелели. Я заслушался дивного синодального пения. Особенно хорошо были исполнены «Да исправится молитва моя» и «Ныне силы небесные». Во время причастного стиха я вошел в алтарь и там от служившего литургию священника узнал, что сегодня ни в коем случае я не смогу получить ни святое миро, ни частицы святых мощей. Выходя из Успенского собора вместе с певчими, я узнал от них, что богослужение в соборе совершается ежедневно, что полный Синодальный хор поет лишь по воскресным и праздничным дням, что посещать богослужение в соборе можно лишь с особого разрешения коменданта Кремля». (Протопресвитер Георгий Голубцов. Поездка на Всероссийский церковный собор. Дневник // Российская Церковь в годы революции. М., 1996, с. 256–268.)
Об обстановке, в которой происходило празднование Пасхи в Москве в 1918 году, читаем в дневнике Н. П. Окунева (запись от 15/28 апреля 1918, Вербное Воскресение):
«...Красная площадь заселена теперь убиенными революционерами, самый же Кремль заперт и строго охраняется современными жандармами – латышами, ибо там «сами» живут, то есть Ленин, Свердлов и их опричнина. Невероятно даже, чтобы Кремль был открыт и в наступающие дни Страстной и Пасхальной недель. Устраивая праздник 1-го мая в среду Страстной недели, народные вожди хотят отучить русский народ «от предрассудков», то есть от поклонения христианскому культу...» (Окунев Н. П. Дневник москвича. Париж, 1990, с. 173).
Запись от 20 апреля/3 мая:
«В Страстную Среду 18 апреля по приказу правителей Москва и вся верноподданная большевикам Русь праздновала Первое мая, нисколько не смущаясь совпадением пролетарского праздника со днем скорби о Христе. Решили, что печальный колокольный перезвон не помешает звукам марсельезы и интернационала, а на то, что такое обстоятельство мешало богомолению верующих, – плюнули, конечно. <...>
Первого мая к вечеру огромное красное полотнище, закрывавшее изъяны, причиненные Никольским воротам во время октябрьского переворота, когда была разбита икона Николая Чудотворца, порывом ветра было разорвано, и таким образом ясно обнажилось как раз то место, где скрывался под красной тканью образ. На другой день собралась к воротам огромная толпа людей, видевшая в этом чудо. По требованию верующих был совершен из Казанского собора к Никольским воротам крестный ход и там отслужен молебен. А затем явились конные стражники и разогнали всех, сделав даже несколько выстрелов, к счастью в воздух» (с. 174–176).
См. также комментарии к публикации писем А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову в настоящем томе.
О событиях осени 1917 года см. подробнее в публикующихся в данном сборнике письмах А. Д. Кастальского к X. Н. Гроздову.
О пении Данилина с разными хорами в московских храмах в послереволюционные годы рассказывается в воспоминаниях М. Крыловой и М. Тельтевской, помещенных в сб. «Н. М. Данилин». Дополнительные сведения по этому вопросу дает Н. П. Окунев.
Запись от 12/25 сентября 1919 года.
«Сегодня вечером принимал» опиум», то есть был за всенощной в храме Параскевы Пятницы в Охотном Ряду. По случаю завтрашнего праздника Обновления Храма Воскресения Христова в Иерусалиме всенощная шла «по пасхальному чину“... Служба была на редкость благолепной. Храм переполнен, служит епископ Трифон, очень популярный в Москве, но поистине отрекшийся от мира. <...> Так шло к пышной церковной обстановке его иконописное лицо, и к тому же все его возгласы и чтение Св. Евангелия были проникновенны и западали в души молящихся. У него несильный, но приятный голос и умение им пользоваться. Сослужил ему местный, должно быть, священник, молодой еще, но уже «благообразный», с истовым отношением к своей, по службе, задаче. У него также прекрасный голос – тенор. Диаконствовал тоже «мастер своего дела» – иеродиакон или архидиакон, которого я видал раньше в Сретенском монастыре. <...> А хор – по нынешним временам – прямо замечательный. Так и должно казаться, потому что им управляет прославленный знаток церковного пения – Н. М. Данилин, бывший регент бывшего несравненного Синодального хора.
Всенощная началась троекратным пением «Христос воскресе», и сразу получилось настроение. А когда в конце Великого входа хор грянул «Да воскреснет Бог» (Пасху – Смоленского), у меня волос зашевелился. Несказанно хорошо и величаво!» (с. 292).
Запись от 15/28 декабря 1919 года:
«Пошел в Охотный Ряд к Параскеве Пятнице, где поют «остатки» Синодального хора под управлением Н. М. Данилина. Чудный хор, замечательный регент. Поэтому храм полон, и в нем даже тепло; топят, значит, что теперь в церквах редкость» (с. 311).
Запись от 24 декабря/6 января 1920 года:
«В прошлое воскресенье после обедни настоятель храма Гребневской Божией Матери обратился к прихожанам со слезною просьбой принять личное участие в топке железной печки: «Дрова, – говорит, – есть, а топить некому». И тут батюшка упрекнул нас в нашем показном благочестии: вы, де, ставите свечки и кладете поклоны, а когда храм холоден, сыр, запылен – вас нет, вы не хотите здесь проявить «трудовой повинности" и т. д. Одним словом, сказал правильно, что называется, не в бровь, а в глаз. В частности, каюсь, и в мой, – что я и доказал на деле, пойдя сегодня на всенощную к Прасковье Пятнице, где, надо полагать, есть не только дрова, но и истопники, потому что там поет хор под управлением Данилина и туда «публика» валом валит. Пение сегодня до того было замечательно, что хотелось временами плакать, а временами – аплодировать» (с. 313– 314).
Запись от 30 января/12 февраля 1922 года:
Прочитал в газетах траурное объявление, что «заупокойная литургия по усопшему артисту и режиссеру государственных театров Петру Сергеевичу Оленину имеет быть в храме Святого Георгия что на Б. Дмитровке (против театра бывшего Зимина), в субботу сего 11 февраля ровно в 10 ч. утра». <...> Я был у Георгия. Полна церковь артистической братией (и сестрами). Видел, между прочим, Станиславского, Москвина, С. И. Зимина и Трубина. Почему-то не артисты пели, а хор Данилина под его управлением. Пел замечательно. Еще бы, ведь и «во гробе спящий», и его товарищи такие знатоки пения, каких Данилин и в Охотном ряду у Пятницы не увидит» (с. 519–520).
В январе 1919 года в Москве начали действовать два хоровых коллектива: 1-й государственный хор под управлением И. Юхова и 2-й государственный хор под управлением П. Чеснокова. В мае того же года был создан Государственный объединенный хор с тремя группами: одной из них, академической (то есть коллективом Хоровой академии), руководил Данилин, при ней состояли также Голованов и Владимир Степанов; две другие группы возглавляли П. Чесноков и И. Юхов. В ноябре того же года МУЗО Нарком проса распустило вторую и академическую группы; действующей осталась только группа И. Юхова. Летом того же года Данилин стал хормейстером в Большом театре.
История создания Краснознаменного ансамбля несколько иначе изложена в «Воспоминаниях» С. Н. Василенко, у которого А. В. Александров занимался композицией в Московской консерватории (служа одновременно регентом архиерейского хора в Твери); кроме композиции, Александров обучался как певец и окончил консерваторию с большой серебряной медалью.
«Много лет спустя, – пишет Василенко, – уже в двадцатых годах, я встретил его, спросил, как ему живется. «Плохо, очень плохо, Сергей Никифорович, – отвечал он. – <...> Заведую хором красноармейцев в Доме Красной Армии... Да ведь хор то всего из двенадцати человек, и получаю я просто чепуху...» – «А ты постарайся, доведи хор хоть до пятидесяти человек...» Саша с величайшими усилиями довел его до шестидесяти человек и показал К. Е. Ворошилову... И возник знаменитый Красноармейский ансамбль, о дальнейшем процветании которого нет нужды говорить» (Василенко С. Н. Воспоминания, с. 277)
Распространение практики духовных концертов в храмах и «концертного» характера служб подтверждается афишами тех лет, сохранившимися в некотором количестве, например, в собраниях Музея Глинки и Музея-квартиры Голованова. По объяснению Н. П. Окунева, это явление первоначально было связано с труднейшим материальным положением церкви и ее служителей в первые послереволюционные годы, когда в рядовых храмах, часто нетопленых и неосвещенных, почти не было ни прихожан, ни дьяконов, ни псаломщиков и певчих. «Правда, – пишет Окунев в октябре 1919 года, – архиерейская или патриаршая служба и теперь привлекает большую толпу, но при каких условиях! Расклеиваются своего рода зазывательные афиши: тогда-то, там-то будет служить такой-то митрополит с таким-то протодьяконом, с таким-то хором, с такими-то солистами, с таким-то проповедником-профессором, и что будет совершаться не обыкновенное служение, а вот эдакое – или покаянное, или древнее, и что будут исполнены песнопения таких-то композиторов... Идет ли это к храму Божию, куда верующие должны стремиться в силу своей душевной потребности, а не какой-либо зрительной или слуховой! Но что же делать заботящимся о поддержании если не веры Христовой, то церковных сооружений? Откуда брать средства для поддержания их и существования духовенства? Церковь от государства отделена – это еще полгоря; но люди-то государства отделились от нее – вот в чем безмерное горе!» (с. 296).
В подтверждение своей мысли Окунев описывает всенощную в церкви Гребневской Божией Матери (на Лубянской площади), которую служил популярный ученый священник Калиновский, а пел «художественный квинтет одного из талантливейших современных духовных композиторов П. Г. Чеснокова с его личным участием». «Служили еще трое самых голосистых протодьяконов: Розов, Китаев и Солнцев, соревнуясь друг перед другом в силе и красоте голосов, – точно «состязание певцов» из «Тангейзера»... Розов не только первенствовал в диаконской службе, но еще участвовал и в квинтете, причем пел соло в «Блажен муж», «Ныне отпущаеши“ и «Хвалите»... Он же читал и Шестопсалмие, читал так выразительно, внятно и задушевно, что его чтение задержало в церкви всех тех, кто в этот момент выходит на улицу «покурить"» (с. 306–307).
Еще одна, такого же рода «особенная служба» описана Окуневым в дневнике от 16/29 ноября 1920 года:
«В 5.30 вечера отправился в свой приходской храм Спаса в Пушкарях, где была совершена торжественная всенощная по чину Успенского собора, совершена подлинными «соборянами» – Любимовым, Пшеничниковым, Розовым, Румянцевым и другими. Пел прекрасный хор под управлением знаменитого регента и выдающегося духовного композитора Павла Чеснокова. Розов исполнил соло «Блажен муж», «Ныне отпущаеши», чесноковскую ектению и его новое произведение «Спаси, Боже, люди Твоя» (исполняемое после Евангелия). <...> Одним словом, это больше походило на концерт, чем на богослужение. Народу сошлось необыкновенно много, в церковь не вошло и половины желающих...» (с. 400).
Прошло некоторое время, борьба с религией приняла еще более жесткие формы. При этом церкви вновь наполнились молящимися, а отмеченная выше тенденция продолжала развиваться, находя исход в форме духовных концертов. В начале 20-х годов уже стало ясно, что советская власть – надолго и гонения на церковь будут усугубляться. Это вызывало у москвичей чувства, подобные тем, о которых пишет Окунев в мае 1921 года:
«Не могу простить себе, что я в те времена, когда существовали громадные хора, когда в соборах и монастырях совершались торжественнейшие служения, – любил все это как-то вскользь, мимоходом, между делом (а вернее бездельем). Давно надо было поставить все это в ряд наипервейшей духовной услады, и тогда от множества житейских промахов и ошибок избавился бы. А теперь так грустно все это видеть и слышать! точно внимаешь последним словам и воздыханиям близкого-близкого, дорогого и милого человека, уходящего туда, «аможе вси человецы пойдем»!» (с. 463).
Отсюда вполне понятна популярность у москвичей духовных концертов: она порождалась тяготами и разочарованиями повседневности, и предчувствием скорого исчезновения «церковной красоты».
История, рассказанная мемуаристом, подтверждается сообщением журнала «Хоровое и регентское дело»:
«11 апреля, в Великий четверг, в собор Христа Спасителя были приглашены для пения не положенного по уставу «Разбойника благоразумного» оперные певцы из Императорского театра. Когда окончилось пение, народ с шумом, – вынося насильственно и тех, которые пришли молиться, – двинулся из собора. Владыка [митрополит Макарий] прервал богослужение и обратился со словами к бушующей толпе (не богомольцев, конечно, а зрителей). Но толпа гласа владычного не слышала. Не забудьте, что это творится уже 16-й год!» (Хоровое и регентское дело, 1913, № б).
После революции В. Р. Петров продолжил как свое пение в храмах – в службах и в духовных концертах, так и солирование в песнопении «Разбойника благоразумного». Например, в дневнике Н. П. Окунева, в записи от 28 апреля/ll мая 1921 года читаем:
«Бас Большого театра В. Р. Петров, еще давно прославившийся исполнением «Разбойника благоразумного», ухитрился в Четверг на Страстной, за всенощной, отпеть его в трех церквах, за что в общем стяжал себе полмиллиона рублей. Впрочем, извозчик, перевозивший его из церкви в церковь, взял с него 80 тысяч» (с. 450).
Яков Александрович Чмелев выдержал в Синодальном училище экзамен на звание регента частного хора 29 января 1913 года.
Наиболее известное и до сих пор сохраняющееся в церковном обиходе его произведение – рождественская стихира «Ликуют ангели» (опубликована в сборнике «Избранные песнопения к концерту Патриаршего хора под управлением В. С. Комарова». М., 1948).
Архив К. Н. Шведова был в 1985 году передан в ГЦММК имени Глинки (ф. 469).
После окончания училища Сергей Жаров попал на Южный фронт, где усердно служил в пулеметном взводе и, как говорится в его биографии, совершал пулеметчиком на тачанке чудеса храбрости, а в свободное время исполнял обязанности полкового регента. С Дона и Кубани остатки казачьего полка были вынуждены отступить в Крым, и в ноябре 1920 Жаров покинул Россию в составе третьей Донской дивизии, которая эвакуировалась на пароходах из Керчи в Турцию. Казаки были отправлены в лагерь Чилингир, где прожили несколько месяцев в очень тяжелых условиях. Начальник дивизии приказал собрать певцов и создать хор. В марте 1921-го произошло переселение казаков на остров Лемнос, где греческое духовенство уступило русским церковь для богослужения, и Жаров смог заняться своим прямым делом. Далее казаки попали в Болгарию, причем жаровский хор был оставлен при штабе казачьей дивизии. Регент и его певцы работали на лесопильном заводе и в других местах, а также пели в посольской церкви; наконец, их пригласили спеть духовный концерт в Софийском соборе, и с этого момента началась артистическая жизнь хора: летом 1923 года он выступил в Вене, а затем в Чехословакии, Швейцарии, Италии, Германии, Австралии и так далее.
До 1930 года основной резиденцией хора стал Берлин. Успехи казаков были грандиозны – за первые семь лет полторы тысячи концертов, и все при переполненных залах. В Копенгагене хор посетил вдовствующую императрицу Марию Федоровну, в Англии выступил в Виндзорском замке перед королем Георгом Пятым, во дворце вице-короля Индии пел вместе с Шаляпиным. На концертах хора бывали все виднейшие представители русской эмиграции, начиная с Сергея Васильевича Рахманинова, который дружески встретился с регентом и дал ему ряд советов, касавшихся приемов переложения хоровых партитур на однородный мужской состав.
Ввиду необходимости быть понятным аудитории разных стран Жаров обычно строил программы по смешанному принципу: отделение церковное, отделение народной песни и избранных произведений русской классики. Все – в специальных виртуозных обработках для мужского состава, которые делал сам Сергей Алексеевич, а также Константин Шведов и некоторые другие музыканты.
Жаров построил свой ансамбль (не более 30 человек) на новых принципах, и во многом оркестровых. Например, особый эффект достигался, когда половина хора пела с закрытыми, а другая – с открытыми ртами. Диапазон был расширен введением фальцетов, так что партия теноров поднималась до «ми» второй октавы, то есть мужской ансамбль практически мог воспроизводить звучность смешанного хора. Понятно, что для регента-«синодала» художественным идеалом оставался Синодальный хор, где партии альтов и сопрано пели мальчики и звуковое пространство было очень широким, но в то же время очень ровным, в известном смысле «оркестровым».
В 1930 году хор впервые посетил США, где пел во многих городах, в том числе в Нью-Йорке в Карнеги-Холле и на сцене Метрополитен Оперы. В 1936 году все певцы получили постоянные американские визы, а потом и гражданство. Вплоть до 80-х годов хор регулярно выступал в Соединенных Штатах, часто предпринимал и европейские турне; сделал много записей на пластинки. Состав певцов, конечно, менялся, но на своем месте неизменно оставался Сергей Алексеевич Жаров – он регентовал мастерски и в восемьдесят с лишним лет, как говорят, не потеряв ни на йоту своей живости, своего обаяния, только ему присущего магнетизма в общении с певцами и аудиторией.
Сергей Алексеевич Жаров умер в ночь с 5 на 6 октября 1985 года в Лейквуде, штат Нью-Джерси, на 89-м году жизни.
В нашем распоряжении находится материал, составленный одним из поклонников искусства Н. С. Данилова – В. Ф. Постниковым. Это – датированный 1978 годом «Перечень композиторов с указанием песнопений, отражающий работу регента Н. С. Данилова в московских храмах (св. Трифона мученика, св. мучеников Адриана и Наталии, Всех Святых, что на Соколе) в период с 1930 по 1966 год». Мы предполагаем полностью опубликовать «Перечень», в котором приводится более полусотни авторов и несколько сотен произведений, в следующем томе, а здесь ограничимся краткой характеристикой регента, которую дает В. Ф. Постников: она подтверждает и уточняет высказывания А. П. Смирнова.
«Николай Сергеевич Данилов – известный московский регент – родился в Москве, получил общее и специальное музыкальное образование в Московском Синодальном училище, которое окончил в 1916 году. Данилов пел в Синодальном хоре под руководством великих мастеров церковно-певческого искусства – В. С. Орлова, А. Д. Кастальского, Н. М. Данилина.
Данилов начал управлять в храмах Москвы с 1922 года и вскоре, обладая незаурядными музыкальными способностями, вырос в квалифицированного дирижера, он отлично знал церковный устав, глубоко и тонко понимал музыку. Николай Сергеевич стал продолжателем певческих традиций Московского Успенского собора и прославленного Синодального хора. Хоры под его управлением исполняли в церквах главным образом произведения выдающихся духовных композиторов-классиков конца XIX – начала XX века: Кастальского, Рахманинова, Чеснокова, Гречанинова, Калинникова и др.
Работу Данилова с хором Всесвятского храма, что на Соколе, следует считать расцветом его творческих сил; хор был отличный по количеству (свыше 30 человек) и качеству голосов, с разнообразным репертуаром.
К глубокому сожалению, с кончиной Николай Сергеевича Данилова (за месяц до своей смерти – в июне 1971 года – он перестал управлять хором в храме Нечаянной Радости в Марьиной роще) – живая связь с певческими традициями Успенского собора и Синодального хора прекратилась. <...>
Репертуар Данилова... включает значительную часть наследия Синодального хора и дополнен сочинениями, которые определяли время работы Данилова и его вкусы...»
Ведущее количественно место в репертуаре занимают композиции Кастальского и Чеснокова (по нескольку десятков), далее – Гречанинова, Калинникова, Шведова, Н. Толстякова, Никольского. Данилов исполнял также полные циклы литургии с музыкой Чайковского, Рахманинова, Ипполитова-Иванова, несколько частей Всенощной Рахманинова, ряд песнопений Римского-Корсакова, все композиции Смоленского, Данилина. Значительное место в репертуаре занимает и «церковная классика»: Бортнянский, Турчанинов, А. Ф. Львов, Г. Ф. Львовский, А. А. Архангельский.
24 декабря 1922 года Данилин с хором Большого театра дал в храме Христа Спасителя концерт, в программе которого находились сочинения Кастальского и Рахманинова. Последнее полное концертное исполнение в Москве Всенощного бдения Рахманинова было осуществлено другим синодалом – П. Г. Чесноковым, с Государственной капеллой в Большом зале консерватории в 1926 году.
Виктор Степанович Комаров (1893–1974) закончил Московское коммерческое училище на Зацепе и затем медицинский факультет Московского университета. Уже в училище он регентовал хором, певшим в храме этого учебного заведения. В 1915 году Комаров начал регентовать в храме Преподобного Сергия Радонежского на Рогожской заставе, где некоторое время хором руководил выпускник и педагог Синодального училища К. Н. Шведов. Его Комаров считал своим учителем, так же, как и других «синодалов», с которыми был хорошо знаком: Кастальского, Данилина, П. Чеснокова. После революции Комаров работал в разных московских храмах, но особенно часто принимал участие в службах св. патриарха Тихона в храме Сорока мучеников на Новоспасской площади (вместе с архидиаконом Розовым), а впоследствии в службах епископа (позже архиепископа) Иллариона (Троицкого) в храме св. Иоакима и Анны на Якиманке (вместе с протодиаконом Михаилом Холмогоровым). В 1930-х Комаров перешел в храм Троицы на Грязех, где до 1914 года хором руководил Павел Чесноков. Хор под управлением Комарова пел первую, после восстановления патриаршества, литургию в Богоявленском кафедральном соборе 3 сентября 1943 года. В этом храме Комаров и руководил хором до конца своей жизни, приняв участие в столь важных событиях церковной жизни, как интронизация патриархов Сергия и Алексия, празднование 500-летия автокефалии Русской православной церкви и т. д. Комаровский хор пел также в Крестовом храме Московской патриархии.
Патриарший хор под управлением Комарова несколько раз – в 1945, 1948 и 1957 – давал открытые концерты. С 1968 года Комаров вместе с Н. С. Даниловым вел регентский кружок в Московской духовной академии. Он является также автором ряда духовно-музыкальных сочинений.
Наибольший резонанс имел концерт, данный хором в Большом зале консерватории 6 февраля 1945 года, по случаю интронизации патриарха Алексия – это был первый духовный концерт после долгого перерыва. Концерт состоял из двух хоровых отделений и одного симфонического. Завершающее симфоническое отделение открывалось чтением Приказа Верховного Главнокомандующего, в котором говорилось о победах на фронте, затем прозвучал Гимн Советского Союза и увертюра Чайковского «1812» под управлением Н. С. Голованова. В первых двух отделениях Патриарший хор исполнил большую программу, состоявшую из шедевров русской духовной музыки: «С нами Бог», Символ веры, «Христос воскресе» Кастальского, «Ныне отпущаеши» Рахманинова, «Благослови, душе моя», «Разбойника благоразумного» и «Ангел вопияше» Чеснокова (в последнем песнопении солировала Н. Д. Шпиллер), «Покаяния отверзи» Веделя, «Помышляю день страшный» Архангельского, «Воскресни, Боже» Турчанинова, «Воспойте, людие» Бортнянского, «Сей день» Смоленского, «О Тебе радуется» Данилина.
Николай Васильевич Матвеев родился в 1909 году в Вильно. В 1918 году семья поселилась в Сергиевом Посаде, и мальчик начал петь в хоре Лавры. Впоследствии Матвеев обучался на дирижерско-хоровом факультете Московской консерватории и Гнесинского института. В 1936 закончил Архитектурный институт. Регентовать начал в 1927 году в Лавре; в 1945–1947 – регент церкви в Тарасовке (Ярославской ж. д.). Весной 1948 года он был назначен регентом храма Всех Скорбящих Радости на Ордынке, где и трудился до конца своих дней; с 1970 года руководил также регентским классом Московской духовной академии.
Хор под управлением Матвеева записал несколько пластинок (1969–1971), но особую известность приобрел своими исполнениями за службой шедевров русской духовной музыки – Литургии Чайковского и Всенощного бдения Рахманинова. С 1950-х годов эти произведения исполнялись в храме Всех Скорбящих ежегодно – в годовщины рождения Рахманинова и кончины Чайковского (таким образом, Матвеев восстановил традицию ежегодного исполнения Литургии Чайковского, поддерживавшуюся до революции Синодальным хором в Москве и хором Александро- Невской лавры в Петербурге).
В отличие от утверждения А. П. Смирнова, сам Матвеев подчеркивал свое уважение к традициям Синодального хора и считал себя их продолжателем. Он полагал также, что исполнение Всенощного бдения Рахманинова за службой хором под его управлением в 1957 году явилось настоящей премьерой сочинения.
Кстати, по мнению Матвеева, основной причиной, по которой исполнение произведения Рахманинова за службой Синодальным хором оказывалось невозможным, являлся устав Успенского собора, в соответствии с которым некоторые песнопения исполнялись обиходным напевом на два клироса попеременно («Богородице Дево», тропари на непорочных, «Величит душа моя Господа»), а некоторые не пелись, а только читались («Приидите, поклонимся», «Ныне отпущаеши», славословие перед началом Шестопсалмия).
Традиция преподавания сольфеджио в младших классах регентами велась еще со времен Орлова и была связана, как и пишет А. П. Смирнов, с необходимостью подготовки мальчиков к пению в хоре. Сольфеджио преподавали, в хронологической последовательности: Орлов, Кастальский, Данилин, Н. Толстяков, В. Степанов.
По воспоминаниям бывших учеников, на этих уроках воспитывался специфический хоровой слух: например, пояснялась разница между интервалом ля – соль диез и интервалом ля – ля бемоль, то есть выстраивалась система ладовых тяготений.
К 300-летию дома Романовых М. М. Ипполитовым-Ивановым было написано несколько сочинений для хора, которые составили ор. 54: Тропарь преподобному Дионисию, Тропарь Богородице Казанской, Духовный стих о патриархе Гермогене, Величание князю Пожарскому, гражданину Минину и сподвижникам их, кантата «О воцарении Дома Романовых», Гимн-марш 1812 года. Все эти сочинения (напечатанные издательством П. Юргенсона) предполагали два варианта исполнения: четырехголосным смешанным хором а cappella или двухголосным женским или детским хором с сопровождением фортепиано (для кантаты имелась и оркестровая партитура). Среди материалов Синодального училища, сохранившихся в библиотеке Московской консерватории, имеется несколько печатных экземпляров кантаты, о которой пишет А. П. Смирнов. Ее полное название: «О воцарении Дома Романовых. Слова в духе народных сказаний В. Буслаева», соч. 54, № 6 (под именем Василия Буслаева скрывается, скорее всего, сам Ипполитов-Иванов).
Газета «Московский листок» от 17 ноября 1912 года напечатала официальное предписание следующего содержания: «В четверг, 21 февраля 1913 года, во всех институтах, гимназиях и других учебных заведениях должны быть совершены торжественные богослужения с провозглашением «Царского» многолетия, а также «вечной памяти» царю Михаилу Федоровичу. <...> Хорами учащихся должны быть исполнены: «Славься», «Боже, царя храни» и торжественная кантата, написанная к этому юбилею Ипполитовым-Ивановым. В настоящее время в учебных заведениях уже начали разучивать музыкальное произведение, посвященное предстоящему юбилею».
Предмет «чтение хоровой партитуры» был введен в училищный курс в 1898/99 учебном году, после утверждения нового устава училища (1897/98). В соответствии с новым планом распределения занятий чтение хоровой партитуры преподавалось в шестом-девятом классах; вел предмет Орлов. С 1905/06 учебного года его место занял Данилин. В это время преподавание предмета начиналось с четвертого класса.
Синодальный хор исполнял ряд сочинений А. А. Архангельского в концертных программах (например, «Хвалите Господа с небес» в концерте 8 ноября 1909 года). В литографированном сборнике песнопений Литургии, который вручался выпускникам училища и в котором отражен клиросный репертуар Синодального хора, представлен ряд сочинений Архангельского: Херувимская № 5, «Милость мира» № 4, «Милость мира» на заупокойной литургии (сборник 1909 года, сохранившийся в библиотеке Голованова).
В свои приезды в Москву Архангельский посещал Синодальное училище. Об этом свидетельствует, например, запись в Дневнике Смоленского от 7 мая 1891 года: « ...В два часа известный регент А. А. Архангельский слушал у нас Requiem Моцарта, и мы пропели ему с листа, полным хором «Милость мира» и евангельскую стихиру третьего гласа сочинения Войденова. Я, признаться, сам не ожидал такой выдержки от нашего хора и такой безукоризненной читки с листа» (л. 31). В январе 1903 года, когда в Петербурге праздновалось 25-летие творческой деятельности Архангельского, он был избран членом-сотрудником Наблюдательного совета при Синодальном училище (очевидно, на правах «почетного члена»). Кроме того, в начале 1906 года Архангельский был назначен главным инспектором при Синоде по устройству и инспектированию церковных хоров и в этом качестве тоже мог соприкасаться с деятельностью Синодального училища и хора.
В анкете члена Драмсоюза, которую Данилин заполнил в 1927 году, указано шесть духовных хоров. В нотной тетради, принадлежавшей ученику Данилина по Хоровой академии и консерватории С. П. Чупрову и полученной им от Данилина, имеется пять композиций: «0 Тебе радуется» греческого роспева, «Ныне отпущаеши», «Господи, спаси благочестивые...» и Трисвятое, «Буди имя Господне» и «Слава Тебе, Боже наш». Недостающее шестое произведение – «Господи, помилуй» на литии. В библиотеках московских регентов можно обнаружить еще несколько песнопений, приписываемых Данилину. Одно из них – степенна 7 гласа роспева Успенского собора – записана на пластинку Хором Троице-Сергиевой лавры под управлением архимандрита Матфея (Мормыля).
Автографы Данилина не сохранились, однако подлинность пяти песнопений из сборника Чупрова подтверждена подписью Николая Михайловича (см. также сб. «Н. М. Данилин». С. 10–11 и 137). Все произведения созданы, очевидно, в конце 1910-х – начале 1920-х годов.
Описываемый мемуаристом эпизод связан с подготовкой Виктором Степановичем Комаровым торжественного концерта в честь интронизации патриарха Алексия, который был проведен в Большом зале консерватории 6 февраля 1945 года. В программе, составленной из шедевров русской духовной музыки, от Бортнянского и Турчанинова до Кастальского и П. Чеснокова, нашлось место и для песнопения Данилина «О Тебе радуется». По всей видимости, это было первое концертное исполнение композиции Данилина (ранее его хоры звучали только на клиросе), и волею судьбы оно состоялось в день кончины музыканта. Как говорится в некрологе, написанном А. В. Ведерниковым, «он начал свою деятельность в этом мире с «Господи, помилуй» и перешел в вечность в тот самый час, когда Патриарший хор под управлением В. С. Комарова исполнял в Большом зале консерватории «О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь» в переложении покойного. Слушали это исполнение восточные патриархи, патриарх Московский и Всея Руси, весь состав Поместного собора Русской Православной Церкви» (Журнал Московской Патриархии, 1945, № 3).
Юрий Сахновский, весьма уважаемый в Москве композитор, дирижер и критик, член дирекции Московского отделения ИРМО, неоднократно выступал в газетах, где писал обзоры музыкальной жизни – «Курьер», «Русская правда», «Русское слово», – с рецензиями на духовные концерты, в том числе Синодального хора.
Ученик Смоленского по консерватории, Сахновский был связан с Синодальным хором и творчески, как автор духовных композиций. Известен отзыв Сахнов- ского о премьере Всенощного бдения Рахманинова; уже после революции, в 1918-м он опубликовал рецензию на духовный концерт хора И. И. Юхова в зале Благородного собрания (9 мая 1918 года), где, в числе прочего, исполнялись новые произведения П. Чеснокова («Благослови, душе моя, Господа» для трио с хором) и Голованова («Тебе поем» с соло, которое исполняла Нежданова).
Еще в конце 1912 года в московской газете «Утро России» появилась заметка, в которой сообщалось: «Сейчас С. В. Рахманинов работает над Всенощным бдением, в котором будут использованы древние русские обиходные роспевы. Партитура Всенощного бдения уже обещана для первого исполнения Синодальному хору» (Новое произведение С. В. Рахманинова // Утро России, 1912, б декабря).
Работа композитора над Литургией была завершена в августе 1910 года; Синодальный хор приступил к разучиванию произведения в последней декаде сентября того же года; в свет Литургия вышла весной следующего, 1911 года.
Нет сведений, работал ли Рахманинов над Всенощной в течение 1913 и 1914 годов. В списке сочинений, составленном композитором по просьбе Б. В. Асафьева в апреле 1917 года, Всенощная датируется январем-февралем 1915 года. То же самое говорит Рахманинов в беседе с О. фон Риземаном: «Я сочинил Всенощное бдение очень быстро: оно было закончено меньше чем за две недели» (Сергей Рахманинов. Воспоминания, записанные Оскаром фон Риземаном. М., 1992, с. 160). Синодальный хор сразу же приступил к разучиванию сочинения, премьера состоялась 10 марта. Рукопись Всенощной была передана в Российское музыкальное издательство 10 августа 1915 года; издание вышло в декабре того же года.
Фрагменты рецензий на концерты Синодального хора с исполнением Всенощной Рахманинова приведены в сборнике «Н. М. Данилин».
Причина отказа от оперных певцов, по словам бывшего «синодала» Н. Н. Белкина, состояла в том, что их голоса плохо сливались с хором, обнаруживая явное несоответствие певческих манер. Но существовала и иная, скрытая причина: в Синодальном хоре усилиями регентов был выработан свой строй (возможно, не совсем темперированный), в котором не могли свободно петь приглашенные певцы.
В недавнем прошлом (1902–1914) Н. Д. Кашкин был членом Наблюдательного совета; он нередко выступал в периодике с рецензиями на концерты Синодального хора.
О посещении Шаляпиным и Рахманиновым Синодального училища см. в комментариях к «Воспоминаниям» А. П. Смирнова.
Беседуя в 1930 году с Оскаром фон Риземаном, Рахманинов сказал: «Не стану отрицать, что первое исполнение [Всенощной] московским Синодальным хором подарило мне счастливый час удовлетворения». (Цит. изд., с. 160.)
Гораздо подробнее высказался композитор в интервью, взятом у него Лоллием Львовым, для периодического издания «Россия и славянство» (Париж, 1930, № 74 (2 апреля), с. 2). Приводим этот текст полностью, поскольку в России он до сих пор не был известен:
«С. В. Рахманинов приехал в Париж во вторник на Страстной. И на этой неделе он вместе со всеми нами был и на рю Дарю, и на Сергиевском подворье. Он, конечно, не мог не обратить особое внимание на то духовное пение, которое украшает наши храмы, и с особенной похвалой отзывается о Митрополичьем хоре Афонского.
«Здесь, – говорит он, – мы должны свято хранить наше исконное храмовое пение. Великая традиция не должна быть утеряна нами. Афонский и его хор делают большое дело в этом направлении. С тревогой думаешь теперь о судьбе нашего московского Синодального хора. Осталось ли что-нибудь от него? А какое замечательное, совершенно исключительное явление представлял он собою еще совсем недавно!»
Мое интервью кончено. Мне уже не приходится докучать С. В. Рахманинову своими назойливыми вопросами. И теперь я просто слушаю его собственный рассказ о том, что живо волнует его, и воспоминание, о чем особенно священно ему. Передо мною как бы раскрывается интереснейшая страница недавнего прошлого русской культуры.
«Московский Синодальный хор... Мало кому известный в широкой публике, но столь чтимый всеми причастными к русской духовной музыке. Его вдохновитель – Смоленский... Его чистый энтузиазм и его беззаветное служение древнерусскому роспеву... Его упорство в изучении крюковых записей и его строгость в деле созидания хорового пения. Замечательные достижения Синодального хора в годы управления им Орловым, который только лишь в 40-летнем возрасте впервые по требованию Смоленского приступил к изучению контрапункта».
С. В. Рахманинов, уходя в прошлое, с любовью говорит обо всем этом. Рассказывает о памятной панихиде по Скрябине в Никитском монастыре при участии Синодального хора под управлением Данилина. Рассказывает о своей работе над Всенощной и Литургией, начатой под живым обаянием Смоленского (Всенощная Рахманинова посвящена его памяти). Рассказывает о своем споре (в котором оказался не прав) с Данилиным по поводу одного тона в «Благослови, душе моя, Господа» – споре, разрешить который был призван 12-летний мальчуган, вызванный специально как эксперт – знаток обихода.
Отмечу из этого рассказа одну черту. Синодальный хор всего лишь раз выехал за границу, но после огромных успехов вернулся в Москву, отклонив приглашение в Америку. «Зачем? Для чего это нужно? Не стоит...» – таков был ответ Данилина на недоуменный по этому поводу вопрос С. В. Рахманинова. <...>
«Должно быть, сильным и великим народам в период их благополучия чуждо сознание народной гордости – или оно своеобразно"».
На рю Дарю находится старый, так называемый посольский, Александро-Невский собор, где и пел в ту пору Митрополичий хор под управлением весьма известного регента Николая Петровича Афонского. Сергиевское подворье было основано в 1923 году (на месте построек лютеранской кирхи и подсобных зданий, реквизированных после Первой мировой войны); кроме храма, на подворье располагался Богословский институт, в котором сотрудничали крупнейшие религиозные мыслители Русского Зарубежья. Церковная служба на подворье, и в частности пение, руководимое другим талантливым регентом – Михаилом Михайловичем Осоргиным, отличалась строгим соблюдением устава и следованием древним традициям.
Как явствует из других публикуемых в сборнике документов, отпевание Скрябина происходило не в Никитском монастыре, а в церкви Николая Чудотворца на Песках (Арбат). Что же касается приглашения в Америку, то оно действительно имело место в 1913 году. Прав Рахманинов и в том, что в полном составе Синодальный хор выезжал за границу всего один раз.
Место четвертого регента было предложено Голованову в июле 1910 года. Это решение было обусловлено важными переменами в жизни училища: кончиной директора С. Н. Кругликова, приходом на это место А. Д. Кастальского и перемещением Н. М. Данилина на должность регента.
Голованов пел в Синодальном хоре по 1905 год, Степанов – по 1904-й.
Из документов фонда Московской Синодальной конторы в ЦГАДА видно, что отделение Синодального хора периодически пело в церкви при Николаевском дворце с ноября 1907-го по 1909 год. Именно в эти годы Голованов занимался в восьмом и девятом классах училища. Однако фамилия регента в документах не упомянута. В связи с этим можно напомнить, что сразу после окончания Синодального училища Голованов взял на себя руководство смешанным хором (10 человек), который в течение двух лет, с 1 июля 1909-го по 1 июня 1911 года, пел за богослужениями в церкви Марфо-Мариинской обители. Об этом свидетельствует документ, выданный Конторой двора ее императорского высочества великой княгини Елизаветы Федоровны: в нем указано, что великая княгиня всегда оставалась довольна пением хора.
Мемуарист ошибается: на «Золотую доску» Синодального училища были занесены имена более десяти выпускников, а именно:
1893 – Алексей Петров,
1895 – Павел Чесноков,
1896 – Николай Ковин, Виктор Шевелев,
1897 – Николай Данилин,
1899 – Павел Толстяков, Александр Чесноков, Александр Ковин,
1900 – Михаил Климов,
1903– Николай Толстяков,
1904 – Иван Цымбал, Константин Шведов,
1910 – Василий Гребнев.
В юбилейном концерте Синодального хора из сочинений бывших учеников, который состоялся 6 ноября 1911 года в зале училища, были исполнены два эксапостилария Голованова – «Плотию уснув» и «Апостоли от конец света».
В 1918 году нотоиздательством Юргенсона были выпущены в свет четыре опуса духовных хоров Голованова: op. 1 – шесть песнопений для мужского хора, ор. 3 – шесть песнопений для смешанного хора, ор. 5 – пять песнопений для смешанного хора и ор. 9 – шесть песнопений для смешанного хора (изданы в 1918 году).
По предположению А. Т. Тевосяна, опубликовавшего список хоровых сочинений Голованова, в ор. 9 входят еще десять неопубликованных песнопений (с вариантами), которые датируются 1918–1939 годами. К послереволюционному периоду относятся четыре опуса духовных песнопений: ор. 36 для смешанного хора (десять номеров); ор. 37, «Песнопения Великого Поста и Страстной Седмицы» (четырнадцать номеров); ор. 38, «Из юношеских тетрадей» (шесть песнопений); ор. 39, Сюита «Всех Скорбящих Радосте» (тринадцать песнопений, причем последнее из них, посвященное святителю Трифону, датируется августом 1952 года, то есть кануном кончины Голованова).
Эти произведения до сих пор не исследованы и не исполнены. Приведенные выше данные носят предварительный характер (подробнее см. раздел «Николай Голованов» в сб. Музыкальные собрания «Наследие – 1992“», а также: Тевосян А. Загадки Голованова // Музыкальная жизнь, 1990, №№ 1:2).
Голованов не только сочинял духовную музыку в послереволюционный период, но и проводил духовные концерты, пока это было возможно, то есть до середины 1920-х годов. Так, в архиве дирижера сохранилась подборка афиш и программ, свидетельствующая, что в течение только 1919 года он с хором Большого театра дал семь концертов в разных храмах Москвы (солистами выступали А. В. Нежданова, В. Р. Петров, Д. А. Смирнов, К. В. Розов). 13 мая 1924 года он регентовал хором храма Николая Чудотворца в Ваганькове во время торжественной вечерни, которую служил протопресвитер Н. А. Любимов с местным причтом (см. также комментарий 35 в «Воспоминаниях» А. П. Смирнова) – возможно, это было одно из последних выступлений Голованова в роли церковного регента. Показательно также, что дирижером симфонического отделения духовного концерта, данного 6 февраля 1945 года в Большом зале консерватории в честь интронизации патриарха Алексия, стал именно Голованов (см. также комментарий 51 в «Воспоминаниях» А. П. Смирнова).
В архиве Голованова сохранилось письмо Виктора Сергеевича Калинникова от 18 декабря 1916 года:
«Милый Николай Семенович! От Вани [вероятно, имеется в виду Иван Тезавровский (1872–1941), соученик Василия Калинникова по Филармоническому училищу, фольклорист и контрабасист оркестра Большого театра] получил письмо, в котором он пишет мне о вашем желании посвятить мне несколько ваших хоров и, между прочим, говорит о том, что вас интересует мое отношение к этим вашим намерениям. Милый вы человек, не говоря уже о том, какое может быть иное, кроме хорошего, отношение к желанию вашему выразить мне добрые чувства вообще, настоящее ваше желание доставляет мне особое удовольствие еще и потому, что музыкант вы – с исключительными способностями, работы ваши талантливы и, посвящая их мне, вы очень трогаете мое музыкальное сердце. Кроме того, я не считаю вас для себя совсем чужим человеком, – вы когда-то учились у меня, – почему ваши добрые чувства ко мне приятно щекочут и мое преподавательское сердце. Как видите, кроме благодарности к вам за ваше намерение я ничего иного не могу чувствовать, и мысль о каком-то «соизволении» с моей стороны может быть вам внушена только вашей исключительной деликатностью.
Благодарю вас очень, и, если уж вам это так нужно, обеими руками благословляю на сей приятный для меня акт.
Ваш В. Калинников» (Музей-квартира Н. С. Голованова, архивный фонд, № 4394/1.)
В соответствии с этим письмом, Голованов при издании своих духовных хоров ор. 9 посвятил два из них, «Отче наш» и «Ныне силы небесные», Виктору Сергеевичу Калинникову, своему учителю по Синодальному училищу и композитору, духовные хоры которого Голованов как регент исполнял в соборе и включал в концертные программы.
Премьера Литургии Рахманинова состоялась 25 ноября 1910 года, через девять месяцев работы хора с новым главным регентом – Данилиным. Затем исполнение под управлением Данилина было повторено 16 и 21 декабря. Голованов впервые продирижировал сочинением 28 января 1911 года.
Отец Степанова, Павел Акимович, дирижировавший в Новочеркасске еще и войсковым хором, отдал сына в Синодальное училище и хор в 1899 году. По рассказам Н. В. Орловой, дочери В. С. Орлова, Володя в первое время сильно тосковал по дому, и жена Орлова Елена Николаевна иногда брала его к себе в семью. Постепенно он привык к училищу и сильно привязался к Василию Сергеевичу. Впоследствии Степанов стал автором монографии об Орлове.
Премьера Второй литургии Гречанинова состоялась 2 марта 1903 года в Москве, пел хор Л. С. Васильева. Поскольку Степанов в связи с мутацией голоса перестал петь в 1904 году, речь может идти о концертах (или службах) 1903 – начала 1904 года.
Премьера Всенощной Гречанинова была поручена Голованову, поскольку осенью этого года (с сентября по ноябрь) Данилин находился на лечении в Крыму.
Премьера Всенощного бдения, соч. 59 Гречанинова состоялась 18 ноября 1912 года, почти одновременно с премьерой другого крупного хорового цикла этого композитора – Страстной Седмицы в исполнении известного частного хора Л. С. Васильева (16 ноября, под управлением автора). Оба произведения были неоднозначно оценены критикой, в особенности Всенощное бдение. Не пощадили рецензенты и Голованова. Так, М. Багриновский в «Утре России», рассуждая о чрезмерной трудности хоровой партитуры Гречанинова, ряд недостатков исполнения отнес к неопытности регента: «Безукоризненная обычно интонация хора на этот раз частенько была сомнительной. <...> Голоса звучали неровно. <...> Дирижировал, к сожалению, не постоянный регент Синодального хора, талантливый г. Данилин, а некто неизвестный, фамилия которого предусмотрительно не была обозначена в афишах, благодаря чему публика осталась в неведении, кого она должна благодарить за доставленное неудовольствие. Таинственный дирижер больше занимался пластикой, чем управлял хором. Вероятно, поэтому исполнение Всенощной было какое-то странное. Прежде всего отмечалась перегруженность в нюансах. Нужно, не нужно, а нюансы делались. Это утомляло и раздражало. Кроме того, сами нюансы были далеки от художественности. Так, например, в № 4 («Богородице Дево“) слово «яко“ было спето так: «я“ – громовое fortissimo, а слог «ко“ – pianissimo. <...> И подобное музыкальное кривлянье происходило весь вечер» (Багриновский М. В концертах // Утро России, 1912, 20 ноября).
Впечатления критика подтверждают то, что говорит А. П. Смирнов об интонационных трудностях при разучивании гречаниновской Всенощной, а также о многочисленных замечаниях, которые делал хору молодой регент. Очевидно, Голованов пытался сформировать свой стиль интерпретации, отличающийся от данилинского; понятно также, что это могло получиться не сразу.
По некоторым данным, цикл Гречанинова исполнялся Синодальным хором еще один раз – 16 декабря 1912 года; об исполнении отдельных его частей в концертах или за службами ничего не известно.
В 1913 году у Голованова произошел конфликт с певчим Калугиным. На грубость регента Калугин ответил: «Что это вы, Николай Семенович, жандармские приемы здесь применяете». Голованов растерялся и ушел со спевки. Калугину же пришлось в конце концов извиниться перед регентом.
Другая конфликтная ситуация сложилась в апреле 1916 года во время богослужения в Успенском соборе. Протопресвитер Н. А. Любимов в письме к прокурору Ф. П. Степанову от 16 апреля сообщал: «В понедельник за литургией Преждеосвященных Даров певчими Синодального хора (под управлением Голованова) пропето было только три стихиры, с повторением каждой до трех раз, вместо положенных шести стихир, из которых первые четыре положено петь по два раза. То же почти повторилось в среду за литургией, совершенной архиерейским служением: певчие под управлением Голованова пропели только первые три стихиры, каждую по три раза, вместо положенных в этот день девяти стихир. Кроме того, певчие упорно хранили молчание во время пения «Свете тихий» при входе архиерея в алтарь. Объяснение Голованова было маловразумительно. За все время моего служения в соборе – это первый случай молчания певчих в сие время – при пении входного «Свете тихий», всегда исполнявшегося одним и тем же напевом, как священнослужащими, так и хором (также было это и в четверг, и в первый день Пасхи). В понедельник Святой Пасхи певчие под управлением Голованова с самого начала полунощницы обнаружили стремление к такому же поспешному и прямо неблагоговейному пению (слов не разобрать, стали даже прямо пропускать – вместо трех раз «Воскресение Христово видевше» пропето только единожды). О. сакелларий Пшеничников вышел к певчим из алтаря и просил их петь неспешно и не делать пропусков (пели все равно быстро и с пропусками – на четвертой песни канона «Богоотец убо Давид», на восьмой – «Яко воистину священная», на девятой – оба богородична, эксапостиларий «Плотию уснув» совсем не пели). Во время пения первого часа просил Голованова взойти ко мне в алтарь, он же заявил: «Не пойду». Пример Голованова, видимо, заразителен – певчие при начале литургии в тот же понедельник уже без всякого отдельного регента стали невозможно частить антифоны Пасхи. <...> [Я сказал, что] попрошу их совсем замолчать и заставлю петь на левом клиросе одного дежурного о. диакона всю литургию». В ответе Степанова сказано, что ни сокращение стихир или канона, ни поспешность в пении совершенно недопустимы в Успенском соборе, что старшему регенту Синодального хора Голованову в соответствии с параграфом 42 устава училища и хора объявлен строгий выговор (ЦГАДА, ф. 1183, оп. 972, № 10)
Из рассказа «синодала» И. М. Смыслова: «Я как библиотекарь хора накануне службы шел на квартиру Данилина. Дверь отворяла мать Николая Михайловича и громко произносила: «Смыслов здесь». Появлялся Данилин и тут же писал на бумажке репертуар предстоящей службы. Я брал бумажку и шел к заведующему певческой библиотекой Н. Н. Толстякову, который и подбирал требуемые ноты».
Первый общедоступный дневной симфонический концерт при участии Оркестра Московской консерватории под управлением Голованова состоялся 5 декабря 1926 года, и вступительное слово перед программой, состоявшей из шедевров русской классики (Бородин, Мусоргский, Лядов, Глазунов, Римский-Корсаков), произносил нарком А. В. Луначарский. В следующем сезоне было объявлено два абонемента консерваторского оркестра по четыре концерта в каждом – с русскими и зарубежными программами. Всеми концертами дирижировал Голованов, солистами выступали крупнейшие музыканты – А. В. Нежданова, Н. А. Обухова, Г. Р. Гинзбург, К. Н. Игумнов, А. Б. Гольденвейзер, А. Ф. Гедике; в одной из программ принял участие хор под управлением П. Г. Чеснокова. Та же схема из двух абонементов по четыре концерта была повторена в сезоне 1928/29, и кроме того, консерваторский оркестр дал специальные концерты к 35-летию со дня смерти Чайковского и неоднократно (как и в предыдущем сезоне) повторял свои программы в разных рабочих клубах и прочих аудиториях.
До начала «головановщины» рецензии на выступления консерваторского оркестра были восторженными. Так, С. Чемоданов в «Известиях» писал, что налицо «большая зрелость молодого коллектива и его право на большие дерзания» (24 декабря 1927 года); Г. Поляновский в «Труде» подчеркивал «общеобразовательную цель» составленных Головановым программ и характеризовал общедоступные консерваторские абонементы как «экскурсию по важнейшим этапам музыкального развития» (февраль 1928 года).
Мемуарист весьма бегло, но по сути верно передает содержание явления, получившего наименование «головановщина». Здесь не место для подробного его анализа, но, поскольку важные для понимания личности Голованова (а также и личности мемуариста) события почти не освещались в современных изданиях, мы дадим хотя бы краткий их обзор.
В конце марта – начале апреля 1928 года в ряде московских газет появились статьи (обычно без подписи), в которых против Голованова как дирижера Большого театра был выдвинут ряд серьезных обвинений. Так, в редакционной статье «Труда» от 30 марта 1928 года можно прочесть: «...Говорят об антисемитских выходках дирижера БТ гр. Голованова, который позволил себе в присутствии некоторых работников театра несколько «не совсем уместных» в советском театре фраз по отношению к работникам-евреям. Так, означенный дирижер усомнился, стоит ли писать музыку на либретто оперы, автор которого еврей. <...> Не так давно при обсуждении вопроса, кому дирижировать оперой «Борис Годунов», тот же Голованов протестовал против того, чтобы «русской оперной классикой дирижировал дирижер из нацменьшинств"» (имелся в виду дирижер Арий Пазовский). В публикации на ту же тему в «Вечерней Москве» от 4 апреля (носящей, кстати, издевательское название «В невидимом граде Китеже») упомянут С. Н. Василенко, который якобы пересказал либреттисту своей оперы «Сын Солнца» М. П. Гальперину приведенное выше мнение Голованова; здесь же появляется сам термин «головановщина» и еще один ее мотив – самоубийство скрипача оркестра Крейна (в прошлом преподавателя Синодального училища, участника трио, регулярно выступавшего в училищном зале), инспирированное якобы издевательствами дирижера. Из последующих газетных публикаций мы узнаем также имя певицы Сориной, не принятой Головановым в Большой театр ввиду профессиональной несостоятельности и впоследствии добившейся своего с помощью разных общественных комиссий.
В заявлении Василенко, поданном в местком Большого театра, говорилось: «Передавая Гальперину отрицательное мнение Голованова о его либретто, я мог применить такие фразы, каких в действительности могло не быть, ибо я находился в состоянии повышенной нервности, почти невменяемости». Опера «Сын Солнца» на сюжет из эпохи боксерского восстания в Китае была, как и пишет мемуарист, через год была поставлена во 2-м ГАТОБе, и либретто ее было признано критикой ходульным и слащавым; гораздо раньше, 1 апреля 1928 года, то есть в самом начале «головановщины», «Китайская сюита» из оперы была с успехом сыграна в консерваторском абонементе Голованова – любимого ученика и сотрудника Василенко с дореволюционных времен.
Дальше антиголовановская компания приобрела обвальный характер, в нее включились десятки изданий, и продолжалось все это около двух лет. Немало было и общественных демонстраций. Так, уже 4 апреля на представлении «Царской невесты» в Экспериментальном театре при появлении Голованова за пультом из публики раздались крики: «Вон! Долой черносотенца!» Концерт в Большом зале консерватории, о котором вспоминает мемуарист, состоялся 30 апреля 1928 года: в его программе стояли Вторая симфония Скрябина, сюита из оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам» и фрагменты из балета «Жар-Птица» Стравинского; по корреспонденции «Комсомольской правды» от 10 мая, «при появлении Голованова раздались крики «долой» и свистки. Очевидно, по предварительному уговору, оркестр неожиданно заиграл туш». Имелись и демонстрации поддержки Голованову со стороны московской интеллигенции, злобно откомментированные «пролетарскими» газетами.
Что касается А. В. Луначарского, то он действительно не выступил на концерте оркестра под управлением Голованова – но не консерваторского, а филармонического – на вечере 12 апреля, посвященном Д. В. Стасову. Однако в целом позиция Луначарского по вопросу о «головановщине» была сдержанной: он считал все дело «чрезмерно преувеличенным» и «вредным по существу». Горячо поддержал Голованова Л. В. Собинов, обратившийся в редакцию «Правды» с письмом, в котором, в частности, говорилось: «Когда я читал в отчетах жалобы артистов-солистов, то... некоторые изливали свою горечь на театральные обиды, полученные, вероятно, задолго до поступления Голованова в Большой театр. <...> Эти считающие себя «пасынками“ артисты в своих окончательных выводах забывают об интересах Большого театра, а личные артистические данные, естественно, переоценивают. <...> Голованов... только и делал в Большом театре, что добивался от работников его дисциплины, подъема трудовой энергии и художественных достижений» (23 мая 1928 года). В следующих своих публикациях «Правда» грубо одернула великого артиста, который совершенно справедливо указал на подоплеку происходящего.
Мемуарист не ошибается, приписывая примиряющую роль М. И. Калинину; на встрече в газете «Комсомольская правда» 20 мая он говорил, в частности: «Пишут: Большой театр – это, де, клака, это – самый отсталый театр. Ну, а вот вам пример: сегодня Калинин пришел и целый час вас дожидался, а я знаю, что к девяти часам, к началу «Красного мака», вы все придете... Значит, в том, что вы собирались разнести, в том, что вы бьете, в этом есть еще очень много ценного и хорошего» (Известия, 1928, 20 мая).
В течение апреля в Большом работала правительственная комиссия, которая пришла к выводу о неблагополучном положении в театре и необходимости его реорганизации. Относительно Голованова рекомендовалось освободить его от работы в Большом, но с тем, чтобы привлечь снова после реорганизации. Вместе с Головановым из театра ушли поддерживавшие его художник Ф. Ф. Федоровский и режиссер В. А. Лосский; уволено было еще около сотни сотрудников.
Не успела улечься первая волна «головановщины», как поднялась вторая, связанная с консерваторией. 16 сентября того же 1928 года «Правда» выступила с редакционной статьей под названием «В консерватории неблагополучно», где утверждалось, что налицо «специальная концентрация правых в консерватории, в течение последнего времени возглавлявшаяся профессорами Райским, Гольденвейзером и Головановым» при поддержке ряда других преподавателей, например, ректора К. Н. Игумнова. Здесь в ход пошли новые аргументы. Так, некий Дм. Лебедев в журнале «Экран» утверждал, что «утренние концерты консерватории пока что устраиваются для демонстрации реакционной профессуры – Райского, Голованова, Гольденвейзера или для возбуждения в слушателях религиозного миросозерцания», примером чему приводился концерт органной музыки в исполнении А. Ф. Гедике. Утверждалось также, что упомянутые профессора саботируют работу на так называемом педагогическом факультете, потому что «не хотят видеть за дирижерским пультом бывшего рабочего и крестьянина» (Экран, 1928, 9 декабря). Далее последовали прямые обвинения в антисоветских демонстрациях, устраиваемых на головановских концертах. В дело вмешалась партийная комиссия Хамовнического района, которая не подтвердила обвинения Голованова в антисемитизме, но признала «правые» настроения группы профессоров вместе с дирижером, которые выразились, в частности, в исполнении Неждановой с консерваторским оркестром арии из «Жизни за царя» Глинки. В 1929 году Голованов ушел из консерватории.
Третья волна «головановщины» относится к осени 1929 года – она была нацелена уже на деятельность филармонии (Софила). Е. Вольф писал в «Правде» от 15 октября: «Софил явно расходится с линией партии. После «встряски» в БТ и консерватории филармония стала единственным местом для всего, что есть консервативного и реакционного в музыкальном мире». Весной 1929 года объектом травли стала также деятельность Голованова на МРЦ – Московском радиовещательном центре.
В конце концов Голованов, все это время продолжавший очень активную творческую деятельность, обратился с письмом к наркому просвещения А. С. Бубнову с просьбой разобраться в создавшейся ситуации. 4 февраля 1930 года в «Известиях» было напечатано постановление коллегии Наркомпроса, где «продолжающиеся нападки на профессора Голованова» рассматривались как «травля специалиста» и выдвигалось требование ко всем организациям, где работал Голованов, «немедленно обеспечить нормальную обстановку для работы».
«Головановщина» затихла, но не навсегда. Надо подчеркнуть, что в данный период она исходила не сверху, а снизу, не от высокого партийного начальства, а от «ущемленных» коллег-музыкантов и связанных с ними журналистов и в целом носила, как и пишет А. П. Смирнов, антирусский характер. О том, как относилась к Голованову настоящая интеллигенция, может свидетельствовать хотя бы фрагмент письма дирижера к Неждановой от 18 марта 1929 года, самого разгара «головановщины»: «В воскресенье утром был на концерте Клемперера. <...> Был аншлаг. Было очень много знакомого народу. Меня посадили в ложу к Красину, там сидели Сац, Зискинд, Штейнберги и Хессин. Я в таком окружении! Причем мы много хохотали... Штейнберг и Хессин, смеясь, говорили, что я и здесь их подавляю, а я говорил, что они и здесь продолжают себя чувствовать угнетенными «головановщиной». Сац страшно смеялась. Были Мейерхольд с женой и Таиров (один)... Оба звали в свои театры...» (Сб. «Н. С. Голованов», с. 97.)
В архиве музыканта имеется ряд писем-поздравлений от коллег, прочитавших постановление. Одно из них было прислано архиепископом Трифоном, знавшим Голованова еще мальчиком-певчим в Синодальном хоре и высоко ценившим как музыкальный дар Голованова, так и его независимую позицию в отношении русской истории и культуры. К письму от 18 февраля 1930 года приложена фотография владыки и его стихи, посвященные Николаю Семеновичу. Приводим их полностью – как, быть может, самый красноречивый комментарий к изложенному выше.
Я помню ясный день, то день Святой был Пасхи,
Дыханьем солнечным весенней теплой ласки
Был воздух свежий, чистый напоен.
Гремел по всей Москве церковный звон.
Холодные, жестокие сердца смягчая
И свет, и радость в души всех людей вливая,
Торжественно – победно он вещал:
Христос воскрес! Из гроба мертвых встал!
И в этот светлый день Христова Воскресенья
Огнями весь сиял наш древний храм Успенья.
Молился там святителей собор,
И с ним сливался сладкогласный хор.
И пред открытым алтарем, как перед Богом,
Народ склонился, как один, в молчанье строгом
И чувствовал, что он не одинок,
Что с ним всегда его Воскресший Бог.
Но вот – три отрока в блистании одеждыˆ Воспели песнь любви, и веры, и надежды.
От них один отличен был во всем –
И голосом, и пения огнем.
Казалось, Господа он зрел душою чистой,
И сладостен его был голос серебристый,
И чудилось, молитвы те неслись
К престолу Божьему, на небо, в высь.
«Вомни, – он пел, – Создатель, пламенной молитве
И помоги нам всем в житейской страшной битве.
О, воскресни, обрадуй нас, людей,
Нам тяжело под бременем скорбей!»
И видел я тогда духовными очами,
Что ясно над челом его сверкал огнями,
Как яркая звезда – призванья луч
Из-за житейских грозных, мрачных туч.
И в нем я не ошибся. Проходили годы...
В работе и в трудах, терпя порой невзгоды,
Блестящим он талантом возрастал
И музыкой Европу восхищал.
Хотя пред гением его склонялись главы,
Не возгордился духом. В блеске шумной славы
Он сохранил всю веру детских лет,
И, не считаясь с тем, что скажет свет,
Во всякой смене убегающих мгновений
Все помнит он напевы древних песнопений
И ранней юности своих друзей,
Стараясь снять с них бремя их скорбей.
Давно когда-то с ним сливался я в молитве,
И вот теперь в житейской тяжкой битве
Он, помня дни родного далека,
Не позабыл больного старика.
И с благодарностью за помощь и участье
Молю я Господа, да даст ему Он счастье,
Чтобы не пал в борьбе со злой судьбой,
Своею верой огражден святой.
По словам сотрудника Вокально-творческого кабинета имени А. В. Неждановой Марины Ивановны Голгофской, при постановке «Князя Игоря» в сезоне 1933/34 года Голованов рассорился почти со всей труппой Большого театра. Одной из причин стало нежелание дирижера прислушиваться к мнению коллектива и солистов. Такое напряженное состояние продолжалось в театре вплоть до увольнения Голованова в марте 1936 года. Однако до ухода из Большого он все-таки сумел поставить еще две оперы – «Сказание о невидимом граде Китеже» Римского-Корсакова и «Тихий Дон» И. Дзержинского.
В «Опыте автобиографии» Голованов пишет: «По уходе из Большого театра в 1928 году я был приглашен главным дирижером и художественным руководителем Советской филармонии (Софил), много дирижировал симфоническими концертами. А в 1929 году, будучи главным дирижером Московского радиоцентра... организовал оперный Радиотеатр... С 1937 года началась моя деятельность в качестве главного дирижера Большого симфонического оркестра Всесоюзного радиокомитета. За период с 1937 по 1949 год мною был поставлен ряд опер, обычно исполнявшихся в Колонном зале... С талантливым главным хормейстером радио И. М. Кувыкиным мы восстановили ряд великолепных произведений. <...> С 1938 года я состоял музыкальным руководителем Оперно-драматической студии имени Станиславского. <...> В 1943–1944 годах был вторично приглашен в Московскую консерваторию...» (Сб. «Н. С. Голованов», с. 21–22.)
В Оперно-драматическую студию Голованов пришел по приглашению Станиславского в 1936 году, официально был назначен главным дирижером Радиоцентра в 1930-м, главным дирижером и художественным руководителем музыкального сектора Всесоюзного радиокомитета – в 1937-м, художественным руководителем Большого симфонического оркестра радио – в 1946-м. В 1943–1944 годах он принимал участие в организации студенческого оркестра консерватории.
Упомянутая выше М. И. Голгофская вспоминала: после того, как 14 мая 1953 года вышел приказ о снятии Голованова с поста главного дирижера Большого театра, позвонил один из руководителей музыкального вещания Радио К. X. Аджемов и предупредил Николая Семеновича, что аналогичный приказ готовится на Радио. Голованов отправил письмо Н. С. Хрущеву, оно быстро дошло, и никаких мер на Радио принято не было. Все это время Голованов страдал от приступов стенокардии и, отпраздновав 22 мая свои именины, уехал на дачу. Приступы повторялись, но все же 17 августа он ездил в Москву на сбор Большого симфонического оркестра Радио. Вскоре с Николаем Семеновичем случился очень сильный сердечный приступ на даче, из Москвы была вызвана «скорая помощь», и врач предписал строгий постельный режим. 28 августа Николая Семеновича ждали на первую репетицию БСО, но как раз в этот день его не стало. По свидетельству Голгофской, Голованов, вопреки утверждению мемуариста, не ожидал своей «реабилитации» в Большом театре и Файер не приезжал к нему на дачу.
Концерт, о котором вспоминает А. П. Смирнов, состоялся в Большом зале консерватории 4 апреля 1955 года. В нем принимали участие Оркестр Большого театра и Большой симфонический оркестр Всесоюзного Радио вместе с Большим хором Радио. В первом отделении Оркестром Большого театра дирижировали А. Ш. Мелик-Пашаев, К. П. Кондрашин, Ю. Ф. Файер, В. В. Небольсин: прозвучали увертюра к «Руслану и Людмиле» Глинке, монолог Бориса из оперы Мусоргского (А. С. Пирогов), вступление к «Хованщине» Мусоргского и три арии гостей из «Садко» Римского-Корсакова (М. Д. Михайлов, А. И. Орфенов, А. А. Большаков), фрагменты из «Раймонды» Глазунова, «Три чуда» из «Сказки о царе Салтане» Римского- Корсакова. Во втором отделении Оркестр и Хор Радио под управлением Б. Э. Хайкина и А. В. Гаука исполнили два отрывка из оперы Голованова «Принцесса Юрата», первую часть Второго фортепианного концерта Рахманинова (Л. Н. Оборин), поэму- кантату «Из Гомера» Римского-Корсакова (Е. Н. Гоголева, Б. Я. Златогорова, М. П. Максакова, Н. Д. Шпиллер), «Три русские песни» и Каватину Алеко Рахманинова (М. О. Рейзен). Завершала программу Торжественная увертюра «1812» Чайковского.
По некоторым сведениям, Розов, находясь в Петербурге, занимался у известного оперного певца и режиссера И. П. Прянишникова, который развил верхний регистр голоса Розова и выровнял его звучание по всему диапазону.
В книге Е. Малютина «Болезни горла и их лечение» (М., 1912) приведена схема устройства горла знаменитого диакона (иллюстрация № 8), рядом со схемами горла Шаляпина и мальчика-певчего Ильи Шорина
См. комментарий 42 к «Воспоминаниям» А. П. Смирнова. Розов не состоял в штате хора Александрова. В это время 2-м Государственным хором руководил П. Чесноков, а Александров являлся его помощником; с 1922 года Чесноков возглавил Государственную хоровую капеллу, и в 1922-м Розов начал работать в капелле. С Чесноковым его связывала давняя дружба. В частности, композитор посвятил Розову Великую ектению ор. 37 № 4 (1911) для диакона и смешанного хора, а также песнопение для того же состава «Спаси, Боже, люди Твоя» (1920).
В книге Л. К. Розовой «Великий Архидиакон» (М., 1994) приведен основной «светский» репертуар Розова, состоявший из обработок русских народных песен и нескольких классических романсов.
В дневниковой записи Н. П. Окунева от 8/21 апреля 1921 года автор излагает содержание своей беседы с Розовым, в которой Константин Васильевич рассказал, в частности, что гонорары за свое участие в службах он получает продуктами и товарами и одновременно вынужден служить в 1-м Государственном хоре и выступать в концертах в светском репертуаре. «Когда же я спросил его, поет ли он там «Интернационал “, то он ответил, что «Интернационала» петь не приходилось, а «Дубинушку» поет довольно частенько. За пропуски [концертов] его штрафуют по 10 000 за раз, так что эта советская служба обходится ему не менее 200 000 рублей в месяц» (с. 444).
Розов также принимал участие в разных духовных концертах, в том числе под управлением Н. С. Голованова: об этом свидетельствуют хотя бы сохранившиеся в архиве Голованова афиши и программы. В частности, имеется программа концерта 25 октября 1919 года в церкви Флора и Лавра: пел хор Большого театра, солировали А. В. Нежданова, Д. А. Смирнов, В. Р. Петров и К. В. Розов; солисты-мужчины исполняли также вместе трио Воротникова, Турчанинова и новое песнопение для трио с хором П. Г. Чеснокова «Благослови, душе моя, Господа».
Описание богослужения 19 сентября 1921 года, во время которого состоялось наречение Розова Великим архидиаконом, см. в книге Л. В. Розовой. Там же приведены многочисленные поздравления, полученные им в связи с 25-летием церковного служения.
Окунев записывал в своем дневнике:
«Вечерня, молебен, подношения юбиляру икон и подарков и речи по поводу этого привлекли в собор свыше 15 000 человек. Многие совсем не попали. Теснота была «пасхальная0. Приехал патриарх, митрополит и несколько епископов. А прочего духовенства и не перечтешь. (Говорят, было не менее 150 лиц разного сана.) Пели два громадных хора, составленных из различных капелл. Управляли ими П. Г. Чесноков (на правом клиросе) и Н. М. Данилин (на левом). Были знаменитые артисты-солисты: Петров, Степанова и др. Были также и все московские прославленные дьякона, во главе с Михаилом Кузьмичом Холмогоровым, который, не уступая в силе голоса юбиляру, провозгласил ему поразительное по силе звука и по содержанию Многолетие... К сожалению, акустика храма не дала надлежащего впечатления от пения 400 лучших московских голосов и не позволила многим тысячам поклонников Розова, в том числе и мне, услышать, что ему говорили патриарх, епископ Трифон и другие ораторы. По этой причине я даже ушел раньше конца. А говорят, что прекрасную речь сказал сам юбиляр. Никто не ожидал от него ораторского таланта (знали все лишь «орательский0 талант за ним, правда такой облагороженный). Уж не Федор ли Никифорович Плевако, покойный, образовал из него такого говоруна? По словам Розова, Плевако был с ним в приятельских отношениях. Оно и не мудрено: Плевако был такой любитель соборных сладкопевцев» (с. 486–487).
Панихиды по Розову, скончавшемуся скоропостижно от болезни сердца, проходили в Крестовоздвиженской (на Воздвиженке) церкви и в храме Большое Вознесение (на Б. Никитской), отпевание – в Большом Вознесении.
«За панихидами (в Крестовоздвиженской, а потом в Вознесенской церкви) перебывали десятки тысяч москвичей, за отпеванием же и в качестве провожателей до кладбища по моему счету было до 20000 человек...» (Окунев, с. 573–574).
На отпевании слово о Великом архидиаконе сказал протопресвитер Успенского собора Н. А. Любимов. Снова цитируем Окунева:
«После юбилея Розова я послал ему приятельское поздравительное письмо, в котором уподобил его отроку «злочестивого веления небрегшему, огненного крещения не убоявшемуся, но посреде пламени стоящему пояху“. Он именно был такой. <...> И протопресвитер Любимов в своей речи... отметил именно силу духа покойного...» (с. 574).
Сам К. В. Розов относился к «живоцерковникам» резко отрицательно и сохранял глубокую преданность патриарху. Как пишет князь Н. Д. Жевахов, Розов, «несмотря на массу выгоднейших в материальном отношении предложений «живоцерковников», твердо остался верен патриарху Тихону, дошел до нужды, должен был даже продать для жизни драгоценный для него реликвий – часы, подарок государя, но убеждений не изменил» (Жевахов Н. Д. Воспоминания. В двух томах, том 2. М., 1993, с. 215).
Как раз накануне кончины Розова (в конце апреля) состоялся так называемый «Второй поместный собор русской православной церкви» в уже захваченном «живоцерковниками» храме Христа Спасителя, где находившийся под арестом патриарх Тихон был «разжалован» в мирянина Василия Беллавина и провозглашен «предателем церкви». Одновременно собор послал приветствие ВЦИКу и лично Ленину и возвел протоиерея Введенского в архиепископы Крутицкие, а протоиерея Красницкого – в «протопресвитеры всея Руси».
Нетрудно себе представить, какое впечатление могли произвести эти события на тяжело больного Розова и сколь кощунственно было появление «живоцерковника» на отпевании Великого архидиакона.
Более подробно эпизод с появлением «живоцерковника» на отпевании Розова изложен в книге Жевахова: поскольку Красницкий явился в облачении, то главенствующий за этой службой протопресвитер Любимов решил, во избежание скандала в храме, Красницкого оставить, но возгласов ему не давать. После окончания отпевания, когда Красницкий двинулся к выходу, по храму пошел гул недовольных голосов, а на паперти завязалась драка с участием милиции.
На самом деле перенос погребения на следующий день был устроен по распоряжению властей. «В день похорон [Розова], – пишет Жевахов, – большевиками были приняты значительные меры против скопления народных масс, было приказано закрыть кладбище до четырех часов, но ничего не помогло» (там же).
В летнее время Синодальный хор делился на три группы, каждая из которых пела в Успенском соборе в течение одного летнего месяца. Мальчиков привозили на службы с дачи. (В последние годы дети жили в Новом Иерусалиме, занимая помещение церковно-приходской школы при монастыре.) В архиве Синодального училища сохранилось датированное 1914 годом распоряжение прокурора Синодальной конторы Ф. П. Степанова дежурному воспитателю Синодального хора о привозе в Москву детей, в числе которых упомянут и будущий мемуарист: «Для пения в Успенском соборе во второй половине июня предлагаю вам назначить к приезду в Москву с поездом из Нового Иерусалима в 9 часов 55 минут утра 20 июня следующих мальчиков: Макарова, Хромушина, Блинова, Чепцова, Аксенова, Бутузова Александра, Порняковых Василия и Петра, Смирнова и Козлова – всего десять человек с дядькой; они останутся в Москве до 23-го и вернутся с пятичасовым поездом. В Москве они будут столоваться в какой-нибудь столовой или будет им готовить помощник повара, повар же остается в Новом Иерусалиме. Общее наблюдение за мальчиками будет иметь дежурный регент, а непосредственное – дядька» (РГАЛИ, ф. 662, on. 1, № 56, л. 36).
Прямая аналогия между иконописью Андрея Рублева и работами церковных мастеров начала XIX–XX века – В. Васнецова, Кастальского – была типична для предреволюционного восприятия. Стилевая ориентация этих художников на искусство Древней Руси, видевшееся символом «чистого» национального стиля, казалась в то время достаточной для подобных аналогий.
Серьезное, даже суровое выражение лиц певчих Синодального хора на заграничных гастролях 1911 года обратило на себя внимание рецензентов. В своих стилизованных «боярских» одеждах московские гости как бы являли образ древней Московии. «Сам вид этих людей, серьезных и строгих (даже лица детей выражали холодную суровость, а фигуры неподвижно застыли в широких и тяжелых кафтанах), привел в восторг публику», – писал итальянский рецензент (Памяти Н. М. Данилина, с. 31).
Повседневную одежду учеников Синодального училища составляли черные суконные брюки и китель со стоячим, обшитым малиновым кантом воротником. На воротнике с двух сторон была нашита эмблема Синодального училища – арфа с венцом. В этих костюмах ученики выступали и на концертах.
См.: Нива, 1918, № 2, с. 29. В этом же репортаже помещены и другие фотографии разрушенных кремлевских соборов.
Пресвитер Успенского собора Иоанн Сергеевич Воздвиженский был также духовником братии этого храма. Помимо Синодального училища, он преподавал Закон Божий и в других московских училищах и гимназиях. Последний по времени документ Синодального хора, где упомянут Воздвиженский, относится к 17 января 1918 года. В нем директор Синодального училища просит прокурора Синодальной конторы выдать Воздвиженскому деньги за служение пятнадцати всенощных в Синодальном училище в 1916/17 учебном году, в также за исповедь и причащение учащихся (РГАЛИ, ф. 662, on. 1, № 102, л. 202).
Протоиерей Иоанн Иоаннович Восторгов был одной из наиболее заметных фигур предреволюционной Москвы. Известный писатель и проповедник монархического толка, основатель «Русского монархического союза», он являлся также автором духовно-музыкальных сочинений. (См.: Избранные православно-церковные песнопения. Сочинение протоиерея И. И. Восторгова. 1913.) Расстрелян большевиками в 1918 году.
Красочное описание чина «Торжества православия» в Успенском соборе в 1915 году дано в воспоминаниях И. А. Гарднера. (См.: Гарднер Иван. Ушедший мир. (Торжество православия) // «Российская музыкальная газета», 1997, №4, 5.) Через три года, в 1918 году, «Торжество православия» служили уже не в Успенском соборе, а в храме Христа Спасителя. За этим богослужением патриаршему архидиакону Розову пришлось провозглашать новые анафематствования: «глаголющим хульная на святую веру нашу и восстающим на святые храмы и обители, посягающим на церковное достояние, поношающим и убивающим священников Господних и ревнителей веры отеческия». (Московские церковные ведомости, 1918, № 6).
Мироварение начиналось в понедельник утром и заканчивалось в среду вечером. В продолжение трех дней священники московских храмов, сменяя друг друга, читали Евангелие, а дьяконы перемешивали кипевшие в масле ароматические травы. В Великий Четверг миро относилось в Успенский собор для освящения на литургии и возвращалось затем в храм Двенадцати апостолов на хранение.
Приведем описание празднования Пасхи в Кремле в 1914 году, в котором принимал участие и автор «Календаря»: «В начале одиннадцатого часа вечера, когда ночные тени окончательно спустились на землю, в Кремль длинной вереницей потянулись пешеходы и экипажи; первые, по распоряжению администрации, следовали через Спасские и Боровицкие ворота, вторые двигались через Троицкие и Никольские. В 11 часов вечера густые многотысячные толпы народа наполнили огромную площадку в ограде Успенского собора, протянувшись отсюда во все стороны. Узкая галерея, ведущая к входу в собор, и колокольня Ивана Великого красиво иллюминированы разноцветными фонариками. На площади у памятника царю-освободителю эффектно взвиваются к небу огненные стрелы ракет и римских свечей. Ровно в 12 часов ночи раздается мощный гул колокола Ивана Великого. Вслед за ним послышался торжественный благовест в других храмах, вся столица огласилась радостным перезвоном, и могучие волны медных звуков плавно поплыли в ночном воздухе. Из Успенского собора двинулся торжественный крестный ход при пении Синодального хора «Воскресение Твое Христе Спасе». За хоругвями и Корсунскими крестами следовало многочисленное духовенство во главе с владыкой Макарием, митрополитом Московским и Коломенским. Путь крестного хода красиво освещался розовым бенгальским огнем с высоты колокольни Ивана Великого. Крестный ход, обойдя вокруг собора, остановился в притворе; духовенство пропело радостную песнь «Христос воскресе из мертвых». Затем началась утреня. В начале ее из орудий Тайницкой башни была произведена салютационная пальба семнадцатью холостыми выстрелами. <...> В шесть часов утра божественную литургию в Успенском соборе совершал Макарий, митрополит Московский, в сослужении многочисленного духовенства. Святое Евангелие читалось на различных языках: славянском, греческом, латинском и еврейском. При чтении Евангелия орудия Тайницкой башни произвели салют в двадцать один пушечный выстрел, при окончании литургии – в пятьдесят один выстрел. В три часа дня вечерню в соборе совершал Макарий, митрополит Московский, в сослужении преосвященного Трифона, епископа Дмитровского, и Анастасия, епископа Серпуховского» (Московские церковные ведомости, 1914, № 16).
Здесь в текст вкралась неточность: 11 и 12 мая 1913 года праздновалось не открытие, а прославление мощей патриарха Гермогена. Описываемые мемуаристом события произошли в те же числа в 1914 году. 11 мая во время всенощной, на которой Синодальный хор среди прочих песнопений исполнял написанный Кастальским тропарь святителю, произошло открытие мощей. На следующий день после литургии в Успенском соборе был совершен крестный ход с мощами вокруг кремлевских соборов, после чего мощи были положены в новую серебряную раку.
Крестные ходы в Москве отличались большим многолюдством. Так, в крестный ход, выходивший из Успенского собора, вливались священнослужители и верующие кремлевских церквей; к месту празднования двигались также шествия из разных московских храмов
Празднование 50-летия освобождения крестьян от крепостной зависимости совершалось 19 февраля 1911 года.
В 1910-е годы император Николай II приезжал в Москву пять раз: 28 мая І912 года – по случаю открытия памятника Александру III и освящения музея имени Александра III; 25 августа 1912 года – по случаю празднования столетия войны 1812 года; 24 мая 1913 года – для поклонения московским святыням по возвращении из путешествия; 4 августа 1914 года – по случаю объявления Первой мировой войны; 8 декабря 1914 – для поклонения святыням и укрепления патриотического духа в подданных.
Архиерейские служения в Успенском соборе с участием архимандритов московских монастырей, помимо праздничных дней, совершались также в «царские» – иначе «высокоторжественные» дни. Приведем список таких дней (данные 1902 года): тезоименитство императрицы, рождение великого князя Сергия Александровича, рождение государя императора, священное коронование их величеств, рождение императрицы, тезоименитство великого князя Сергия Александровича, тезоименитство вдовствующей императрицы Марии Федоровны, тезоименитство великой княгини Елизаветы Федоровны, литургия по случаю чудесного спасения царского семейства, восшествие на престол государя императора, рождение вдовствующей императрицы Марии Федоровны, тезоименитство императора.
Возможно, что такой обычай распространялся на архиерейские служения, во время которых пел Синодальный хор, – поэтому автор и акцентирует это обстоятельство. Однако не исключено, что по будням в соборе причащались люди самых разных сословий; об этом свидетельствуют хранящиеся в фонде Успенского собора Архива музеев Кремля исповедальные ведомости.
Митрополит Макарий прибыл в Москву 22 декабря 1912 года. Новый владыка был известен как миссионер, долгие годы проповедовавший среди иноверцев на Алтае. В 1880-е годы начинается восхождение Макария по иерархической лестнице: в 1883 году он становится архимандритом, начальником Алтайской миссии, в 1884 году – епископом Бийским, в 1891 году – архиепископом Томским и Семипалатинским.
Управление московской святительской кафедрой митрополитом Филаретом (Дроздовым) составило целую эпоху московской церковной жизни (1825– 1867). Она определялась огромным нравственным авторитетом и общественным влиянием «московского Златоуста», известного своими многочисленными богословскими трудами, наставнической, проповеднической и церковно-административной деятельностью. Воззрения Филарета способствовали складыванию в Москве особой церковной атмосферы, характерной чертой которой было культивирование старомосковских традиций, в том числе старинного уставного пения.
Митрополит Макарий родился не в Тобольске, а во Владимирской губернии. Однако духовную семинарию он закончил в 1854 году в Тобольске. После отречения императора Николая II от престола тема выявления и обличения «распутинцев» заняла одно из центральных мест в официальной общественной жизни. Митрополит Макарий был причислен к «распутинской» партии на том основании, что он возглавлял и благословлял собрания купца Решетникова, на которых присутствовал и Распутин. Сам владыка связь с Распутиным категорически отвергал.
Имеется в виду изданная в 1869 году редакция «Обихода церковного пения при высочайшем дворе употребляемого», которая была выполнена по распоряжению директора Придворной певческой капеллы Н. И. Бахметева. Очевидно, упрощенные гармонизации роспевов в этом «Обиходе» казались митрополиту Макарию более молитвенными. Владыка пытался исправить не только репертуар Синодального хора, но и установить более неторопливые богослужения. Из письма Кастальского к Голованову от 21 октября 1915 года узнаем, что митрополит выразил желание слышать более медленное пение утрени, особенно Великого славословия, с тем чтобы утреня продолжалась не менее двух с половиной часов (Музей-квартира Н. С. Голованова, архивный фонд, № 989).
«Лепты» представляли собой примитивные хоровые песни нравственно-назидательного содержания.
Имеется в виду местоблюститель московской святительской кафедры епископ Иоасаф, управлявший митрополией в период между удалением на покой митрополита Макария (20 марта 1917) и хиротонией архиепископа Тихона (21 июня 1917).
Согласно иным сведениям, митрополит Макарий доживал свои дни в поселке Котельничи Люберецкого района Московской области.
В Архиве музеев Кремля сохранилось письмо, направленное Кастальским, Орловым и Данилиным 5 марта 1904 года протопресвитеру Успенского собора В. С. Маркову, где они дают оценку голоса одного из претендентов на место в причте Успенского собора: «Глубокоуважаемый Владимир Семенович. Присланный вами на испытание отец Никольский из Пензы прочитал ектенью, Евангелие, многолетие и показал достаточно хороший голос с довольно приятным тембром, хотя в выговоре был замечен небольшой посторонний звук несколько свистящего или шипящего оттенка. По сравнению с предшествовавшим, бывшим у нас на пробе третьего дня, отец Никольский слабей несколько». (Архив музеев Кремля, ф. 4, № 85, л. 32.)
Дьякон В. П. Ризположенский был принят в Успенский собор в 1904 году, победив на пробе голосов в Синодальном училище дьякона из Пензы Никольского. Отзыв о его испытании, подписанный прокурором Синодальной конторы А. А. Завьяловым и направленный 3 марта 1904 года протопресвитеру В. С. Маркову, также сохранился в фонде Успенского собора: «Досточтимый отец протопресвитер Владимир Семенович! По словесному нашему соглашению сегодня за вечерней спевкой в Синодальном училище произведено было испытание диакону Костромской епархии Ризположенскому. Возглашение ектений и многолетия, а равно чтение Евангелия о. кандидатом признается удовлетворительным, голос хорошим. По мнению производивших в моем присутствии испытание гг. директора, регента и его помощника, а равно и по отзыву старших певчих, диакон Ризположенский мог бы с честью служить в Успенском соборе, конечно, если будет внимательно прислушиваться к служению опытных о. диаконов и возьмет несколько уроков у специалистов по обработке голоса и выразительному чтению». (Архив музеев Кремля, ф. 4, № 85, л. 30).
Сохранился отзыв о голосах некоторых клирошан Успенского собора, принадлежащий сыну священника этого храма Н. Н. Державину: «Ризположенский – от природы звучный, великий голос металлического тембра. Его звучание было колоссальным, с ним нельзя было стоять рядом. Звук Ризположенский образовывал у зубов. Рослый, худощавый человек. Румянцев – не особенно блистал, не очаровывал голосом. Представительный мужчина. Питаев – хороший, но тяжелый бас. Рангом ниже. Ходня – простой, малограмотный, из крестьян, человек неимоверной силы. Не очаровывал голосом. Не ведущий дьякон. Розов – массивное звучание голоса. С виду – не духовное лицо, скорее – художник. Любил ходить в штатском, кудри до плеч, умное лицо, золотые очки. Пшеничников – старик, не толстый. Голос колоссальный. Когда восемь человек священнослужителей выходили петь в унисон, то голос Пшеничникова всех покрывал».
