III. Стенная живопись на Афоне и некоторые ее памятники
Чем более было преувеличено значение афонских стенных росписей в первые времена христианской археологов, особенно в среде западных ученых, тем более пало оно в настоящее время, после первого непосредственного ознакомления с памятниками христианского искусства на Востоке. Но, что наиболее характерно, падение это произошло, главным образом, во мнении русских ученых, для которых афонская церковная живопись является не только историческим звеном в длинной и сложной цепи памятников различных ветвей византийского искусства, но и своего рода каноническим руководством. К этому руководству обращались и во времена священника Сильвестра, и при первых работах по восточной иконографии в шестидесятых годах XIX века. В предполагаемых произведениях полумифического Панселина пытались отгадать, какие силы и средства потребовались бы для художественного подъема русско-византийской иконописи. Первые наши паломники: Барский, Муравьев, восторгались афонскими древностями, новейшие исследователи относились с понятным критическим запросом и потому проходили иногда мимо таких памятников, которые имели некоторое значение именно для русской науки. Так, когда в 1839 году известный Дидрон посетил Афон и нашел там еще бывшую в ходу «Ерминию», для западных ученых это было настоящим открытием, а Ерминия стала базисом для построения всех западных исследований по иконографии и, конечно, заинтересовала европейскую науку, как первая ступень в историческом монументальном всходе к религиозному искусству Европы. В русской науке, напротив, искони знали подлинник, имели его списки, и такие знатоки, как Ровинский, Буслаев, Забелин, Филимонов, кн. П. П. Вяземский, Сахаров, Д. А. Григоров и др. издавали, объясняли и сличали списки подлинников и материал, в них находящийся, с критической точки зрения. К греческому подлиннику русские ученые не могли уже относиться так беззаветно, как западные археологи, и во многом должны были отдавать предпочтение русским подлинникам. То же было и при новом знакомстве русской археологии с афонскими росписями. Рисовальщики французские, как напр. Папети, Поль Дюран, привозили из своих путешествий изящные наброски и прикрашенные эскизы афонских фигур с фресок Протата, и восторгавшиеся ими Дидрон, Емиль Дюран, Ант. Пруст и др. толковали о возможности воскрешения на Западе этого скрывшегося мира религиозной живописи. Напротив того, русские ученые сразу стали на почву критики: одни потому, что свою жизнь прожили на Востоке и сделали Святую Землю и ее православие задачею всей жизни, как арх. Антонин и пр. Порфирий, другие – так как не могли найти здесь ожидавшихся памятников древневизантийской живописи, и потому не старались открыть интерес и в том позднем слое, который они встретили. Проф. Н.В. Покровский, посетившей Афон ради росписей, сделал более подробный очерк некоторых, им виденных. То же критическое отношение к предмету находим в исследовании аб. Дюшена и Байэ 19.
Ввиду этого отношения науки к афонским росписям, небесполезно было бы впоследствии точнее формулировать положения русской археологии по данному предмету, а так как мы не могли посвящать ему главного внимания, то ограничимся общими замечаниями. Афонские росписи имеют характер декоративный, как и византийские росписи всех времен, а потому мы считаем прямым увлечением западные взгляды на них, как на некоторое «высокое искусство» (grand art) и желание найти в них, как говорил некогда Витэ, «аналогии с образами Парфенона». Однако, общая композиция афонских росписей построена на стародавней символической основе, и сколько бы она ни была затерта позднейшими рефлексами, все же живая мистическая струя продолжает питать это поле разнообразных насаждений. Но если в древневизантийских росписях мы не можем найти образца, годного для других времен, без перемен, и если ни в одну эпоху Византии нельзя открыть в росписях цельного и полного выражения символической идеи храма, то тем более в храмах афонских. Эта основная, исконная символизация всего декоративного склада стенописи нередко нарушается разными неудачными отступлениями. Многие исследователи, пересматривая эти отступления, оценивают их и самое достоинство афонских росписей по отношению к древним византийским оригиналам: это, конечно, несправедливо и не свидетельствует о научной исторической критике, так как многие отступления позднейшего времени отличаются чрезвычайною характерностью и содействуют своеобразию этих росписей. Что же бы было, если бы мы на протяжении тысячи веков принуждены были смотреть ремесленную копировку одних и тех же образцов! Но если мы задаемся хронологическими вопросами, то обязаны принимать во внимание все эти новые иконографические данные, коль скоро отсутствуют даты. По счастью, афонские хроники и надписи сохранили нам столь обильные даты, что мы можем не нуждаться в доказательствах стиля и иконографических форм. В результате поисков Преосв. Порфирия мы имеем ныне точную хронологию афонских росписей20: «На Афоне, – говорит Пр. Порфирий, – стенная живопись в церквах и братских трапезах есть явление не очень давнее. До XVI столетия там были расписаны только два соборных храма: Введенский в Хиландаре вскоре после 1198 года и Ватопедский в 1312 году, да еще один из параклисов в монастыре св. Павла в 1398 году: но первой стенописи и следов нет, потому что Введенский собор сломан был в конце 13 века, а Ватопедская и Павловская стенописи хотя и уцелели поныне, но после появления их ни один святогорский монастырь не расписывал своих святилищ до 1526 года». Мы прибавим к этому только общее замечание, что, кроме мозаик, не нашли в Ватопеде каких-либо древних росписей: если там и есть что-либо, то целиком, до неузнаваемости, переписанное в 1789 году, когда вся «обветшавшая» живопись заново «историрована» усердием иерея из Гизворо.
Затем, по точным указаниям пр. Порфирия, афонские росписи относятся к следующим годам: придел И. Предтечи в Протатском храме к 1526 году (по нашему мнению обезображен перепискою). Собор Протата расписан Мануилом Панселином в 1535–1536 годах, который затем в 1537 г. расписал церковь в Миловоклиси бл. Кареи, между 1554 и 1574 гг. собор Руссика (сломанный) и между 1571 и 1582 гг. собор в Хиландаре (переписан в 1804 году). В 1535 г. расписан собор Лавры св. Афанасия Феофаном Критянином, в 1536 г. тамошняя трапеза (целиком переписана). К 1540 г. относится роспись трапезы в Филофеевском монастыре, к 1545 г. Храм Георгия в Ксенофе и к 1546 г. собор Ставро-Никиты, последний – Критянином Феофаном. В 1560 г. расписан придел Николая Чудотворца в Лавре, но ныне целиком переписан, и в 1564 г. лики мучеников на клиросах Ксенофа писал Феофан, а в 1567 г. тамошняя трапеза. В 1568 г. расписан собор Дохиара (поновлен в 1855 г.), и роспись его сравнительно лучше других сохранилась. Около 1600 г. расписан соборный храм Ивера, но поновлен в 1842 г. Множество церквей, приделов, трапез афонских расписаны уже в ХVII веке: в Дионисиате собор (1647 г.) и притвор его, трапеза в Хиландаре, храм Симонопетрского монастыря, фиал Лавры, собор Кутлумуша (1640 г.), Пантократора (1640 г.), притвор с изображением акафиста Богоматери у Павла, церковь во имя Михаила Синадского в Лавре в 1653 году и около этого времени паперть Ксенофского собора с изображением Апокалипсиса, обе на средства, дарованные угровлахийским воеводою Иоанном Матфеем и женою его Еленою. К 1672–1674 гг. относятся росписи приделов соборных и трапезы в Ивере. К 1678 г. относится роспись Ватопедского придела во имя Богоматери «Парамифии» на средства Лаодикийского митрополита Григория и к 1683 г. придела Вратарницы в Ивере. Наконец, к XVIII столетию относятся росписи соборов в монастырях: Каракалла, Филофея, церквей, приделов и притворов в Лавре Афанасия (ц. Икономиссы), Ивере, Хиландаре, Дохиаре, Пантократоре, Ватопеде (придел Николая Чудотворца), Зографе, Кутлумуше.
Но, помимо точного списка стенописей Афона в хронологическом порядке, знаменитый русский иерарх в указываемой статье присоединяет, очевидно, в летописном извлечении из своих обильных материалов два очерка: о местной афонской школе живописи и распределении изображений в церковных стенописях Афона. Первый очерк начинается следующими характерными словами: «Пусть никто не воображает и не говорит, что на св. горе издревле существовала своя школа живописи церковной. Ее не было там до второй половины прошедшего (XVIII) столетия. Все тамошние замечательные иконы принесены из разных стран и мест. Что касается до живописи стенной, то и она произведена была художниками не афонскими... Феофаном Критянином, Фралгом Феотийцем, Панселином Солунцем, иеромонахом Марком из Грузии; работали пришлые живописцы из Фессалии и Епира, из Болгарии, Валахии и России, из Смирны и с о. Хиоса. Имена и прозвания их, годы и месяцы, в которые они трудились, помечены ими самими в местных надписях, кои всенесомненно удостоверяют наблюдателя в том, что афонские монахи долго, очень долго, сами не занимались живописью, а приглашали к себе иконописцев посторонних. Уже во второй половине прошедшего века обзавелись они своими художниками». Все это фактически верно, по все эти факты имеют не совсем тот смысл, который видит в них пр. Порфирий. Ни ранее, ни даже ныне афонское греческое монашество не имело больших местных мастерских и даже не выделяло из себя живописцев, мастеров и ремесленников. Кроме резьбы на дереве, кости и перламутре, афонское монашество и теперь не знает художественных ремесел, и обширная иконописная мастерская Руссика составляет замечательное исключение из общего афонского нерасположения к ремеслам. Но как само афонское монашество составляется из пришлецов всех возможных стран, так и его иконопись, хотя бы производилась выходцами разных мест христианского Востока, слагается окончательно только на Афоне, начиная уже с 1453 года, и мы пока весьма условно (и, наверное, крайне неудачно) даем и усваиваем этой иконописи различные названия: то солуньской по имени Панселина Солунца, то критской – по деятельности Феофана Критянина с сыновьями, хотя решительно не знаем пока, чтобы афонские росписи и иконы этого названия имели свои образцы на Крите. Да и мало ли насчитывается даже в истории искусств школ, составившихся из пришлецов, но наименованных по городу, в котором они действовали или наиболее произвели? Таким образом, обобщение пр. Порфирия интересно, но не может иметь решающего значения, а приводимые им позднейшие мастера Кареи не имеют значения исторического.
Шестнадцатое столетие принято считать веком высокого церковного искусства, но росписи этого времени представляют ряд «новых» иконописных тем в стенописи. Таковы: «Великий выход» или «Св. Литургия» со Спасителем, облаченным в саккос, ангелами и пр., Младенец в чаше, Спаситель, стоящий в гробу, – все это помещается в алтаре. Но роспись алтаря дополнена в то же время символическими изображениями: «скинии» с Моисеем, «перенесением кивота завета», «лествицею Иакова», «Купиною несгораемою», «видением Иезекииля», «Благовещение»21 обставляется пророками: Давидом и Соломоном, полуфигурами Исаии и Давида, Аарона и Моисея, Захарии и Аввакума и пр. На южной или северной стене изображается «Торжество православия». Между обычными евангельскими темами появляется «Восхождение» на крест. В преддвериях храма символическая «Лоза истинная», «древо Иессеево», «лествица духовная», «Вселенские соборы», «Акафист Богородице». Все, что ранее было применяемо к миниатюрам, иллюстрирующим богословские поучительные книги, или предметы мелкой церковной утвари, теперь перенесено в широкое декоративное письмо. В XVII веке стенопись становится на Афоне сложнее, живописнее и, вместе с попытками оживить сюжеты драматизмом и натуральностью, вносит много западных заносов, т. е. теряет свой основной характер. Эти измышления крайне неприятно поражают в живописи, так как они применяются к той же иконописной, т. е. чисто условной основе, и находятся в полном разногласии с общим пошибом иконного письма. Вносимые с Запада темы, как: «Венчание Б. М.», «Вознесение Б. М.» требуют и западных художественных форм, а вместо того, передаются в изуродованной долгим переживанием форме византийской.
Итак, со стороны исторического развития византийской иконографии, афонские стенописи не имеют приписываемой им западными учеными важности, сравнительно с современными им росписями русских церквей, которых эти ученые не знают. Но для русских археологов материал, представляемый афонскими стенописями, мало имеет значения в построении критической истории только потому, что от византийского до афонского искусства имеется глубокий перерыв, образуемый XIV и ХV веками, которые вовсе отсутствуют в афонских росписях. Итак, пока не будут изданы и разобраны росписи древних храмов Сербии, Болгарии и Македонии, все попытки установить научную или критическую историю храмовых росписей на Востоке будут более или менее бесплодны.
Иное дело в интересе чисто художественном: роспись Протата всегда останется памятником художественного подъема и предметом изучения в поиске путей к дальнейшему совершенствованию религиозной живописи. Правда, росписью Протатского собора и ограничивается этот пышный, но мимолетный расцвет позднейшей греческой иконописи, и близкая к нему по времени роспись Лавры, хотя бы и была целиком делом критской мастерской и руки Феофана, не идет даже в сравнение с протатскою и принадлежат к обычному афонскому художественному уровню. Более того, даже кратковременное пребывание на Афоне настолько знакомит с обыкновенною афонскою живописью, что только в редких случаях замечаешь особенности ее писем, и это лучшее доказательство того, что Протатская живопись Панселина была личным делом исключительного мастера и его мастерской. Напротив, все другие росписи так банально сходны, что некоторые их различия доступны глазу лишь после долгого и постоянного лицезрения и даже специального изучения. Приходится думать, что на пространстве трех столетий неизменно работали преемственные мастерские, и что появление извне лучших мастеров, улучшая работы, не меняло их характера.
Протат со своим собором может назваться самым замечательным памятником Афона. Его роспись отличается действительною красотою, и даже общий ее вид, при всем разрушении, производит чарующее впечатление. На этих, ныне уже поблекших и закопченных фресках, одежды своими нежными красками привлекают взгляд. Их цвета разнообразны: светло-лиловые, светло-зеленые, светло-фиолетовые, бирюзовые. В тенях тоны усилены, но обычных черных складок не делается. Румянец на бровях, щеках, даже в типах старцев. Но типы вполне иконописны, в лицах оливковые тени, лики отличаются характером, правильностью, в женских типах округлостью, молодостью. Словом, если отличие Панселина (предполагаемого автора этих фресок) есть отличие художника от иконописца, то все же он сохраняет черты иконописного типа, прямо взятые из образцов 12 века, но в детальных фигурах, напр. евреев, сидящих по сторонам Христа-отрока, он полон натурализма. Эти две фигуры живы и натуральны. У крайнего, с умилением взирающего на Христа, даже ноги сдвинуты вместе. Фоны темно-пурпуровые, земля чаще всего темно-синяя, темно-зеленая. Св. Пигасий облачен в далматику венецианского дожа: одежда его оранжевого цвета и не переписана позднее. Оплечье, шитое разводами, украшено камнями.
Но та же вековая пыль, умягчившая все резкости тонов и придавшая всей росписи Протата патину древности, которая многими доселе принимается за самую древность, не позволяет точно судить о времени и вводит в заблуждение тех, кто «хочет обманываться». Известно, что пр. Порфирий22 первый критически отнесся к этим увлечениям и, на основании фактического сведения, сообщенного в житии Феофана Афонского († 1548), что храм был расписан старанием прот. Серафима в 16 веке, утвердил настоящее отношение к памятнику и пресловутому Панселину, который, быть может, и был исполнителем росписи. Арх. Антонин лишь для виду23 не соглашается с этим мнением, но сам подыскивает весьма веские доводы в его пользу: что эта роспись идет по заложенным окнам и переправленным простенкам, что сопровождающая ее орнаментика нова, не антична т. е. не отвечает византийской 11-го, 12-го века, что в сценировке сюжетов применена некоторая перспектива и пр. Однако, его замечание, что живопись Протата напоминает ему мозаики Кахриеджами не только искренне, но и весьма удачно, и мы лично испытали то же первое впечатление, а это обстоятельство доказывает, что задача Панселина была, прежде всего, возобновлением византийских преданий, но, как всегда бывает, этим не ограничилась и вызвала иное (хотя непрочное) движение в греческой иконописи. К мнению пр. Порфирия присоединился проф. Покровский24 сравнивший Панселина с нашим Симоном Ушаковым: русский иконописец пошел далее грека, и часто отступал от предания, тогда как грек, внося в свое искусство внешнюю красоту, сохранил типы и сюжеты, а потому достиг счастливого сочетания красоты с величием образов. Панселин, к тому же, несравненно выше Ушакова по таланту.
Так как Брокгаузу осталась неизвестною25 вся русская литература об Афоне, то и здесь он не мог разобраться в сведениях о древности афонских росписей и отнес живопись Протата к концу 13 или началу 14 века, на основании известий о постройке этого общеафонского собора. Сравнение росписей с руководившим его текстом Ерминии не могло дать ему никаких указаний, так как сама Ерминия во многих частях носит поздний характер. Между тем, именно эти поздние стороны росписей имеют свой исторический интерес, и мы считаем нужным остановиться на составе этой росписи, тем более заслуживающей внимания, что прежние описания не могли быть точны, вследствие копоти, покрывшей фрески. Мы же в перечне можем руководиться акварельными рисунками из собрания Севастьянова26.
Протат имеет три абсиды. В средней изображена Богоматерь на троне27 держащая у себя на коленях Младенца, по сторонам ее два ангела с развернутыми свитками. Если образ Богородицы и может быть древним, напр. напоминать Кипрскую икону, то развернутые свитки ангелов не могут быть ранее XVI века. Такие же детали найдем и далее, ограничиваясь указанием их в курсиве. В малой правой абсиде представлен Предвечный Агнец в образе Младенца в чаше, поставленной на престоле под киворием, по сторонам два святителя. В левой абсиде изображен Спаситель, стоящий во гробе. По стенкам абсиды: «лествица Иакова», «купина Моисеева» и пр. На триумфальной арке «Благовещение» по обе стороны ее и тут же за стенами пышных палат, внутри которых оно происходит, видим пророков: царя Давида и Соломона, обращающихся к Богородице со своими предсказаниями, начертанными на развернутых ими свитках. Эта символическая обстановка священного сюжета может, пожалуй, считаться очень удачною, но мы ее знаем только в позднейшей иконописи. В ключе арки – Нерукотворенный образ. По сторонам внизу ап. Петр и Павел, выше пророки Илия и Даниил. По аркам поддужным обычные мученики.
В самом верхнем поясе стен по трем сторонам храма изображены рядами стоящие праведники Ветхого Завета. Между этими праотцами на рисунке видим жену, стоящую на извивающемся змие или драконе: если это праматерь Ева, то поздний характер несомненен. Ниже изображены по трем сторонам евангельские сцены, и в них мы находим ряд подробностей в способе самого изображения, позднейшего типа. Рождество Христово представлено перспективно. Сретение происходить у престола, стоящею свободно внутри ограды и покрытого красною индитиею, а Симеон стоит на широком пульпите, т. е. низкой скамье, – все это для того, чтобы не отделять Богоматерь, как изображалось в древности, алтарною преградою. Анна держит развернутый свиток. Крещение поделено на две части перспективными сценами: по одну сторону ручья Иоанн, по другую толпы пришедшего слушать народа, и между разными людьми, выражающими умиление, виден Христос. Правее Крещение, с четырьмя ангелами, с Иорданом на дельфине и морем на драконе. В Преображении черноволосый Моисей подает или показывает Спасителю раскрытую книгу. Тайная Вечеря, сохраняя традициональную форму, представляет значительное оживление в группах и выражении лиц. Особо любопытны сюжеты, вновь введенные в стенную роспись, как напр., проповедь Христа в синагоге на западной стене храма: представлен портик, у которого стоит Христос, держа раскрытую книгу перед толпою Иудеев. Подобная сцена проповеди отрока Христа в храме Иерусалимском, известная нам лишь в рисунке одной миниатюры в Евангелии, хранимом в Тифлисском Сионском музее, любопытна еще более: представлен ряд зданий, выступавший посредине аркою, перед нею расположено своего рода горнее место, образующее так наз. сигму (бывшую в Константиновой базилике Воскресения, о чем мы поговорим в своем месте), на ней посреди Отрок, по сторонам Его сидят четыре старца, один в головном уборе раввина. Всего более развита сцена Успения Б. М., представляющая без малого до 40 фигур, сложность, неизвестная византийскому искусству и появившаяся здесь, конечно, под влиянием западных образцов. Перечень изображенных в Протате святых заключается в приложенном к концу нашего сочинения списке листов фотографического альбома, сделанного нами с калек собрания П. И. Севастьянова, хранящихся в Имп. Академии Художеств.
Для научного археологического исследования типов Протата пришлось бы большинство снимков этого альбома воспроизводить здесь, так как никакое описание не даст действительного понятия о типе, а чем более описание будет подробно, тем более спутает возникшее живое представление типа, что мы сплошь и рядом видим в начальных археологических опытах, пытающихся точными ремесленными описаниями взятого памятника заменить отсутствие знаний по истории искусства, необходимых для построения сравнительной научной характеристики.
Предлагаемый вниманию читателей обзор афонских памятников христианской древности и искусства является, скорее, трактатом об историческом ходе развития христианского искусства на греческом и югославянском Востоке после падения Византии, чем описанием всех памятников, там при осмотре виденных. Для этого, с одной стороны, на Афоне не было достаточно времени, а, с другой стороны, здесь не может быть и достаточного места. В исторической науке важнейшим ее актом является сперва выбор из представившегося материала древности такого рода предметов, которые, по своей характерности, могли бы образовать собою «памятники» эпохи, и после выбора такая сравнительная их характеристика и последовательное расположение по времени и взаимной связи, которая давала бы в результате историческую их постановку наподобие вех по пути, намечаемому для будущих исследователей. Этого рода задача входит в «историю искусства», не в его «археологию», но последняя, без этой предварительной работы, являлась бы не наукою, но только любительством, которое произвольно собирает древности по вкусу дилетанта и столь же безразлично их описывает, стремясь лишь к мелочной точности и ремесленной тщательности. Историческая постановка, основанная на сравнительной характеристике, имеет, напротив того, своею главною задачею не описание памятника, но его определение по отношению к главным историческим признакам избранной группы древностей, и в этом деле отыскания признаков образует науку, представляет ее творческий процесс. Археологическое описание в этой среде бывает тем лучше, чем кратче и чем менее в нем подробностей, спутывающих характеристику. Несовершенства византийской археологии сказываются особенно ярко в бесконечных и бесплодных описаниях: иконографическая сцена и ее типы представляются в описаниях новыми или, по крайней мере, неизвестными, тогда как в шаблонном воспроизведении обычной композиции, при подробном сравнении с другими, оказывается нового лишь мелкий признак, какая-либо особенность, новая сторона и т. под. детали, которые пропадают для исследования. Утомительная бесплодность описаний обусловливается, между прочим, и тем характерным для византийского (и древнерусского) искусства обстоятельством, что оно почти никогда не знало «шаблона» в собственном смысле слова, т. е. механического воспроизведения принятых композиций и фигур, подобно гравюрам, оттискам, отпечаткам. Напротив того, византийский шаблон должен был бы, скорее, называться «схемою», в пределах которой восточное христианское искусство с X века живет, движется и развивается, сначала на почве Византии до ее падения, затем славянских стран и преимущественно России с XIII века. Развитие искусства заключается в разработке типов и декоративных форм их представлений, в приспособлении схемы к народной среде и в открытии новых способов художественного впечатления и духовного воздействия на душу молебщика. Все это дело ручное, в основе своей ремесленное, становящееся через это общенародным, и хотя в то же время постоянно освежаемое художественною стихиею, составляющею необходимую сторону ручной промышленности, но никогда не возвышающееся до индивидуального – личного творчества, которое мы ныне называем искусством. В этом ручном мастерстве мастер – будь он эмальер, миниатюрист, иконописец «личник» или «доличник», мозаицист, живописец по стенным росписям, чеканщик или резчик по дереву или металлу, усваивает себе, прежде всего, и в совершенстве формы тела человеческого, одежд, принятых в иконописи, способ моделирования (заменявшего в условной иконописи так называемую «лепку» живописцев с натуры) тела, лица, рук, манеру делать контуры, очерки и черты лица, частей тела и фигуры, способы налагать так называемую драпировку (искусственная система складок, принятая из античной скульптуры) и пр. Затем мастер имеет в своем художественном (скорее «археологическом») запасе, потребное число рисунков, прорисей, «образцов» и, зная принятую форму, пропорции, размеры, свободно располагает композицию на данной поверхности, будь то ровный лист рукописи, выпуклый медальон или бюст, или даже крутой свод арки, колоссальная ниша соборного алтаря. При этом мастер, как мы уже имели случай неоднократно указывать при описании византийских памятников, настолько свободно распоряжается позами, подробностями движений и жестов, что мы, быть может, и не найдем (разве на немногих «переводах» древнерусских икон, но и то в пределах рисунка, ни красок, ни экспрессии) механической, совершенно тождественной копии: всегда всякая копия представит какое-либо отличие от ее образца, что и понятно само по себе. Конечно, такие отличия очень мало говорят в пользу развития искусства, как мы его привыкли понимать в живом современном искусстве, лихорадочно ищущем индивидуальности, нового (в смысле неупотребительного в искусстве за период известного человеческого поколения) и свободы проявления собственной личности, но таково состояние и характер всякого народного искусства, имеющего общегодность для масс, не для узкого круга любителей, выделенных современными классами общества.
Произведения Панселина в стенной живописи Афонского Протата, к которым мы теперь, после необходимых пояснений, возвращаемся, входят в историю византийского искусства позднейшего периода, с тем же народным характером, и не представляют таких «индивидуальных» особенностей мастера, которые бы резко изменяли принятую среду художественного предания. Уже то обстоятельство, что сами афонские монахи, с давних пор и доселе, гордясь именем пресловутого Панселина, продолжают видеть его руку в разных афонских обителях, противно всяким данным, показывает, что и в Протате они не замечают «резких» особенностей. Но и общее изучение фресок, насколько оно возможно ныне через посредство калек (т. е. значительных переделок оригиналов), доказывает ту же мысль. Фрески Протата красивее, щеголеватее, правильнее других афонских росписей, но они входят в общую систему и только внимательное изучение открывает в них известные отступления от схемы, притом, в двух направлениях: или в сторону древнейших оригиналов (X–XI столетий), или в сторону изучавшихся, очевидно, Панселином итальянских мастеров XV века, или даже некоторые особенности, по-видимому, индивидуального характера. При первом взгляде на протатские фрески, поражает античное изящество фигур, моложавые типы многих апостолов, святых, красота драпировок, нежная моделировка округлых лиц, общая приятность экспрессии, особенно заметная после мрачных, насупленных, истощенных аскетизмом фигур, изображенных в трапезе Лавры, или Ксенофа. Словом, в первые минуты Панселин кажется представителем лучшего византийского стиля X–XI века и, при современном состоянии закопченных и покрытых вековою пылью фресок, легко понять увлечение этими произведениями русских и особенно западных поклонников византийской иконописи. Только при усиленном внимании и более продолжительном осмотре видишь, как изменен, ослаблен и обезличен здесь византийский стиль, которого схема сохранена и передана, с явным желанием подражать старине, но как бы растворена индивидуальною манерою выработанною на изучении итальянской живописи.
Так, напр., образ Спаса Эммануила в наддверной фреске Протата, изображающей «Недреманное Око» (рис. 22), представляет нам византийскую композицию во всей ее чистоте: Младенца, дремлющего с открытыми глазами на ложе, и по сторонам (слева и справа от двери) Архангелов Михаила и Гавриила, стерегущих Его покой (вместо позднейшего изображения Богоматери и Архангела, преклоняющихся у ложа, и двух ангелов, несущих орудия Страстей Христовых). Образ, во-первых, помещен с замечательным художественным пониманием над входною дверью, так как Архангелы стоят ниже недремлющего Творца, и во-вторых, с духовным поучением на тему об аскетическом послушании в его монастырских правилах. Затем, образ Эммануила представляет, действительно, Младенца, дитя, не отрока в возрасте от 10 до 12 лет, как изображают Его Византийская и русская иконопись, и натурально возлежащим на ложе, даже в детской одежде, а не в апостольских ризах, как в нашей иконописи. Младенец подпер голову правою рукою в естественной позе дремлющего и размышляющего, но в правой держит, согласно с обычным изображением Эммануила, свиток. Самая фигура дитяти напоминает венецианские оригиналы первой половины XVI века.

22. Протат. «Недреманное Око».

23. Образ И. Предтечи в Протате.

24. Протат. И. Предтеча.
Два изображения Иоанна Предтечи, один (рис. 23) в профиль из иконы «Деисуса» и другой (рис. 24) фрагментарный, впрямь, остаток иконной фрески, представляют столь же незаметные и слабые, но характерные отступления от древнего типа. Казалось бы, здесь мы видим того же слабаго плотью, но сильного духом и возбуждением аскета, с большою, сухою головою на тщедушном теле, сухими, костлявыми членами, взъерошенными и всклокоченными волосами, развевающимися по плечам, резко уставленным взглядом, как привыкли видеть в произведениях X–XII столетий28. Но, вглядываясь внимательнее, видим, как в данном случае этот характерный тип подвергся некоторой переработке: вместо грубых накидок из верблюжьего волоса здесь взят широкорукавный хитон и обделан мелкими, почти элегантными складками, и в самом рисунке головы и локонов наблюдается артистическая волнистость, во взгляде мягкость, а в сжатых губах подчеркнута вдумчивость. Прибавим, кстати, что отдельных лицевых изображений Иоанна Предтечи с длинным посохом, конец которого украшен крестиком, мы не знаем пока в древней стенной живописи, с характером икон, какие встречаем, напротив, в большом обилии в периоде XVI–XVII столетий.
Образ погрудный ап. Петра (рис. 25) и такой же ап. Павла (рис. 26) представляют столь сильное изменение всем известных византийских типов (почти портретов) верховных апостолов, какого не знает восточная иконография до конца ХVІ века. Не будь надписи, мы только с колебанием могли бы признать ап. Петра в изображении, несмотря на апостольские облачения и на сохранение известных признаков типа: вместо курчавых волос рыбака мы находим здесь гладкие волосы, вместо резкого и быстрого взгляда – кроткий, тихий, как бы увлаженный взор, совершенно измененные контуры носа (вина, быть может, рисовальщика кальки?), сухой очерк губ и волнистую небольшую бороду. Мы не помним, затем, чтобы в чисто византийских изображениях апостола Петра, представляемого в иконографии по преимуществу живою натурою, был употребляем такой прием ораторской позы, какой виден здесь в правой руке, положенной внутрь складки верхней одежды (как если бы здесь была римская тога, не греческий гиматий). Рука же, затем, указывает на полураскрытый свиток послания апостола: равно и эта форма изображения ранее XVI века нам в византийском искусстве неизвестна. Образ ап. Павла представляет столь близкие аналогии с иконописным ликом апостола на русских иконах XVI–XVII стол., что невольно приходит на мысль видеть в этом также лишнее свидетельство о переменах, внесенных в иконографию Панселином, конечно, в зависимости от совершившегося уже ранее его движения, а равно и указание на то, что русская иконопись очень живо усваивала себе во второй половине XVI века новые греческие произведения. Не имея нужды повторять то, что было уже нами сказано о типе ап. Павла в византийском искусстве по поводу эмалевого медальона Апостола в собрании А. В. Звенигородского, мы укажем только на изменения в новом типе, предоставляя в прежнем описании сравнить его с мозаическим изображением в Константинопольской церкви монастыря Хора – ныне Кахрие-джами, которое мы считаем лучшим византийским представлением Апостола Павла (как и изображение ап. Петра, рядом находящееся в этой церкви). В новом типе мы не имеем, прежде всего, той грузной, массивной и импозантной фигуры Савла-гонителя, какую знаем в рукописи Космы Индикоплова и в последующей византийской разработке: здесь Фигура Апостола тонкокостная, узкоплечая, сухая, мелкая, нервного сложения; обратим внимание, напр., на тонкие руки с длинными пальцами. Борода, волосы на висках и усы сохранили еще прежний характер, но лицо резко переменилось в самом очерке: все черты стали мельче, тоньше, лишились силы и характера и представляют, скорее, тонкого, но сухого богослова, чем вдохновенного творца посланий и Христова ученика «по духу». Как на внешний признак позднейшей эпохи и перемен в типе можем указать и на то, что здесь Павел держит, в отличие от Петра, уже целую книгу «Посланий», как-то жеманно охватывая ее обеими руками, хотя и не поднося ее, видимо, к Спасителю.
Напротив того, сравнительно с этими изображениями, величаво-античная фигура изображенного во весь рост апостола Фомы представляет так много чистого византинизма самых лучших времен X столетия, что первое ее впечатление неотразимо наводит на предположение о каких-либо нам неизвестных, но еще существовавших в XVI веке древних шаблонах, которыми должен был пользоваться Панселин. Калька Севастьянова в данном случае мало дополнена рисовальщиком и потому сохранила, более других, благородство свободного рисунка, даже некоторую тяжеловатость античных форм, которую представляет всюду Византийская живопись VI–IX столетий и знает еще частию X век, но которая сменяется всем известными удлинениями фигур и пропорций уже в начале XI века. Здесь все, от постановки медленно движущейся фигуры, легкого ступания изящных ног, мелкой разделки складок тонкого льняного хитона, широких, красиво драпирующихся складок гиматия, положений рук и самых пальцев правой руки и т. д., напоминает нам лучшие мозаики Равенны и древнейшие лицевые рукописи. Единственное, что мы можем выставить против Панселина, как доказательство его произвольного отношения к древним характерным типам византийского искусства, это – голову апостола. В нашем изображении это голова аттического юноши, с тонкими чертами, слегка даже скошенным овалом (левая сторона развита более правой, что, вероятно, было в оригинале наоборот, но, благодаря «переводу» шаблона, вышло именно так), вдумчивым взглядом, сухим и тонким ртом, что могло бы идти к другим апостольским юношеским типам, но как раз не к ап. Фоме, которого изображения (обыкновенно в сцене «Фомина неверия») представляют простоватым (с точки зрения Грека) юношею, широким лицом, крупными чертами, даже с вздернутыми бровями, как человека, страдающего легкомыслием и излишним любопытством. Наша голова наиболее приличествовала бы великом. Димитрию, юноше знатного рода, высокого и тонкого ума.

26. Протат. Ап. Петр.
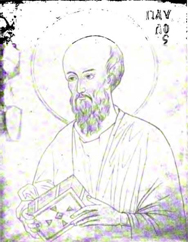
26. Протат. Ап. Павел.
В позднейшей иконографической (пожалуй, даже афонской, если можно так выразиться) манере представлен св. Антоний (рис. 27), по-видимому – не Антоний Великий, и без приписи этого эпитета (обычность подобных эпитетов и прозвищ в протатских фресках общая и с позднейшими Фресками Лавры, Ксенофа и пр.), но преподобный инок этого имени. Не зная точно этого последнего обстоятельства, можно сказать только, что головное покрывало этого святого, обычное для изображений сирийцев: Иоанна Дамаскина и др., быть может, указывает на Антония преп. Египетского или Великого. Главное доказательство позднейшей эпохи заключается в движении правой руки, стягивающей на груди мантию илимилоть, обвивающую плечи, шею и голову: тот же прием найдем во Фресках Лавры. На груди преподобного резной деревянный крестик позднейшего типа, как тельник, висит на шнуре. Голова преподобного взята в обычном типе монашествующих, сухих и малых телом, с острым взглядом, сжатыми губами, маленькою бородою.

27. Протат. Антоний Великий

28. Образ преп. Симеона Столпника
Живее и характернее подобный же образ (рис. 28). Симеона Столпника на Дивней Горе († 596 г., бл. Антиохии), хотя мы не имеем в настоящее время другого изображения этого святого, встречающегося в наших подлинниках с чертами столь общими, что они, явно, сочинены по шаблону изображения иных столпников. Как бы то ни было, живопись Панселина, очевидно, имела, в виду характерность и даже индивидуальность в изображении святых, а эта черта составляет немалую заслугу, если мы сопоставим ее с полным безличием русских новейших подлинников и иконостасов работы современных живописцев.
Напротив того, изображение Иоанна Златоуста, (засвидетельствованное надписью), если только оно не передано калькою совершенно фальшиво (рис. 29) против оригинала, который мы не могли рассмотреть на месте, должно считать крайне неудачным отступлением от характерного типа иерарха в древнем византийском искусстве. Лучшее изображение Златоуста мы думаем видеть в мозаике алтаря Палатинской капеллы в Палермо, доселе нигде не воспроизведенной, как она того заслуживает: там представлены, согласно легенде об их явлениях, три великих святителя: Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, все трое столь типичные служители алтаря, столь высокие и своеобразные характеры, равные по силе, но столь разнообразные по мысли и направлению ее отцы церкви. Из них Иоанн является лучшим образом, какой мы знаем в искусстве, нервной натуры, тревожно-болезненной, глубоко-возбуждающейся и болеющей за человечество души, способной на проклятие и благословение, чуждой всяких сделок с совестью и уступок сильным мира сего. Мозаическая голова Златоуста кажется почти портретом святого, особенно в сравнении с двумя святителями, имеющими общетипические греческие черты: мы видим очень большой лоб, очень редкие волосы, едва покрывающие череп, резко очерченные (не насупленные) брови и уставленный острый взгляд, сухой и длинный нос, крайне малые сжатые губы, особенно характерное сужение овала к низу, узкий подбородок и легкую бородку, вернее, несколько прядей, едва опушающих подбородок внизу. Все это так или иначе изменилось у Панселина, изобразившего общий тип кроткого, хотя глубокого по уму, святителя, преклоняющегося перед Спасителем: вместо редких волос совершенно голый череп и добродушно-покойное выражение глаз и губ, нос с горбиною, небольшая бородка, сгорбленная фигура. Скорее прежний тип Иоанна Златоуста мог бы быть указан в лике патриарха Константинопольского Германа (рис. 30), не будь на этой прориси столь явных показаний модернизации, особенно заметной в голове и взгляде.

29. Протат. Св. И. Златоуст.
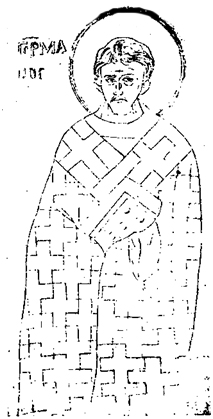
30. Протат. Патр. Герман.
Впрочем, нельзя отрицать и большой характерности этого типа, каким бы путем он ни составился, для знаменитого подвижника иконопочитания и тонкого мыслителя: так своеобразна эта маленькая голова, задумчивый взгляд в сторону, тонкий, чисто аттический, овал лица, сильно суженный и чуть косой, крепкие и правильные черты, тонкие, нервно сжатые уста, плоские брови над большими глазами, маленькая бородка. Риза Святителя в кальке только намечена.
Столь же изящны в своем тонком аттическом типе головы юных святых Вакха (рис. 31) и Анемподиста (рис. 32). Св. Вакх, римский военачальник, приближенный имп. Максимиана, пострадавший в ссылке на Евфрате, между 290 и 303 годами, представлен здесь в патрицианском полувоинском одеянии: на плаще его большой тавлий, вышитый узорами, из золотной ткани (рисунок ошибочно передает узоры только под всею гривною, вместо того, чтобы представлять четырёхугольную нашивку, какою был тавлий, но кому принадлежит эта ошибка – Панселину или его копировщику, нам неизвестно). На шее святого висит золотой torques, гривна, которую Панселин (уже ошибочно) изобразил гладкою, не витою, и усаженною камнями и жемчугом, что также невозможно для круглой гривны, носимой на голой шее. Голова Вакха взята в типе Георгия, тогда как изображение св. Анемподиста (знатного юноши, пострадавшего в Персии в 345 г., с Акиндином, Пигасием, Афонием и Ельпидифором) отличено более духовным и более нежным типом юношеской, мечтательно-невинной головы, слегка склоненной на бок.
Но афонские росписи любопытны по оригинальной декорации приделов, нарфиков, фиалов, часовен и притворов, от которых мы знаем мало византийских образцов. Не входя в подробности, излишние для вашего обзора, заметим, что многие приделы заслуживают даже особого исследования. Так, придел вм. Димитрия в соборе Ватопедском, конченный росписью в 1721 году, показался нам и любопытным, и хорошо сохранившимся: поновлены нижние части, но оставлены почти нетронутыми (в новейшее время) верхние, разве «освежены» в головах, хотя есть части, переписанные в самое последнее время («Явление ангела Иосифу», «мучение Памфила» и др.). Купол также переписан: изображен Вседержитель и хор Ангелов по сторонам Ангела Господня. Ниже пророки. В барабане по двум сторонам «оба Нерукотворенные образа»: «св. убрус (ТО АГІОN МАNΔІΛΛΙON) и св. чрепие или черепичная плита с отпечатлившимся на ней Нерукотворенным ликом (ТО АГІОN КАІРАМΙON (sic)) Чрепие представлено красным, с надписью: О WN, но лики совершенно сходны в обеих иконах. Следовательно, разность ликов в двух Нерукотворных образах на стенах Спасо-Нередицкой церкви должна, иметь свое особое значение29, тогда как здесь все написано по указаниям греческого подлинника. Среди образов Спаса в Его человеческом лике помещены два «ангела господня» в кругах по грудь. В алтаре представлена «Евхаристия». Но затем все тяги арок по трем сторонам покрыты изображениями мученических подвигов Алексия, Акепсимы, Артемия, Иллариона, Климента, 70 апостолов и пр.

31. Протат. Св. Вакх.

32. Протат. Св. Анемподист.
Поддужные арки сплошь покрыты сценами усекновений, причем голова мученика лежит внизу, осененная нимбом. На стенах продолжается тот же круг поясами, и художник с таким искусством разнообразит тему, что ни положение мученика, ни приемы палача не повторяются иначе, как через большие промежутки: он, видимо, черпает из обильных иллюстраций Миней и Менологиев. Насколько неприятно поражает здесь всякая натуральность, настолько отдельные фигуры святых, поставленные внутри арок, кажутся величавыми и характерными. Таковы, напр., Симеон Богоприимец, Исидор, Вукол Смирнский, Парфений Лампсакский, фигуры отшельников: Макария Египетского, Евфимия, Максима Проповедника и пр., размещенных почти где попало, среди сцен подвигов, по указаниям календаря на февраль месяц. На первый взгляд, такая хаотичность кажется даже неуклюжею и забавною, но через несколько времени к ней привыкаешь и начинаешь находить ее живою и вполне уместною. Византийская архитектурная строгость в чередовании полей и фигур в стенописи хороша, когда она дана в меру, иначе она порождает скуку и тягостное ощущение в зрителе. Беспорядочная размалевка иных афонских стен в притворах и фиалах указывает на потребность чем-либо оживить однообразное построение восточных росписей. Особенно счастливою мыслью показалась нам роспись всего низа стен на высоте человеческого роста идущими группами, или по-гречески «хорами» праведников, святых, иерархов, пророков, предводительствуемых ангелами; к сожалению, группы полузакрыты стасидиями.
Роспись Лаврской трапезы представляется древнейшим, богатейшим и лучшим в художественном отношении памятником этого вида росписей. По мнению Преосв. Порфирия30, весьма основательному, Лаврская трапеза могла быть расписана тем же критянином, монахом Феофаном, который расписал между 1535 и 1564 гг. соборы Лавры, Ставроникиты и Ксенофа.
Громадная, крестообразно расположенная, с абсидою на одном конце и входом на другом конце, противолежащем западной стороне собора Лавры, палата трапезы имеет деревянный потолок, очень высока и освещена окнами, расположенными в верхней ее части. Во всю длину палаты, по ее стенам, расположены сиденья деревянные, в форме сигмы, обходящие овалом столы, мраморные, из крестообразных плит. На высоте одного аршина от сидений тянутся темно-серые, одноцветные панели, а затем выше все стены, до самых потолков расписаны сплошь множеством фигур, отдельно стоящих, сцен, чрезвычайно сложных и разнообразных, и несмотря на аскетические темы и типы, целое представляет привлекательную декорацию, хотя строго религиозного характера и поучительного содержания. Нельзя не пожалеть, что в самое последнее время, а именно в 1860-х годах а затем в 1886 году вся эта роспись была освежена, т. е. переписана, и современный мертвенно-серый фон нижних панелей обязан, видимо, этой переделке.
Трапеза была некогда расписана и снаружи, по крайней мере, с лицевой стороны, на которой доселе сохранились: над входом образ Панагии, с предвечным Младенцем на лоне, и пророки, о ней благовествующие. Но остальная роспись фасада уже разрушена, и видны только части больших фигур, изображенных в ряд по фасу; у входа вновь и с нарушением всякого ансамбля нарисованы архангелы Гавриил и Михаил; уже в новой иконописной манере конца XIX века, с итальянскою миловидностью, с тенями от ног на земле и пр. Навес перед фасадом на деревянных столбах истлел и грозит разрушением, как и многие части Лавры. Самая палата трапезы ныне стоит открытою и без употребления, так как Лавра перешла от киновиального общежития к идиориему или штатному сожительству, и, при наступивших в последнее время тяжелых денежных обстоятельствах Лавры, приходится ожидать быстрого разрушения драгоценного памятника. Уже и теперь, для укрепления стен, верхняя часть росписи пробита связывающими стены балками, а между тем крыша остается худою и кое-где просвечивает, окна не вставлены и частью заложены.

33. Трапеза Лавры св. Афанасия
Войдя внутрь трапезы, у самого входа, на входной стене и над дверьми и по обе стороны видим сложное изображение Страшного Суда, разнятое в виде ряда сцен и детальных композиций, снабженных длинными греческими надписями уставного письма. Вверху представлен Судия: Христос-Вседержитель, в кругу, на херувимах и серафимах и по сторонам его Предтеча и Богоматерь, стоящие, и 12 Апостолов на своих торжественных седалищах. По арке (табл. III) над дверью четыре ангела, преклоняющиеся перед Славою Господнею – любопытное сочетание иконографической темы с местом для нее на тяге арки, правда, весьма нередкое в византийском искусстве, унаследовавшем вкус к подобным приемам «скенографии». По обе стороны арки поставлены дважды фигуры в препоясании рабочего и в войлочном петазе с надписями евангельских текстов: на одной – ἑφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων и пр. и на другой – ἑφ’ ὅσον οὐκ ἐποιήσατε и пр., и в стороне группы людей, обращающихся к Судии со словами признания, по Евангелию, на тему: «когда мы видели Тебя алчущим» и пр.31. Подобные иллюстрации предметов и лиц, упоминаемых в тексте, без всякого отношения его к смыслу, вошли в силу в византийском искусстве уже при конце его и, в большинстве случаев, только уродуют его иконографию. И настоящая не составляет исключения: не к чему было изображать «малейшего из малых сих», когда речь идет уже о совершившемся моментально Суде, и обе стороны входа ясно представляют праведных или воскресших для жизни вечной и грешников, воскресших для муки вечной. Первое царство изображено направо от входа: представлен «уготованный престол» ἡ ἑτοιμασία τοῦ θρόνου: кресло резное, с крестом, копием и тростью и Евангелием на покрытой подушке; по сторонам павшие на колена Адам и Ева (имена надписаны) как образ всего преклонившегося праведного, искупленного человечества. Ниже на это видение ангел указывает лежащему и проснувшемуся Даниилу. Во гробе подымаются с мольбою к Богу воскресшие. На левой стороне две группы воскресших, группа ангелов и несколько демонов, спорящих за жертвы перед весами: ό ζυγός τής δικαιοσύνης. Огненная река течет, расширяясь, и в нее ангел погружает вынырнувшего грешника.
Согласно с построением росписи на входной стене, боковые стены представляют рай и ад и дополнительные сцены Страшного Суда. Справа от входа (рис. 34) большая группа праведных: апостолов (с Павлом во главе), Пророков (с Давидом и Соломоном), Святителей (И. Златоуст и пр.), мучеников входят, предводительствуемые Петром, открывающим запертую дверь в рай: над входом херувим с двумя копьями и надпись: ἡ φλογίνη ῥομφαία. За этим входом в двух картинах, одна над другою, – образ Рая: Богоматерь на троне с 2 ангелами и входящий из двери благоразумный разбойнике, а ниже этого Исаак, Авраам и Иаков, сидящие на скамье, держат в покровах крохотные головки душ праведных. Наверху, окруженные славою облачною, как бы густою листвою, движутся к Судии группы отшельников, святых жен, монахинь, мучеников, святителей и пророков.

34. Лаврская трапеза: роспись справа от входа.
Именно в этой части росписи есть места, по-видимому, уцелевшие от переписывания и сохранившие высокую красоту фигур, хотя чересчур удлиненных, и ликов благообразных, с тонким овалом, строгою правильностью и вместе миловидностью черт. Правда, в крайней схематичности драпировок, в мертвенности поз и выступающих ног, в мелких морщинах, покрывающих сетью лица старцев, в однообразном выражении всякого лица, в какой-то истощенной красоте типов сказывается мертвящая рутина и застой, бессмысленно кружащийся в паутине мелочных внешних форм и приемов. Это состояние мертвенного застоя наступило для византийского искусства задолго до падения Константинополя и унаследовано мастерскими Афона, но в лучшие эпохи оживлялось новыми движениями, как напр. в ХVІ веке вообще и во время Панселина в частности. И, тем не менее, господство рутины привело афонскую иконопись к неизбежному результату всякого застоя: разложению той самой основной традиций, которая сохраняется только под условием жизни в искусстве, т. е. дальнейшего совершенствования внутреннего или формального. Стоит только сравнить эту роспись Страшного Суда в Лавре с аналогичною росписью в нартексе Ватопеда (рис. 35), чтобы видеть, какую мертвую и сухую схему представляет афонская стенопись, когда она не затронута каким-либо художественным движением. Ватопедская картина Суда скомпонована в характере многоличной иконы и стеснена на пространстве, втрое меньшем против Лаврской росписи того же Страшного Суда, и между тем обе росписи почти тождественны в составе и чрезвычайно близки по композиции и рисунку. И здесь те же Адам и Ева по сторонам трона, бедный, группа праведных, хоры пророков, иерархов, мучеников, аскетов, то же шествие в рай и символические образы Рая и пр. Но все это исполнено в скудном ремесленном пошибе, который превратил былое, правда, несколько вычурное изящество византийских условных драпировок в тупую, скучную схему. И следа нет прежней миловидности молодых лиц и характерности в типе старцев, нагие фигуры и прямо уродливы.

35. Ватопед. Страшный Суд в нарфике.

36. Лаврская трапеза. Справа от входа.
И в развитие темы лаврская картина (рис. 36) несравненно живее и богаче ватопедской: в первой целая стена посвящена сценам Воскресения мертвых и адских мучений; в этих сценах очевиден, некоторый творческий замысел и желание представить традициональные формы живее и разнообразнее. Ангел трубит над землею. Земля идет на льве, и лев изрыгает детскую фигуру, а рядом хищные звери и птицы, гады, фантастический грифон и пр. возвращают проглоченные ими куски тел. Четыре царя в ряд сидят на тронах: Навуходоносор, Кир, Александр с обнаженным мечом и Август с копьем, и посреди них бьются падающий баран (по надписи Дарий) и козел – Александр32. Это, очевидно, прибавка некоего книжника – в Ватопедской росписи этого нет. Но в обеих росписях представлено по обычному способу, но не в кругу четыре зверя, а в море, где видно и олицетворение моря; из них над грифом надпись: Тό πρώτον τοῦ Θηρίωνος , подобие медведя (ὡς ἄρκτον), барса, зверь рогатый в т. д. четыре зверя апокалипсиса, изображенные очень наивно и грубо. Ниже всего остального представлена разверстая пасть адского змия ό σκώληξ, проглатывающая огненную реку с жертвами и демоном на двуглавом морском чудище, а в стороне, в 10 отделениях, изображены адские мучения. Лаврский живописец, видимо знакомый с натурализмом европейской живописи, старался достичь именно в передаче адских мучений реальности и в формах и в колорите, при помощи светотени, моделировки тонов и пр. Так фигуру дымчатого демона с вылезшими из орбит глазами мастер выполняет разными тонами сепии и индиго, внешний мрак передает зелеными тенями и красноватыми отбликами на телах людей. Тартар представлен двумя царями. Отступник Юлиан обвит змеею. Представлены в типических образцах: οί φιλήδονες, κλέπται, προδόται, μεθύσοι. Скрежет зубов представлен людьми, мучащимися в пламени. Наиболее любопытен антихрист, в богатых одеждах, окруженный людьми и демонами.

37. Трапеза Лавры св. Афанасия. «Лествица» Климака.
В поперечном нефе понизу написаны поучительные и эмблематические сцены: жертвоприношения Исаака, Илии в пустыне, получающего приношение хлеба от ворона, древа Иессеева, вселенских соборов (первого), Лествицы Иоанна Климака, жития Герасима и пр. Выше в том же и в среднем нефе помещены сцены из житий Иоанна Предтечи, св. Евграфа, Ермогена, Патапия, Николая Чудотворца, Игнатия, Афанасия Афонского, Космы и Дамиана, Пигасия, Афония, Акиндина, Ельпидифора и Анемподиста, Акепсима, Павла Исповедника, Киприана, Дионисия Ареопагита, Сергия и Вакха, Пелагии, ап. Иакова, Евлампия, Филиппа и др. Верхний пояс среднего нефа образует цикл евангельский и сюжетов протоевангелия. Ниже евангельского цикла в среднем и поперечном нефе расположены по числам Минеи, начиная с угла слева от абсиды, в типе ватиканского Менология, с деяниями и мученическою кончиною святого. Минеи охватывают два начальных месяца: сентябрь и октябрь.
Лествица Климака представлена (рис. 37) в одной (в миниатюрах: выходной) сцене восхождения по лестнице добродетелей монахов, с ангелами, помогающими и демонами, стаскивающими слабых и грешных в геенну огненную, разверзающуюся у подножия. Справа из монастыря вышедшая группа монахов поучается игумном. Спаситель принимает достигших вершины, держа рукописание: «приидите вси труждающиеся» и пр., все это по шаблону, подробно описанному в «Подлиннике» и малоинтересному33.
Но среди известных банальных изображений мы встречаем здесь две особо любопытные и многознаменательные сцены поучительного содержания, назначенные приучать аскета к непрестанному размышление о смерти и распространившиеся в византийской иконографии с XIII столетия, времени появления обильной аскетической литературы этого рода, зачастую с обильными же иллюстрациями.
На одной фреске (рис. 38) видим посреди двух высоких и обнаженных скал (образ пустыни – в данном случае, мировой пустыни), на сфере, как бы несущейся в пространстве, образ смерти, победоносно стоящей с косою в руках.
Над смертью надпись: Τό δέ μου δρέπανον πάντας ἀνθρώπους καὶ γίγας διχάσει θάνατος, καί τάφος γάρ κατασταθήτω μου η ἐξουσία ἐκ τῶν ἀδυνάτων φεύξασθαι τούτου τοῦ ποτηρίου. По всей земле, между скал, навалены тела умирающих, как спелого хлеба, скошенного косою смерти: воинов, знатных, духовных, черного люда. В пещере у подножия скалы, у входа сидит отшельник и скорбно дивится всемогуществу смерти. Справа от смерти видно раскрытое сияние духовного неба, ангелы несут к нему праведные души, спеленатые и прикрытые покровами, другие принимают эти души внизу от умирающих; то же с грешными душами творят черные демоны, мечущие нагие души грешников в адский огонь, пылающий из жерла адской пропасти внизу.

38. Трапеза Лавры св. Афанасия.

39. Трапеза Лавры св. Афанасия.
Следующая поучительная картина (рис. 39) относится к разряду неизвестных аскетических поучений о смерти. Престарелый отшельник, Сисой Великий, египетский аскет, среди пустыни (обозначенной по греческому способу двумя скалистыми холмами) находит разверстый гроб и, видя внутри его человеческий скелет, предается сокрушению; сбоку греческая надпись: ὁρῶν σέ, τάφε и пр. взята из Иоанна Дамаскина и в славянском переводе гласит следующее: «зрю тя, гробе, и ужасаюся видения твоего, и сердечно плачущую слезу проливаю, долг душе дательный, во уме своем приимаю, како убо прииму конец, увы и такового, о горе, о горе, ох, ох, смерть, кто может избежати тя» (до сих пор). Текст этот приводится обычно и в наших Синодиках и сопровождается соответственными миниатюрами, но человек, скорбящий над гробом, или сам Иоанн Дамаскин, на свитке которого написано также: «приидите и плачитеся на гробе; где доброта человеческая, где красота?», или мирянин, или даже группа монахов с игумном, их поучающим, согласно обычному византийскому приему иллюстраций в подобных аскетических книгах34.
Не входя в дальнейшие подробности (быть может, однако, более интересные, чем общее сравнение), но ради указаний на историческое значение этих стенописей, кратко отметим, что они вполне соответствуют знаменитой фресковой росписи Пизанскаго Кампо Санто, с его знаменательными в истории итальянского и мирового искусства сюжетами: Триумфа Смерти и Страшного Суда. Известно, что центральная картина так называемого «Триумфа Смерти» представляет35 также сцену беспощадного избиения человеческого стада смертью, слетающею с небес в диком, неотвратимом порыве, с косою, замахнутою над жалкими ее жертвами. И здесь смерть является «гигантскою» фигурою (не скелета, но старухи), и место действия также глубокая долина у подножия гор, «долина плача», и здесь ангелы и демоны принимают и уносят души в небесные обители и в адский огонь, разверзшийся здесь (по условиям сцены) наверху, в скалах. Но здесь сцена триумфа обставлена, как известно, встречею трех трупов в раскрытых гробах кавалькадою знатных кавалеров и дам и поучительною проповедью им блаж. Макария, далее: сценами из жизни (anacoreti) отшельников (Илариона, Макария, Павла, Антония, Марии Египетской, Пафнутия и Онуфрия) со сценою «веселящейся компании» (gaudenti). Сцене отшельнической жизни в греческой иконописи (и стенописи, вероятно) отвечает у греков икона жития св. Ефрема, о которой скажем особо, тогда как сцена веселой компания, явно, итальянского происхождения и литературной закваски (Боккаччо). Самые надписи в литературной итальянской переделке отвечают греческим по смыслу и характеру: «О Morte, medicina d’ogni реnа, Dè vienci a dare omai l’ultima cena»! «Io non attendo (ad altro) che a spenger vita, Menando la mia falce si attondo, Infino a che nessun ci rimarrà» etc. Подробный разбор отношений афонских фресок XVI–XVII веков к итальянским XIV века требует анализа обширной группы византийских аскетических композиций в период XIII–XVI веков и в данном случае неуместен.
В среднем нефе креста, образуемого расположением трапезы, расписано три пояса, один над другим: по низу, на виду у трапезующих, стоят преподобные, держа на развернутых свитках, перед глазами зрителей, свои изречения о монашеской жизни, обыкновенно из семи-восьми строк, крупными буквами. Выше сплошной ряд неразделенных картин из Миней за сентябрь и октябрь, еще выше сцены акафиста Божьей Матери, жития Иоанна Предтечи. В боковых рукавах креста представлено житие св. Афанасия Афонского, Древо Иессеево и пр. Все это сильно переписано и потребовало бы продолжительных технических осмотров, чтобы решить, насколько уцелело в росписи древних образцов: многие из прорисей собр. Севастьянова сняты с фресок Лаврской трапезы, но, по-видимому, с того времени трапеза была опять переписана, и изображения не подходит вполне к тому, что мы видим в настоящее время и что представляют изданные здесь фототипии (табл. IV–VIII), но какая тому причина, не знаем, так как возможно, что иные прописи сняты с фресок других монастырей, также переписанных или потемневших с того времени и ставших неразличимыми (как напр. трапеза в Ксенофе), или даже вовсе исчезнувших – все это на Афоне обстоятельства, не только возможные даже в такой краткий период 40 лет, но даже совсем обычные.
В порядке следования, по левой стороне главного нефа (табл. IV) изображены: Св. Евфросин, Алексий Божий человек в короткой тунике (голова напоминает Предтечу в картине Иванова). Иоанн Колов († около 422 г.), известный своим послушанием (выращенное им вновь поливкою сухое дерево) подвижник горы Нитрейской в Египте, в монашеских одеждах, но не малорослый, как предполагают по его прозвищу, мощная фигура старца с большою окладистою бородою. Павел Латрский (в окр. Милета, † 955 г.), пастух, игумен, отшельник: высокохарактерная голова (прорись Севастьянова лучше и своехарактернее, брови не нахмурены, на голове только чуб волос, благословение не именословное, но троеперстное), поверх меховой милоти монашеский аналав; фигура при Севастьянове была снизу разрушена, ныне одежда реставрирована уже без понимания. Св. Пимен – наставник Павла Латрскаго. Макарий Римский в отшельнической милоти. Феодор Студит, Феофан по надписи (ό γραπτός = «начертанный») исповедник и «пиит» и брат его Феодор «начертанный», подвизавшиеся в середине IX стол. († ок. 847 г.), из монастыря св. Саввы освященного, и пострадавшие за иконопочитание при Льве армянине. Пр. Моисей Мурин, характерная голова, держит свернутый свиток. Преп. Стефан Новый, кроме развернутого свитка с изречением, держит маленький киот с иконою благословляющего Спаса. Пр. Нил, постник синайский († около 450 г.), мощи перенесены были из Константинополя на Афоне. Св. царевич Иосаф, Макарий Великий († 390), «отец пустыни»: голова преподобного оказывается совершенно переписанною после Севастьянова и имела ранее вовсе не суровую экспрессию. Преп. Мартиниан, палестинский подвижник V века. Максим Исповедник, игумен, обличитель монофелитов, † 662 г. (переписан). Св. Харитон. Феодосий Киновиарх, † 529 г. Затем следует роспись игуменского места трапезы, устроенного в виде абсиды с двумя нишами на западной стороне здания. Согласно с указаниями Ерминии, в концах абсиды представлена Тайная Вечеря (позднейшего типа: Спаситель сидит посреди учеников, к Нему на грудь склонился Иоанн, один из учеников протягивает руку к рыбе, Иуда в конце стола придвигает руку к хлебцу и т. д.) Поверх сцены: Благовещение и пр. Понизу в абсиде святые иерархи: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст с изречениями, начертанными на свитках, и Григорий Палама; в нишах: Иоанн Креститель, проповедующий с крестом в руке, и Богоматерь – «Великая Панагия» с образом Эммануила на груди, воздымающая руки. По стенам налево и направо от абсиды: Антоний Великий, Николай – игумен студийского монастыря, защитник иконопочитания, †868 г. (нельзя не отметить, в видах иконографических, что голова св. Николая здесь явно скопирована с лика Николая Чудотворца Мирликийского). Евфимий Великий, преп. палестинский.
По правую сторону нефа (VII и VІІІ табл.) стоят: Савва Освященный, Илларион Великий. Далее: Феофан ὁ τοῦ μεγάλου ἀγροῦ (на Принкипо) или Сигрианский подвижник, житие которого передано Метафрастом (†818–820 гг.). Давид Солунский (ок. 540 г., 26 июня). Варлаам, учитель царевича индийского Иоасафа. Дорофей, египетский пустынник. Иоанн Дамаскин, сохранивший здесь свой сирийский головной покров, но не тип лица (в прориси весьма моложавый). Косма – Пиит (против кальки Севастьянова вся фигура целиком переделана: голова написана по шаблону, наиболее принятому для отшельнического типа, облачена в головное покрывало, обычное для палестинских и египетских пустынножителей, чего в прориси вовсе нет; самое изречение взято иное). Арсений Великий. Ефрем Сирин († 379 г.), которого лик переписан и утратил цветущий характер мужества. Св. Иоанникий Великий, вифинский преподобный. Св. Андрей, Христа ради юродивый († ок. 950 г.), которого голова исполнена по типу ап. Андрея. Лука Стириот, преп. Элладский или Фокидский, подвизавшийся близ Стирия (род. между 890 и 896, † 946–949), отшельник, прославленный строгостью жизни и кротостью души. Павел Фиваидский отшельник († 342 г.) и почитаемый с ним в один день (15 января) Св. Иоанн Кущник († ок. 450 г.), изображенный, сравнительно с прочими, молодым и с Евангелием в руках, точно так же, как в Менологии Имп. Василия Македонянина. Преп. Кириак анахорет. († ок. 555 г.) и Пахомий Великий Фиваидский.
Роспись церкви Ксенофа во имя св. Георгия исполнена, по надписи над дверью, в 1545 году и, благодаря бедности монастыря, мало переписана и сохранила древний характер. Что живопись имеет пошиб критской школы, в лице Феофана в 1565 году, по преданию, расписавшей храм, возможно и по времени естественно, но надпись называет, ктиторами архонтов Угровлахии, и вовсе не называет Феофана критянина. Над входом (табл. X) изображено «Недреманное Око», выше «Распятие» и «Успение», по своду сцены Страстей, понизу святые по грудь и в кругах. По рукавам большие картины «Крещения, Сретения, Положения во гроб, Воскресения, Тайной Вечери». На восточной стороне чудеса Христа, в абсиде «Богоматерь с младенцем», ниже «Евхаристия», по сводам «Вознесение, Сошествие Св. Духа, Трапеза в Еммаусе, Чудесный лов рыбы, ниже «Евхаристии» Святители.
Во внешнем нартексе, ныне соединенном с трапезою под одною крышею, в нише (рис. 40) написаны ктиторы, на средства которых расписан притвор 20 сценами из Апокалипсиса. Эти ктиторы – господарь Угровлахии Иоанн Матвей Басараба и жена его Елена, оставившие по себе память и на Востоке разными вкладами. В Иерусалимской библиотеке есть Евангелие, украшенное их портретами, весьма близкими к афонскнм, от 1643 года. Надпись называет воеводу Иоанна матайи, то есть Маттэи. Но главный интерес представляют сцены Апокалипсиса, редкость в греческих росписях.

40. Роспись нарфика в Ксенофе.
В своем капитальном сочинении «Об русском лицевом апокалипсисе» Ф. И. Буслаев указал на неизвестность его древнего византийского оригинала: «Наши Лицевые Апокалипсисы», говорит он36, «дошли до нас не ранее как от XVI в. и затем идут до текущего столетия включительно. Все это более или менее копии или переделки давно утраченных оригиналов, характер которых, подновленный, стертый, а часто и искаженный неумелою рукою русского мастера, возможно определить в некоторой точности и в надлежащей ясности не иначе, как только при помощи сравнения с иллюстрациями и другими иконографическими и художественными произведениями иноземными. Сравнение было бы в значительной степени облегчено, если бы в основу исследования можно было положить Византийские оригиналы: но я не знаю ни одного из них, а глава в Афонской Ерминии иеромонаха Дионисия Фурноаграфиота о том, как изображается Апокалипсис, только свидетельствует о сильном упадке апокалипсической иконографии на Афоне в эпоху составления этого руководства». В своем разборе сочинения незабвенного русского ученого мы высказали, что Буслаев ясно и ранее других показал в этой части Ерминии отсутствие чистого византийского образца и иконографию, наполненную западным влиянием. По-видимому – говорили мы – и вообще византийского оригинала полного лицевого апокалипсиса не существовало, за исключением его отдельных важнейших сюжетов. Мы, однако, ограничивали эту византийскую среду рукописями, о которых шла речь в сочинении Буслаева. Ныне мы решаемся повторить то же о стенной живописи37. Древнейший источник апокалипсической иконографии принадлежит древнехристианскому искусству, не знавшему различия Запада и Востока. Величавые оригиналы римских мозаик образуют основу лицевого латинского апокалипсиса девятого века, и этот тип представлен Бамбергскою рукописью Х-го века. Сюда же примыкают стенные росписи романских храмов. Всесильное для этой эпохи влияние византийских образцов на этот раз отсутствует: причина в самом отсутствии византийской редакции лицевого апокалипсиса. Мы не знаем доселе ни в храмах, ни в рукописях, ни одного примера38 такой редакции, и потому являлось особенно интересным знать, насколько апокалипсическая роспись Ксенофа, исполненная в 1640-х (приблизительно) годах, отвечает Ерминии Дионисия Фурноаграфиота, составленной, как то доказано преосв. Порфирием, во время, близкое к работам Дионисия в Карее 1701 года и стихотворным сочинением его же 1733 года.
Число отдельных сцен Ксенофской апокалипсической росписи почти отвечает Ерминии: их 2039, а в Ерминии 24 картины: опущены повторяющияся изображения Бога Отца и старцев. Пересматривая сцены (рис. 41–42) одну за другою, мы будем отмечать только сюжет ее и различия с текстом Ерминии.

41. Апокалипсическая роспись в Ксенофе.

42. Апокалиптическая роспись в Ксенофе.
1. Иоанн Богослов и Христос в облаках (І, 10–20). Иоанн в горной пустыне, не в пещере (подробность древних миниатюр). Христос не препоясан, стоит, благословляя обеими руками, не держа семи звезд, без меча в устах. Нет и исходящего от лика света, и сияние заменено тоже облаками. Сравнивая, затем, данное изображение с русскими миниатюрами («Апокалипсис» Буслаева, рис. краск. 1), мы видим в греческом византийскую композицию и все ее детальные формы, тогда как в русской нет ничего греческого: Эммануил на престоле скорее романского характера, семь светильников тоже, и Иоанн, лежащий у ног Спасителя, также напоминает грубейшее средневековое искусство. В другой миниатюре почти все: и сочинение, и формы свои, русские, по образцу конца XVI в., и Христос препоясан, как того требует Ерминия.
2. Безначальный Отец и 24 старца (гл. V, 1). Сцена передает во всех деталях текст Ерминии40: Отец, агнец семирогий, парящий ангел, фиалы, 4 знамения Евангелистов и пр.
3. «Четыре всадника». (VI, 1–8). Согласно с Ерминиею смерть держит длинное копье, не косу.
4. Жертвенник и души святых мучеников с ангелами (VI, 9–11). Согласно с текстом Подлинника. 5. Гора, трус, народ, падение звезд (VI, 12–17). Тождественно. 6. Земля и море, 4 ветра, 4 ангела, ангел с печатью, ангелы с мечами угрожают ветрам. Ветры, как в Ерминии, в виде голов, не целых фигур. Словом, как указывает Буслаев, здесь тоже господствует западная редакция. Далее №7 Ерминии: Отец, 24 старца и пр. (VII, 9–17) пропущен. 7. Отец, 7 ангелов с трубами, один с курильницею, море и пр., по тексту Ерминии 8-й картины, соединяющей пять русских миниатюр и западных гравюр в одну сцену (VIII, 1–13). 8. Облачный ангел (IX, 1–12) представлен в виде фигуры, окутанной облаками. Низ сцены закрыт стасидием. 9. (Картины Ерминии 10 и 11 пропущены). Жертвенник, Иоанн, зверь, Енох и Илия (XI, 1–14). Но близ жертвенника домов разрушающихся не видно. (Картина 13-я Ерминии пропущена). 10. Панагия, дракон, два ангела держат в пелене Младенца. Звезд в сиянии Пресвятой нет (на них указывает Буслаев в тексте Ерминии как на примету западной редакции), и вместо лучей солнца вокруг всей фигуры Панагии представлен ореол. Наконец, что самое важное – «Панагия», здесь представленная, действительно имеет крылья и, следовательно, изображает собою Церковь небесную, а не Богородицу, как усматривал в Афонском подлиннике Ф. И. Буслаев. 11. Семиглавый зверь (XIII). 12. Гора, агнец, ангелы, падение Вавилона (XIV, 1–13).
Полагаем достаточным этот пересмотр для утверждения близости фресок к тексту Ерминия.
Прилагаем, ради общей характеристики, два снимка (рис. 43 и 44) росписи в монастыре Дохиара: достаточно полный разбор всей росписи этого монастыря дан в книге Брокгауза, к сожалению, только без должной оценки того важного, хотя известного автору41 обстоятельства, что собор Дохиара был весь заново переписан в новейшее время, когда иконография афонских росписей предалась до известной степени распущенному лиризму. Общий снимок (рис. 44) внутренности главного нефа с боковою правою экседрою представляет, правда, незначительную часть фресок, отовсюду закрытых паникадилами, лампами, свободными «иконостасами», стоящими посреди церкви, и утварью, но и эта часть обнаруживает свежую перепись древних фресок: так грубы лики, драпировка стоящих святых, особенно если сравнить их даже с Лаврскою трапезою, и так многочисленны ошибки в складках, в рисунке. Наиболее ясно выказывается новое письмо в резкости «оживок», неприятной сухости складок, режущих глаз своими острыми краями, в пестроте тонов, в глубоких тенях, дурно сгармонированных с резкими бликами, в клочковатых волосах и крайне преувеличенных пропорциях. Редакция иконописных тем принадлежит, однако, XVI веку, или точнее, его концу, так как многое именно здесь отличается от образцов, избиравшихся даже Панселином (по росписи Протата). Достаточно вглядеться, напр., в иконографию сцены «восстановления иконопочитания», чтобы отличить новые черты, вносимые так наз. критскою школою в иконопись: вместо античных облачений, окрашенных в разные оттенки общего полутона: лиловых, коричнево-пурпурных, голубоватых, розовых, бледно-красных хитонов и гиматиев, видим здесь или пестрые, пышные ризы, или одежды темной охры, темно-коричневые, темно-зеленые, синие и т. д., в соответствие глубоким теням. Очевидно, и здесь имеем, неизвестное пока, влияние одной из итальянских школ, причем Панселин держится светлых тонов венецианской стенной живописи, тогда как критская школа переносит в стенопись густые краски иконописного письма на досках.

43. Роспись нарфика в Дохиаре.

44. Роспись собора в Дохиаре.
На рис. 43 легко усматривается иконописное новшество в колоссальном Деисусе, написанном в нарфике: Спаситель представлен здесь как «Царь Царствующих» и как «Великий Архиерей», сидящим на большом троне: на раскрытом Евангелии, положенном перед грудью Спасителя, читается: «царство мое не от мира сего» и пр., – изречение, не занесенное в перечень начертаний на Евангелии, который дается даже Ерминиею42. Иссушенная фигура И. Предтечи также указываете на новейшую перепись. Выше помещены: над дверью образ ап. Павла, обставленный колоннами, потому что оставалось пустое место, и в нише Богоматерь, прядущая, сидя во дворе Иерусалимского храма, и Дух Святой, на нее нисходящий в виде голубя. Затем верхняя часть стены расписана «Акафистом Богородице» в 24 икосах, из которых на рисунке воспроизведены: икосы 17–19, 23 и 24. Все это исполнено согласно (хотя не всегда буквально) с текстом Ерминии: а именно в икосе: «вития многовещанныя» и сцена по тексту, и риторы имеют указанные там белые тиары; «Спасти хотя мир» = Сошествие во ад Спасителя, а не сцена, нарисованная Ерминиею; «стена еси девам» – Богоматерь имеет на лоне медальон Еммануила, а не Младенца, как требует Ерминия; «Поюще твое Рождество» – сзади Богоматери нет диаконов и певцов, и Б. М. стоит на налое с младенцем, перед нею иерарх, диакон, сзади них псальты в скиадиях и скуфьях; «о всепетая Мати» – нет коленопреклоненных фигур.
Несравненно ближе к Ерминии изображение Акафиста на стене внешнего нарфика Ватопедского собора (рис. 45): на рисунке нами передаются лишь немногие икосы: «Слышаша пастырие ангелов», «Боготечную звезду узревше волсви», «Странное рождество видивше», «Весь бе в нижних», «Всякое естество ангельское удивися», «Поюще твое рождество» и «О, всепетая Мати». Все это почти текстуально воспроизводят композиции, требуемые Ерминиею, но резко отличается от древней иллюстрации «Акафиста Богородице», как мы знаем ее через посредство миниатюр. Не входя в подробности, которые были бы неуместны в общем обзоре афонского искусства, и не привлекая памятников со стороны, мы можем как образец древних композиций, привести одну из икон, виденных нами на том же Афоне, по близости Ивера, в убежище бывшего патриарха Константинопольского бл. Иоакима.

45. Роспись в нарфике Ватопедского собора.
Эта замечательная икона находится в церкви св. Евстафия Плакиды, имеет большой размер (90 и 72 сант.), хорошего (рис. 46) письма XVII века, изображает Одигитрию, с надписью этого имени, с двумя ангелами в небесах и «акафистом» на полях иконы. Богородица представлена в пурпуровой фелони и зеленом хитоне, зеленом (т. е. белом) чепце, со взглядом, покойно устремленным на молебщика. Правая рука приподнята в тихом и благоговейном движении, как бы вызванном благословением Младенца. Как на других иконах Одигитрии, нами описанных, хитон Младенца представляет мельчайшую шраффировку, свиток, упертый в колено и большой лоб Младенца, все это – признаки, видимо, относящиеся к неизвестному оригиналу, но повторенные сотнями икон. Но образ исполнен хорошо только в техническом отношении и щеголяет мелкою и сухою выпискою, которая особенно замечательна в крошечных «миниатюрах» акафиста, вновь соперничающих с письмом греческих лицевых рукописей XII века43).

46. Икона Б. М. с «Акафистом в цер. Евстафия Плакиды.
Миниатюры представляют некоторые варианты против схемы, переданной в «Ерминии». Так, 1) «Ангел» предстатель («престатель»): ангел летит с небес поверх стены, а Богородица стоит у крестообразного налоя (а не у колодца), и две служанки в красном и коричневом хитонах испуганно оглядываются, а одна закрывает себе лицо покрывалом. 2) «Видящи святая». И архитектура изящнее, чем в афонском рисунке, и движения живее и понятнее. 3) «Разум не разумены». Мария протягивает к ангелу руки, с выражением недоумения. 4) «Сила вышняго». На фоне разных зданий стоящая и держащая младенца у груди обеими руками Богородица «осенена», т. е. окружена миндалевидным ореолом облачного происхождения и цвета (νεφέλη значило: слава небесная – облачный ореол), над нею отверстое небо. В Ерминии и на афонской фреске Богородица сидит на троне, и по сторонам ее два ангела; на фреске же служанки, держа полог, прикрывают видение. Из небес нисходит Дух Святый. 5) Целование, в сокращенной схеме, без деталей, сообщаемых Подлинником, 6–10) Все пять тем на икосы: «Бурю внутрь имея», «Слышаше пастиры», «Боготучние звязд», «проповедницы», «возсия в египтя», «хотещу симеону» сходны в общих композициях, хотя разнятся по переводам: все миниатюры иконы отличаются лучшими византийскими схемами XI–XII веков, которых высокие достоинства оцениваются при сравнении с темами нового афонского сочинения. Эти афонские сочинения отличаются слащавым выражением, детским реализмом, убогою картинностью и сложностью. 13) «новую показа тварь»: фреска и подлинник представляют Христа, восседящего на троне перед иерархами, причем подлинник даже предписывает изображать Спасителя «на облаках» – деталь, мало уместная, тогда как икона44) представляет Богоматерь с младенцем перед волхвами. 14) «страно рождество»: на иконе (как и в рукописи XII века) в горах пастыри и вол с ослом перед Младенцем в яслях. На фреске Богородица с младенцем на троне перед церковью, кругом народ, в пещерах отшельники. Подлинник требует изображения Богородицы в облаках и толпы, снизу смотрящей на видение. 15) «Вес бог в низних»: на иконе Христос на престоле, в лучах, падающих с неба; сзади стена. Подлинник предписывает для данного случая представить дважды Христа: на облаках и на земле. И на это песнопение лучшая иконописная тема принадлежит иконе. 16) «всяко естество»: на иконе под небом, наполненном ангелами, Богоматерь с младенцем, лежащим в яслях, а на фреске, по требованию подлинника, изображен юный Христос, проповедующий на престоле, среди ангелов. 17) «ветии многообещанеи»: темы сходные, но престол Богоматери с Младенцем на иконе приподнят над толпою. 18) «спасти хотя мир»: среди гор на пологе возлежащий отрок или даже юноша Христос, возле него присевшая Мать, ниже малая фигура «мира» – старца, в типе олицетворений рек, тема странная, и понятно, почему она заменена на фреске «сошествием в ад», только в ином переводе, чем обычный. Подлинник предлагает изображать Спасителя с апостолами среди гор – столь же малопонятную в этом месте. 19) «стена еси девам»: Дева, по сторонам ее юноши и девы, сзади подобие столба или башни. Подлинник и фреска избирают Панагию Младенца на груди, стоящую среди дев. Последнее изображение иконы также отличается от подлинника и афонской фрески: на песню: «пение всякое побеждается» представлена Дева, приемлющая мольбы монаха и указывающая ему на Христа, видного в башне. На фреске Христос среди иерархов, сидящий на престоле: подлинник требует изображать Христа на облаках, окруженным ангелами.
В русском подлиннике XVII века, как он представляется, напр., листками Филимоновского собрания (ныне в Имп. Общ. Люб. Др. Письм. в С.-Пб.), тот же акафист Богородице иллюстрирован опять в древнем типе, как мы знаем его именно через нашу икону, а афонские фрески Ватопеда и других обителей уже значительно отдаляются от этого оригинала, так как составляют целые картины, весьма сложные, многоличные и преувеличенные по смыслу. В самом деле, всякий символизм требует естественно краткости, схематического рисунка, и если напр. Богоматерь, в лоне которой представлен образ Младенца, составляет священный образ «Великой Панагии», «Знамения», «Воплощения», то не следует помещать этот образ в земную среду девиц разных классов и состояний, коронованных жен и пр., как то делает афонская фреска Ватопеда на тему: «стена еси девам». С этой точки зрения все преимущество на стороне иконы и русского подлинника, и все недостатки на стороне Ерминии и афонских фресок. Русский подлинник ограничился в данном случае двумя-тремя фигурами, заветными композициями миниатюр, а в украшениях богатою архитектурою, «полатным» письмом. «Ангел предстатель», «Видящи святия» – происходят среди сложной архитектуры, с висячими мостами, арками и пр. Во 2-й сцене Вседержитель посылает Духа в лучах на Деву. «Сила Вышняго» представляет ангела, уже подымающагося над землею на облаках. В фигурах Девы и Иосифа в сцене: «бурю внутрь имея» русский подлинник гораздо выше, благороднее, сравнительно с греческим оригиналом, который представляет движения Иосифа вульгарными. И вообще «благообразный» Иосиф стал таким окончательно только в русской иконописи. 6–10 подобны греческим. «Новую показа тварь» – уже в отличие от иконы и Синодальной рукописи, русский подлинник приближается к греч. Ерминии и фрескам, но трактует тему по-своему: Христос, ведя за собою всех Апостолов, указывает им на книгу (Евангелия?), лежащую на раскрытом налое. «Странное Рождество» вновь своеобразно: в облаках вверху по грудь видна Богоматерь, подъявшая руки, и перед нею стоит, с головою на ее груди, юный Эммануил посреди горы, держа раскрытое Евангелие; внизу две группы больших фигур святых и отшельников, созерцающих видение. «Весь бе в нижних» – Бог Саваоф в облаках и два летящих ангела, внизу Спас на престоле (с круглою спинкою, как в рукописи Акафиста) и предстоящее: 1. Предтеча и Богоматерь. «Всякое естество» – Эммануил на престоле из Херувимов и Серафимов, в кругу из ангелов. Ноги отрока лобызают внизу две коленопреклоненные фигуры. «Вития многовещанныя» – кроме царя Давида и И. Златоуста по сторонам трона с Богоматерью и Младенцем, внизу еще трое витий со свитками на скамьях и земле, пораженные. «Спасти хотя мир» – русский подлинник представляет бичевание Спасителя. «Стена еси девам» – Богоматерь на подножии, держа обеими руками покрывало, внизу Девы. Лучшее изображение этой темы. «Пение всяко побеждается» – как в Синодальной рукописи, так и в русском подлиннике изображен Христос под сенью, впереди зданий, стоящим с Евангелием на подножии, по сторонам Его святители и иноки. «Светоприемную свещу».
Стенные мозаики Афона представляют сравнительно малый интерес, чем наглядно, в то же время, доказывается то общее положение, что стенные росписи в афонских церквах стали появляться тогда, когда самая мозаическая живопись вышла из употребления, т.е. после падения Византии. Известно, что все стенные мозаики на Афоне сосредоточены в Ватопедском соборе, и что там это исключительное обстоятельство приписано местным преданием (быть может, новейшим) имп. Андронику Палеологу, который будто бы в 1312 году реставрировал разоренный Ватопед, а между 1328 и 1332 годами сам жил в какой-то Афонской обители, подразумевается – в ватопедской. Надпись, о том торжественно гласящая, сама относится к 1819 году. Затем, если иные описатели Афона представляют себе, что некогда весь собор Ватопеда покрыт был мозаиками, то это, явно, грубейшее заблуждение и, по всем видимостям, мозаик и в древности было не более, чем теперь, т. е.: Деисус над входом в церковь, Благовещение по обе стороны входа, Благовещение на столбах, стоящих по обе стороны алтарной арки, над капителями колонн и изображение св. Николая Чудотворца в люнете над входною дверью внешнего нарфика в приделе Николая в Ватопеде.
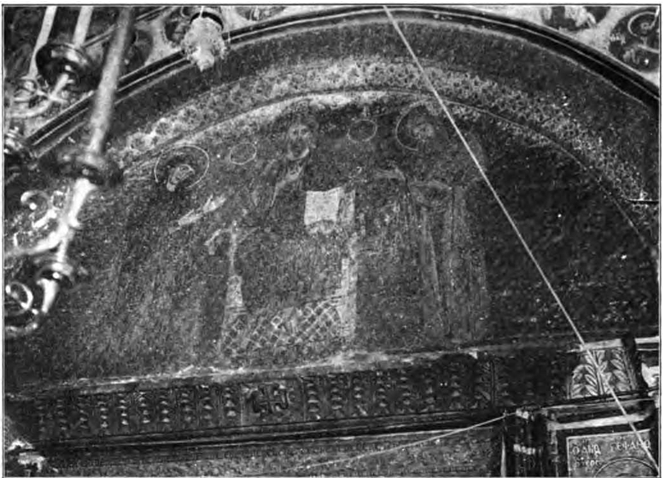
47. Мозаика надъ входомъ въ соборъ Ватооеда.
Мозаический Деисус (рис. 47) отличается всеми недостатками позднейших византийских мозаик: господство орнаментальной стороны над прочими сторонами в рисунке, грубые кубики, нечистые цвета, вместо изящных драпировок мельчайшие штрихи с прослойкою бесцветным шифером, черные контуры, тяжелые и нехарактерные типы. Как ни трудна была попытка фотографирования мозаики, погруженной во тьму, на рисунке 47 можно видеть все эти свойства и рядом особые недостатки самой темы, требовавшей ограничить изображение тремя фигурами и наполнить ими внутренность большой ниши, так что получились большие пустоты по сторонам. Спаситель, на слишком высоком и слишком монументальном престоле, с Евангелием, на коленах раскрытым, благословляет перед своею грудью: тип происходит от древних мозаик, но слишком грубо и резко передает заветные черты, как льняной цвет волос, суженый овал лица, большие глаза, мощное сложение. Еще более вульгарны драгоценные черты типов Предтечи и Матери, умоляющих Спасителя о милости к грешникам. Самая постановка молящих рук так однообразна и деревянна, лики так искажены грубою ремесленною передачею, что в представленном простом муже никак нельзя было бы угадать тонкий тип высокого аскета. Как могло это случиться, и чем можно объяснить подобные отступления от византийских оригиналов? Или предположить, что мозаики, обязанные самым своим появлением на Афоне Сербскому кралю Стефану, были исполнены славянскими мастерами, а они не имели хороших картонов, или это ремесло настолько уже упало, что перешло в руки штукатуров, или, что всего вероятнее, и здесь афонское монашество оказалось совершенно беззаботным насчет искусства?
Все подобные вопросы становятся понятны, когда окажется, что изображенное в соборе два раза Благовещение (рис. 48 и 49) отличается сравнительно большими достоинствами, и одно из них, не прикрытое варварски иконами, даже было прекрасно срисовано и воспроизведено на страницах журнала, восхвалявшего иконографические оригиналы византийского искусства для примера западному искусству (мозаики на триумфальной арке, изд. Дидроном). Правда, и здесь легко подметить черты упадка и грубости, отличающие XIII и XIV века. Лицо и фигура архангела лишены обычной легкости, массивны и неуклюжи, они излишне мясисты и грузны; по незнанию рисунка, складки схематически прямы и продольны, тени черны, света резки и белильны. И все-таки разница между обеими мозаиками бросается в глаза, так как все эти недостатки в мозаиках нарфика усилены еще небрежностью исполнения, которой вовсе не замечается в мозаиках триумфальной арки. Правда, это впечатление небрежности усиливается еще тем, что мозаики нарфика, помещенные в местах, наиболее доступных разрушению, и потому наименее сохранившиеся, облупленные и утратившие местами даже рисунок, кажутся поэтому грубее. Однако и тут и там видим непонятные складки, короткие овалы, даже короткие пропорции, серые цвета одежд, от излишнего обилия шифера, одноцветные сияния одежды Марии, вместо прежних лиловых и полутонов более зеленого цвета.
Разница видна даже в неграмотной надписи (рис. 48) против правильной у мозаик триумфальной арки.

48. Мозаика в нарфике Ватопеда.
В этих позднейших мозаиках (ср. ниже мозаическую икону Божией Матери в Хиландаре) кубики предпочтительно напиливают из шифера разных цветов: серого, желтого, темно-коричневого, темно-серого; цвета синие и зеленые делают из смальты. Здесь нет лепки и самая моделировка овалов, округлостей и рельефов щеки, рук и пр. заменяется проложением контуров, в членах тела из красной смальты, в чертах лица из коричневого шифера, без всяких переходов и смягчений. Далее у Спасителя в Деисусе золотистый хитон и поверх его синий гиматий, грубо пройденный золотыми чертами. Иоанн Предтеча имеет уже рыжеватые волосы, облачен в зеленую тунику и желто-коричневую мантию, – все это детали, отличающие византийскую живопись позднейшего периода.
Не более достоинств и в мозаическом изображении свят. Николая Чудотворца в нише люнета над входною дверью из внешнего нарфика Ватопеда во внутренний, разве, сравнительно с предыдущими, со стороны редкости самой темы. История византийского искусства не знает, ранее этого примера, подобных изображений над входом, и для этого надо было бы обратиться к западному искусству, от которого, быть может, произошел и этот случай, что далеко не составляет исключения в афонских древностях. Правда, однако же, и то, что мы доселе знаем византийскую иконографию или в жалких отрывках от монументальных ее произведений, или в такой монотонной области, каковы миниатюры лицевых рукописей, далеко не отвечающие тому разнообразному миру, каким эта иконография являлась в эпоху существования самой Византии. И эта мозаика обрамлена каймою из кружков и пальметт, но также, подобно Деисусу, представляет очевидное несоответствие сюжета месту: и здесь, по обе стороны полугрудной фигуры святителя, остается пустое место, которое заполнено было чем-то столь неясным, что при теперешней законченности и при вставленном стекле нет никакой возможности разобрать мозаику, к тому же, находящуюся в полутьме. К сожалению, от того пострадало и фот. воспроизведение мозаики, заслуживающее по типу полного нашего внимания. Здесь лик святителя отличается редким благодушием, вполне между тем отвечающим историческому характеру святого: губы почти сложились в улыбку, короткие седые вьющиеся волосы видны только на висках, легкая округлая борода, маленькие глаза, и при этой кротости величавая поза, монументальная широта фигуры, напоминающая древние мозаические изображения Спасителя.
В монастыре Ставроникитском, в соборе, и как было уже при Барском, на правом столбе, перед клиросом, в деревянном позолоченном киоте, освещаемый постоянно горящими перед ним лампадами, находятся почитаемый за чудотворный образ святителя, исполненный мозаикою и кроме лика весь закрытый серебряными ризами (табл. XIV). По местному преданию, образ этот некогда иконоборцами брошен был в море, и афонскими рыбаками, уже при патриархе Иеремии I мозаика была будто бы выловлена из моря, тогда же освобождена от раковины, будто бы вросшей в самую средину лика, створки раковины изнутри по перламутру покрыты резными изображениями господских праздников, и одна из этих створок послана к московскому двору, а другая оставлена в обители. Собственно, на основании этой легенды, Брокгауз считает возможным отнести мозаику ко времени предполагаемой ее находки, ко времени основания монастыря, т.е. к 1542 году. Но, независимо от самых представлений о византийском стиле и времени афонских древностей, этот автор допустил в данном случае явную погрешность, утверждая, что (стр. 97) этот мозаический образ «отличается от прочих мозаик употреблением поразительно больших кубиков, которые необходимо должны обезображивать черты святого, особенно, будучи рассматриваемы в такой близости, какая получается при помещении на иконостасе» (точнее, в иконостасном киоте). Издаваемый нами снимок сам по себе достаточно удостоверяет, что не мозаические кубики грубы, а ошибка описателя, по-видимому, с чем-то другим смешавшего это изображение, наоборот, отличающееся замечательною тонкостью и мелочностью кубиков, правда, уже слабой сравнительно техники, но вполне древней живописи, т. е. той самой фактуры древнейших византийских мозаик, которая берет еще свои приемы от живописи, еще «лепит» лицо и тело, а не условно его моделирует, в чем можно легко убедиться, сравнив мозаическую фактуру табл. XIV и XV. Правда, и здесь преобладает мелкий серо-желтоватый шифер для передачи тела, но шиферные кубики прослоены крохотными золотыми кубиками, что мы знаем только в древней фактуре. Нимб также выполнен из мелких золотых кубиков, которыми расцвечены также местами шея, волосы, одежды, но эти кубики, ясно, больше кубиков, употребленных на исполнение лика, что можно видеть на фототипии и еще лучше на нашей фотографии. Письмо серо-красноватого тона, с глубокими тенями, зелеными полутенями, обилием красного в одеждах. Но заслуживает внимания и самый лик, привлекающий кротким, тихо-благостным выражением отлично вылепленного округлого лица, высокого открытого чела, маленькой округлой бороды. Редкие, едва на висках сохранившиеся волосы не вьются, как принято изображать ныне (по западным образцам), а лежат гладкими прядями45. Было весьма жаль, что нельзя было даже допытаться, исполнена ли остальная часть фигуры также мозаикою. Таким образом, мы считаем образ Николая в Ставрониките в числе лучших мозаик на дереве или, как было принято для большей ясности выражаться, из мозаических «переносных» (portatives) образов, и относим его к XI-му или, в самом позднем сроке – XII веку и никак не можем принять хронологии Брокгауза, так как даже мозаическую Богоматерь на табл. ХV считаем, относящеюся к 14 столетию.
В виде простой догадки, полагаем, что монастырь Ставроникиты освящен был во имя Николая Чудотворца именно по этой иконе, и тогда еще прославившейся чудотворением, и что эта икона была известна гораздо ранее, чем попала на Афон. Наш цареградский паломник Антоний в конце своего «паломника», описывая то, что он видел в окрестностях Цареграда, рассказывает: «А вне Златых врат святыи Никола пробилоб: и прокована (покована) вся икона сребром и позлачена. А когда царь придет, и тогда открываюг сребро, и целует царь во главу, отнюду же кровь шла, и паки покрывают сребром». Не та ли самая чтимая в Цареграде икона находится в Ставрониките, но уже попавшая после византийского погрома и лишившаяся своего древнего серебряного покрова, а обделанная в ризу в позднейшее время и снабженная иным легендарным этикетом.
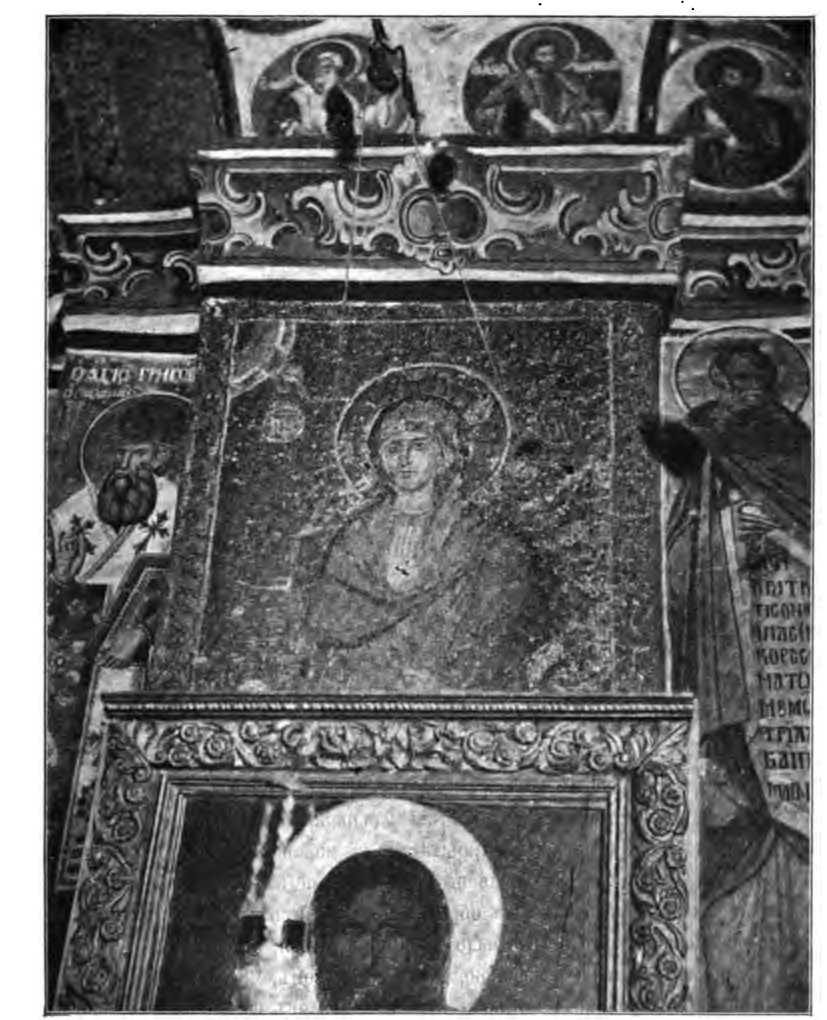
49. Мозаика в нарфике Ватопеда.
Не настаивая на этом предположении, мы можем представить другие и более веские доказательства нашего взгляда на хронологию памятника. Издаваемая нами здесь другая мозаическая икона св. Николая Чудотворца с фотографического снимка46 (рис. 50), любезно присланного нам г. аббатом Руленом, ученым бенедиктинцем, доставляет нам это требуемое для других, менее осведомленных в стилях и пошибах византийского искусства, доказательство. Мы просим только при этом иметь в виду все то, что нами будет издано здесь по вопросу о филиграни, равно как и то, что было ранее нами же издано и сказано по этому пункту в сочинении о «русских кладах великокняжеского периода». Новая, впервые ставшая известною, икона Николая принадлежит епископальному музею в испанском городе Вике, Барселоны и имеет всего 19 сант, выш. на 15 шир., а самая мозаика всего 10 сант. выш. Тождественность наших обоих изображений такова, что позволяла бы даже говорить о том, что маленькая икона – копия с большой, если бы мы могли видеть на Афонской мозаике что-либо кроме головы. Но нет, по крайней мере, повода думать, что мастера, покрывавшие ее ризою, намеренно изменили благословение святого и форму Евангелия: и то и другое на обеих иконах сходно, если не тождественно. О фактуре испанской иконки издатель сообщает, что фон ее покрыт серебряными кубиками, нимб золотой, фелонь красно-коричневого цвета, и «все складки расцвечены золотыми чертами». Издатель в определении времени образа ограничивается аналогиею других «переносных» мозаических икон, которые были отнесены по разным причинам к XI или к XII веку: основание и вообще шаткое, а в византийских древностях особенно. Но в данном случае свидетельством служит оклад образка, как видно при сравнении с образом Иоанна Богослова в Ватопеде (изображенным на табл. XXXIV), представляющим ту же скань, как на испанской иконе, о чем, впрочем, мы будем говорить подробно в своем месте.

50. Мозаическая икона Свят. Николая в г. Више, в Испании.
Великолепная икона Распятия в Ватопедском соборе, помещенная испокон веку в алтаре, в шкапу, и переданная нами в снимке на табл. XI (фот. 77 и 78 увелич.), принадлежат к числу немногих и драгоценных редкостей, сохранившихся на Афоне. Вся иконка имеет в выш. 33 сант, и в шир. 30 сант., при ширине рамки или оклада в размере 7 сант., стало быть, это одна из немногих моленных икон древности. Прискорбно, что икона не сохранила своего древнего оклада, так как теперешний относится к XIII или даже к XIV веку, а сама икона была исполнена в XI или самое крайнее – в XII веке. Что оклад не принадлежит к первоначальной обделке, которую мы должны себе поэтому представить вроде иконы Иоанна Богослова (см. ниже), доказательство перед нашими глазами, если мы внимательно рассмотрим оклад. На левом его углу вверху и на правом внизу видим дважды сцену Благовещения, что не может быть объяснено иначе, как тем, что верхнее изображение взято из другого басменного оклада, принадлежащего к IX или самое позднее – X столетию, тогда как другое, нижнее, относится к имеющемуся ныне окладу ХІІІ века, что видно и в стиле; прибавили же один листок для полного счета 12 господских праздников. Далее, по нижней части оклада виден обрез, который показывает, что в первоначальном виде басменная обложка была больше и с большой иконы перешла на меньшую, почему и срезана. Стиль басменного оклада очень грубый, отличается неправильными фигурами, в которых нет и следа настоящего византийского рисунка. Орнаментальные фоны в промежутках между отдельными тяблами исполнены в позднем арабо-византийском вкусе, утвердившемся в народном производстве Балканского полуострова: рисунок состоит из ромбов, наполненных арабесками. Порядок сюжетов перебит: сверху имеется Рождество, Сретение, Крещение (с крестом, утвержденным в воде), слева два сюжета: Успение и Пятидесятница, справа: Преображение и Вход в Иерусалим, по визу: Благовещение (вместо Распятия), Сошествие во ад, Мироносицы у гроба, Вознесение.
Мозаическая икона Распятия имеет внутри оклада 19 на 16 сант., исполнена на особой тонкой дощечке, которая вставлена внутрь теперешней доски и, очевидно, происходит с моленной иконы, некогда драгоценной, но доставшейся Ватопеду уже после разорения ее прежнего вида. Мозаика исполнена гораздо более мелкими кубиками, чем даже образок св. Анны и Спасителя и по своему художественному выполнению, скажем фигурально, по манере декоративной и по живописи, напр. по лепке тела, превосходит все, что мы видели доселе в этом причудливо-утонченном роде. К сожалению, большая часть серебряных кубиков, которыми были выложены все оживки или блики, от времени разложились, и потому в контурах драпировок не достает большинства складок, и через это фигуры ныне представляются разрушенными, особенно на снимке. Но рассматривая самый оригинал, видишь, с каким техническим искусством, известным только в подобных мелких образках, выполнил мастер требования художественного оригинала. Так напр. для передачи плата, препоясывающего тело Распятого, мастер употребил кубики белой, серой, голубой и изумрудной эмали и потому не просто набирал свето- и теневые места полотна, но, так сказать, вылеплен весь плат в полутонах. Столь же совершенно выполнено тело Распятого, также в полутонах, с характером подернутого смертельною бледностью и истощенного тела: рисунок столь анатомически правилен и поза так натуральна для образа, что вновь нам напоминает о том, как мало византийские мастера боялись в своих иконах натурализма. Должно прибавить, что видные около бока, рук и ног потоки крови намазаны краскою и вряд ли даже были выполнены в мозаике, так как в древнейших изображениях Распятия отсутствуют, как деталь натурализма грубого и излишнего для религиозного настроения. Напротив, даже земля разделана со тщанием из мельчайших камушков всяких цветов: серых, желтых, зеленых и пр., а между ними вкраплены темно-синие пятна, образующие траву. Место под крестом или Голгофа сделана из красно-коричневых кубиков, крест из желтых и красных, одежды из темно-синих и голубых или темно-красных и лиловых, попеременно. Левая сторона фигуры Богоматери разрушена и заполнена воском и по воску накрашены красные башмаки.
Распятие представлено на фоне городской стены, видной в отдалении и потому низкой, разделанной пальметками и архитектурным расчленением. Почему к этому фону примкнута декоративная кайма картины, орнаментированная ромбами, мы не можем сказать, и вряд ли можно считать это удачным. Средняя полоса стены красноватая и, вероятно, представляет кирпичную кладку, по которой выложены крины из разно обожженного и потому разноцветного кирпича – орнаментация, доселе употребляемая в Греции. Воздух представляет вечернюю зарю, небо все покрыто серебряными кубиками. Волосы Христа льняного цвета на голове, тогда как на неразделенной еще бороде – темно-каштанового цвета.
При обычной трактовке самого сюжета, здесь много выражения в лицах предстоящих и в головах скорбных ангелов. По счастью, мы имеем в пределах России столь же совершенный византийский образ Распятия, не позже XII века исполненный и, что самое главное, чрезвычайно сходный с мозаическим образом, так что эти два предмета друг друга поясняют. Эта вторая икона живописная, столь же малого размера, а именно около 22 сант., выш. и 16 в шир. и принадлежит Русскому Музею Александра III, в отделе икон под № 3, и составляет доселе малоизвестную и неизданную редкость византийского отдела, небогатого всюду. Никакое описание и никакие снимки не передадут оригинальной красоты и характерности этого образа, каким-то слепым случаем сохраненного для нас, как бы для того, чтобы когда-либо мы могли бы помощью его отрешиться от наших закоренелых предрассудков во взглядах на византийское искусство. Во-первых, эта икона писана по светло-бирюзовому фону, и мы даже не можем догадаться, какая декоративная причина побудила мастера избрать этот фон: обделка ли в золотую раму, или приятность самого полутона, но весь оклад покрыт этим тоном, как бы передавая цвет серебра, которым была бы окована икона. В сюжете, против мозаики, только есть одна прибавка жены сзади Богородицы; далее, здесь ясно выделано подножие на кресте, которого не видать на мозаике. Здесь даже, наподобие мозаическим иконам, кайма выложена такими же звездочками, которые представляют самую обычную форму украшений в мозаике. Мало того, первый вид иконы с ее золотыми, густо наложенными оживками, видными на крыльях ангелов и на рисунке престола, также напоминает мозаику или эмаль. Приходится весьма пожалеть, что икона была когда-то подправлена и подновлена, и что эти подновления пока не удалены. Но это касается только средней картины Распятия, и вовсе не относится к живописи оклада, сохранившейся всецело и достаточно свежо, за исключением низа, где самая доска иконы истлела и разрушилась. Оклад расписан весь погрудными фигурами, расположенными по обе стороны престола Господня: двух ангелов, Марии и Предтечи, 12 апостолов, 9 святых. Типы носят на себе характер X века и дают то характерное византийское искусство, которое мы лишь изредка видим в пяти-шести сохранившихся там и сям мелких предметах, почему-либо избегших разрушения: таковы, напр., ранее нами указанные миниатюры некоторых рукописей, двух-трех, одного креста, виденного нами в Мартвили. Но достоинство нашей иконы состоит еще в том, что ее художественные стороны отвечают той свободной, чуждой мертвого шаблона и церемонной бесхарактерности, струе византийской живописи, которая держалась в течение всего X века и так пышно расцвела в лучших и тонких мастерствах Византии. Здесь античная живопись как бы воскресла на время, едва потребное для воспроизведения образов христианской иконографии, и быстро затем потухла, как будто не находя для своего горения материала. К истинному горю настоящих любителей этого вторичного греческого искусства, произведений его сохранилось очень мало, и то исключительно в виде мелких вещиц, которые зачастую даже нельзя издать достойным образом, так как для этого потребовалось бы увеличивать изображения и делать их грубее. Но созерцание оригиналов может убедить всякого в той истине, что в средине X века существовала в Константинополе художественная школа, произведшая ряд замечательных работ по разработке типов и сюжетов в реалистическом роде, для которого ей пришлось возобновить традиции античного искусства. Общий характер всего письма чисто античный, как мы знаем его только в миниатюрах IX века, и, что является главным признаком, здесь совершенно нет золотых шраффировок, которые сплошною сетью покрывают все складки платья в работах XI и XII веков. Этому отвечают и самые типы. Особенно характерны апостолы: Петр, с его квадратной головою, простым и кротким взглядом, Павел в типе грузного мужа (ср. тип апостола в древнейшей рукописи Космы в Ватик. библ.), с большою головою, Матфея в типе, напоминающем Платона, Марка, чрезвычайно типичного по курчавой голове, с простыми, даже несколько вульгарными в своей простоте чертами лица. На истинно православный взгляд, эти простые, даже простонародные головы имеют гораздо более духовных прав в христианской иконографии Востока, чем утонченные, но слащавые головы рафаэлевской Диспуты, с которой поныне во всем мире пишутся заветные образы непосредственных учеников Спасителя.
Столь же замечательна в художественно-техническом отношении находящаяся в Есфигмене (табл. XI) мозаическая икона Спасителя, всего в выш. 22 и 15 сант. в шир. с греч. надписью ІС ХС, исполненною серебряными кубиками мозаики, в красных кружках. Икона некогда составляла, по-видимому, часть триптиха и была средним тяблом Деисуса. Спаситель изображен здесь стоящим, на золотом фоне, на мозаическом полу, внутри полукруга из красных полос. Полукруг должен представлять царский «омфалион» храма – круг перед солеею, из порфира, царское место посреди храма. Мозаический пол набран в шахматном порядке из красных и черных крестов с золотою сердцевиною. Нимб составлен из красных, голубых, синих и золотых кубиков, представляющих подобия драгоценных камней, как и на образке Анны в Ватопеде. Волосы Христа льняного цвета (XII века). Косой пробор, идущий справа налево, имеется и в мозаике (XV века) собора в Монреале; волосы разделены схематическими рядами, спадают на плечи и обрамляют узкий овал лица легкою темно-каштановою бородою. Лик и шея выполнены мельчайшими неправильными кубиками. Света сделаны каменными кубиками из желтого шифера, на лбу, под глазами, на губах, на подбородке. Темно-синий гиматий и малиново-красный хитон разделаны золотою шраффировкою, потерявшею свой блеск, потому что мозаика была покрыта лаком; шраффировка мелкая, в характере XII века. Христос благословляет сложением трех перстов (не именословно). Евангелие в окладе из серебряных пластинок с камнями, застежки его с изумрудами. Внизу мозаика разрушена. Ясно видно, что она выполнена на кипарисовой доске. Слой воскомастики совершенно окаменел, имеет толщину не более дести бумаги. Оклад, в котором была оправлена чудная икона, с четырьмя частицами мощей, сделан уже в конце XVII ст. и украшен грубыми рельефными изображениями апостолов и евангелистов; при последних имеются их эмблемы. Брокгауз (стр. 98) называет неправильно оклад доскою для хранения мощей (Reliquien-Таfel) и напрасно спрашивает себя, не были ли и другие мозаические иконки мощехранительницами. По всей вероятности, эта икона получила свой оклад где-либо в местных мастерских Афона, судя по детской грубости рельефов, его украшающих.
Мозаическая икона Св. Анны (табл.XII) в Ватопеде, по всей вероятности, составляет часть того же складня, которого центральною фигурою был образок Спасителя, хранящейся в Эсфигмене выш. 25, шир. 20 сант., на доске, на задней стороне которой находится монограмма:

и надпись: «царицы и великой княгини Анастасии». Серебряный, из тонкого листового серебра, оклад украшен восемью барельефными пластинками и в промежутках восемью декоративными квадратиками в виде чеканенных углубленных фонов, орнаментированных насечкою в арабском вкусе, с выпуклым щитком в средине в виде ажурной звезды. По характеру рельефов и орнаментации оклад тождествен с различными вкладами венецианской библиотеки XIII–XV века. Щитки в характере металлических изделий восточного стиля XIV–XV стол. Рельефы отличаются еще хорошим сочинением, но исполнены резко и грубо, особенно в складках, насеченных совершенно без всякого стиля, и с полною свободою от византийской схемы. Складки на гиматии представляются вдавленными бороздами. Наверху в средине «гетимасия» (Н ΕƬОІМАƩІА) в типе ХІІ века, то есть с Евангелием, крестом, венцом, копием и губкою; трон тождествен с памятниками ХІІІ–XIV веков. К «уготованному престолу» обращены архангелы Гавриил и Михаил, по грудь в небе. На боковых сторонах, во весь рост, Богоотец Иоаким и св. Иоанн Феомнистор, оба в молитвенном предстоянии, одна рука положена на грудь, другая простерта; головы и фигуры обоих совершенно одинаковы. Понизу апостолы: Фома, молодой и безбородый, св. Иаков, св. Филипп, помещены в силу их родства и близости к Богоматери. Самое важное значение имеет находящаяся внутри мозаическая икона праматери Анны, держащей, стоя на левой руке, Богородицу, с надписями: Н АГН ANNA MP Θϓ. Икона имеет 15 сант. выш. и 9 ширины, заключена в узкий бордюр полсант. шир., также мозаический, тончайшей работы из мельчайших кубиков. Мозаика от времени и копоти потеряла свой цвет. Мастика затвердела наподобие дерева и большинство серебряных и золотых и листиков, прикрывающих стеклянные кубики (зеленоватого цвета), уже слетели, иные места обнажились от стекла. Поэтому части фонов кажутся желто-коричневого цвета. Золотыми и серебряными кубиками выложены все контуры одежд; далее употреблены кубики цветов краснокирпичного, желтоватого, коричневого и голубого, темно-синего, темно-лилового и черного цветов. Бордюр состоит из ленты, переломанной зигзагом, поле серебряное; пол в виде пестрого ковра, шитого серебром. Анна стоит на подножии золотистого цвета из желтых кубиков. Мозаика древнее оклада, который, хотя сделан специально для нее, но прикрыл часть подножия и часть бордюра; а самая мозаика представляет работу художника в типе древнейших икон IX и X столетия монументальных, алтарных (моз. св. Марка из Софии). Мозаика может быть названа академической работой по опытности мастера: нимб выполнен из чередующихся разноцветных кубиков, подобранных как бы лучами; весьма искусно выполнена моделировка, особенно в блестящих тенях и в оливковых тенях тела. Анна в малиновой фелони, Богоматерь в фиолетовой, хитоны – темно-голубые. Анна прижимает правую руку к груди; лицо ее напоминает лик Богородицы.
Состав иконы может быть объяснен след. обр.: известно, что византийские императоры рода Палеологов благодетельствовали Ватопедскому монастырю и дарили туда драгоценную утварь. Возможно, что покровительствовал и Иоанн Кантакузен (1341 –1356), а жена Иоанна звалась Анна. Весьма возможно, что именно эта Анна и сделала вклад иконою святой матери, приказав взять из церковного дворцового запаса драгоценную мозаику и обделать или оправить ее, что и было сделано уже по силам и вкусу времени. Работа оклада совершенно отвечает концу ХІІІ и средине ХІV века, когда, наоборот, решительно не могли сделать подобной мозаики.
Выставляемая в Лавре, наряду со святыми мощами, драгоценная, издавна известная и заслуживающая своей известности, мозаическая икона (табл. XXXIV) Иоанна Богослова, по монастырскому преданию, вклад Иоанна Цимисхия, относится на деле к ХІІ веку. Икона имеет в вышину 28 сант, и 23 сант. шир., причем самый образ имеет только 17 и 12 сант. Мелочная техника мозаики достойна особого внимания: на тонком слое воскомастики мельчайшими чешуйками мозаики цветной и золотой выложена погрудная фигура апостола и вся покрыта золотыми чертами контуров, что называется, шраффирована золотом, вся оживлена золотою ассисткою, золотою «инокопью». Лик и хитон из мозаики желто-коричневого цвета, но кубики выложены в разных направлениях, по мускулам и складкам. Образ воспроизводит византийский оригинал, послуживший русскому лику апостола, творящего в глубокой задумчивости, но в русском переводе прибавляется орел (или ангел), и правая рука апостола, вместо того, чтобы держать над книгою пишущий тростник, как в греческом оригинале, – приближена к устам, и тип Иоанна Богослова почти сближен с Иоанном Златоустом. За этими исключениями, все черты оригинала сохранены русским типом, идущим из ХV века: и весь очерк головы, и сутуловатая спина, и грузное тело, и черты лица повторены русскими иконами.
Афонская икона имеет значение крупного исторического памятника и по своему древнему, вполне современному окладу: он украшен десятью эмалевыми круглыми золотыми пластинками с погрудными изображениями. Все эмали одного времени и неслучайного сбора, как то часто бывает, но намеренного подбора святых Иоаннов. Кроме средней пластинки с «гетимасиею» или «уготованным престолом», мы здесь находим: родителей Иоанна: Захарию и Елисавету, И. Златоуста, И. Милостивого, И. Постника, И. Дамаскина, И. Кущника, И. Климака, И. Бессребренника. Очевидно, эта икона была царский вклад, и надо было бы угадать этого Иоанна среди многих Иоаннов византийского дома XII–XIII веков. Важнее этого вопроса самые типы святых, прекрасно исполненные эмалью. Так, Златоуст сохранил свою маленькую голову с большим лбом и редкими волосами, свой зоркий взгляд в сторону. Иоанн Милостивый имеет большую благодушную голову с полною бородою. Портретный лик Дамаскина в пестром сирийском тюрбане, с острым взглядом. Молодой И. Кущник, черноволосый, с истомленным лицом. Седой И. Лествичник с тою же грузною греческою головою, как Иоанн Милостивый. Особенно характерна моложавая голова Постника с пепельно-седыми волосами. И. Бессребренник в мантии, накинутой с правого плеча, с черными волосами и красным тростником в руках, смотрит в сторону, хотя помещен в средине нижней каймы. Все прочие лики имеют взгляд по направлению к Иоанну Богослову, что подтверждает намеренность подбора и построения иконы.
Эмали по стилю и технике относятся ко второй половине XII века. Пластинки под эмаль выбиты из бледного лигатурного золота. Цвета эмалей бледны, даже красный и синий цвет блеклого тона, что указывает на излишнее пережигание. Тело бледно-оливкового тона, иногда палевого, но высокой красоты типа и жизненности. Словом, все черты развитой вполне техники.
Наконец, весь оклад покрыт серебряною тонкою ленточною сканью. Замечательная по своей тонкости, скань из бледного золота, в виде ленточек, положенных на ребро, и образующих сеть кружков со вписанными в них крестообразными формами и разводами в данном памятнике является определяемым хронологически историческим актом. Действительно, эта икона по мозаике и по эмалям не может быть по времени позднее XII века (в крайнем случае – первой половины XIII века) и потому определяет точно эпоху ленточной скани. Между тем, значение этого указания станет понятно, когда мы напомним, что от него зависит определение времени происхождения Мономаховой шапки и ее принадлежности к произведениям византийского искусства, о чем, однако, мы будем говорить ниже и подробнее по поводу больших окладов (бывших местных) икон Троицы и Богоматери в Ватопедском соборе.
Столь же замечательным мозаическим образом должна считаться маленькая икона св. Иоанна Златоуста (табл. XVI), принадлежавшая некогда Ватопеду, а затем поднесенная монастырем б. русскому послу в Константинополе А. И. Нелидову, во владении которого она и поныне находится. Издана впервые Д. В. Айналовым, но заслуживает быть воспроизведенною еще раз, ради высокого по духовной тонкости типа великого иерарха греческой церкви. Мы уже имели случай неоднократно указывать на характерность головы Иоанна Златоуста, переданную нам византийским искусством, любившим портреты и реальность, коль скоро то и другое отвечали его идеальным задачам. Равно нами были указаны и образцы этого типа в мозаике Палатинской капеллы и в эмалях XII века. Повторим вкратце, ради ясности дела, основные черты лика святого: маленькая, нервно-подвижная голова на сухом, узком, тщедушном, но напряженно живом корпусе; короткие и редкие волосы, вьющиеся немногими прядями, на висках и на задней части головы, темно-русого цвета, c легкою сединою, едва пробивающеюся; большой, «взлызлый» лоб, но не широкий и могучий, как у Павла или И. Богослова, а узкий и сдавленный с боков, усиливающий впечатление страстной энергии, лоб, прорезанный морщинами; оригинальный рисунок бровей, треугольником над острыми и несколько мрачно уставленными маленькими и умными глазами; крайне малая нижняя часть лица, тонкий и прямой нос, сухие и маленькие губы, узкий и едва заметный подбородок, опушающая худые щеки и края подбородка темно-русая очень редкая бородка, – таковы черты этого портрета. Черты эти переданы здесь живо и сильно, но не лишены преувеличения в размерах головы и самих контуров лица. Наконец, лик Златоуста в иконе не должен содержать в себе ни мрачности, ни фанатизма: этому иерарху было чуждо то и другое, и если французский живописец представил И. Златоуста в виде бледного, истощенного и дышащего злобою аскета, призывающего с высоты своей кафедры громы небесные на разрисованную куртизанку на троне Византии, стоящую в уровень с ним на хорах, то этот живописец вращался в сфере представлений католического мира, столь далекого от простоты и жизненности древнего христианства, что все эти представления кажутся безжизненною мертвою схемою рядом с жизнью, полною соков и греческой красоты. И. Златоуст не был иссушенным чадом латинских семинарий и иезуитских миссий, был живым человеком, хотя аскетом, знал жизнь, любил народ и был близок ко всему живому, был живым представителем христианской морали, не инквизитором. И потому картина французского живописца производит отвратительное впечатление, тогда как лик И. Златоуста всегда вызывает к себе предпочтительную симпатию даже среди его высоких сверстников, великих отцов церкви.
Мозаическая икона И. Златоуста исполнена очень тонко, тем же способом лепки, что и предыдущая, но ризы крещатые, руки, Евангелие и прочие детали выполнены гораздо проще и грубее. Особо замечательно исполнение выпуклого нимба, очевидно, подражающего эмалевым нимбам, со множеством крестиков на белом или серебряном фоне.
В том же характере древней мозаики, художественного характера, исполнены и две большие мозаические иконы Св. вм. Георгия и Димитрия в Ксенофе, очевидно, происходящие из одного разобранного иконостаса, или же из двух киотов, устроенных на двух столбах церкви, или посреди церкви, против клиросов, а ныне сохраняющиеся в виде отдельных досок, где-то в ризнице или подобном недоступном помещении. Обе иконы имеют приблизительно одни размеры: 1,21 м в выш. и 1,25 м. – икона Димитрия, 0,51 и 0,60 м. в ширину. На обеих святые великомученики представлены стоящими вполоборота и обращенными к Спасителю, сходящему с небес и благословляющему их моление. Иконы, к сожалению, покрыты слоем вековой грязи, сильно выщерблены, особенно в золотых фонах, но имеют все достоинства отличной мозаики XII–XIII столетий и никак не могут принадлежать XIV веку, когда подобная фактура и стиль были совершенно невозможны и даже неизвестны в Византии. Надписи из темно-зеленых, почти черных кубиков, расположены вертикально. Кубики, которыми выполнены лики, чрезвычайно мелки, в 1 кв. миллиметр, тогда как фоны выложены кубиками в 2,3 мм, и здесь видим ту же лепку мускулов лица, нежную моделировку щек, легкой бородки на лице вел.-муч. Димитрия, глазных впадин. Только заметное усиление схематической правильности в складках указывает на близкое падение искусства. Спаситель облачен в темно-синий гиматий и пурпурный хитон; лик отличается античным типом IX–X стол., в котором нет ни льняных волос, ни раздвоенной брады и пр. Тот же античный характер наблюдается и в головах обоих святых: типические курчавые волосы Георгия в виде тройного ряда схематических завитков (ср. древнейшую икону Георгия из Аравии в Зографе), сходящиеся над переносьем брови, аттический овал лица, кроткое и и даже умильное выражение. Георгий облачен в пурпурную, малинового цвета, хламиду, покрытую звездами, кружками, и кринами; на хламиде золотой тавлий, с аканфовыми разводами; застежная фибула из золота с бирюзою, хитон лиловый с золотыми поручами; на правом плече пурпурное оплечье (основного коричневого цвета древнего пурпура с лиловым отливом), отороченное жемчужными нитями и вышитое разводами. Фон в обеих мозаиках сплошной золотой, и золотые кубики имеют светлый цвет (не червонного золота, что зависит в поздних византийских мозаиках от того, что золотой лист в мозаической массе кладется на густо-красную или даже темно-красную смальту, а не светло-желтую, светло-бутылочного цвета, как в древней фактуре).

61. Верх мозаической иконы великомуч. Димитрия в Ксенофе
Изображение Димитрия (рис. 51) еще характернее и выше по исполнению, хотя и менее разделано украшениями, так как патрицианские одежды великомученика сравнительно просты. Голова святого еще чисто античного типа, но в ней, как и в голове Георгия, обращает на себя внимание загнутый семитический нос, указывающий, по-видимому, на иноземное, не греческое, происхождение мозаики. Далее, здесь волосы Спасителя уже льняного цвета, что особенно резко выступает при сравнении с темно-каштановыми волосами святого; брови Димитрия сходятся на переносице. На лбу, под глазами, на носу, на щеках, на подбородке и на шее наложен сильно румянец при помощи розоватого шифера или кубиков розовой смальты. Самое лицо проложено кубиками Белаго, желтоватого и зеленоватого шифера, в контурах темно-коричневою смальтою. Затем различные градации теней и бликов из синей, голубой и темно-лиловой смальты для гиматия, а для хитона разные оттенки красного и малинового цветов. Насколько обе иконы делались как дружки, видно из разнообразия цветов одежд, также башмаков: у Георгия красные, у Димитрия – голубого сафьяна и т. д.
В алтаре соборного храма Хиландарской обители находится (виденный там же преп. Порфирием) мозаический образ (табл. XV) Божией Матери. Какое было ранее назначение этого образа, не можем угадать, тем более что размеры его не достаточны для «местного» образа в иконостасе. Он имеет в вышину 64 сант. и в ширину 45 сант. На толстой доске, сравнительно крупными кубиками (хотя не стенных размеров) и по золотому фону выполнена мозаика, отлично сохранившаяся в ликах и поврежденная только в отдельных местах, где жар свечей и трещина в доске причинили повреждение сверху донизу. Образовавшаяся трещина заполнена грубо и небрежно. Золотые кубики отлично исполнены в техническом отношении: их размеры в один миллиметр в ликах и два мм в фонах, и с этой стороны работа напоминает мозаическую икону св. Николая в Ставро-Никите. Но цветные кубики представляют иные тоны, чем в мозаиках византийских: все выбранные тоны отвечают миниатюрам сербославянских рукописей и составляют иную гамму красок, чем в греческих мозаиках. На Богородице синяя фелонь с золотыми каймами и тремя звездами, белый чепец. Лик выложен пиленым шифером, имеющим светло-оливковый полутон. Тени проложены серыми, синими, коричневыми и даже красными тонами. Румянец на щеках– красными же шиферными кубиками. Получившиеся резкие контуры от теней в глазах и ликах отвечают народному искусству славянских стран Балканского полуострова. Складки наложены внизу синими, вверху желтыми и красными рядами. Волосы сделаны выпукло, вероятно, на основе из воскомастики, и благодаря употребленным слоям шифера, у Младенца представляют цвет льна. Одежда Младенца – красный хитон, а мантия темно-лиловая, с резкими прослойками теней темно-коричневыми кубиками. Тип Одигитрии сохранен во всех подробностях: во взгляде Матери перед собою, в свитке Младенца, в его именословном перстосложении, в руке Богородицы, положенной на грудь и проч. И стиль и техника указывают на XIII или XIV век, скорее на второй, судя по некоторой грубости рисунка. То же мнение мы нашли у пр. Порфирия, которого слова заслуживают быть воспроизведенными целиком: «тип (Богоматери) сербский, художественно-посредственный. Румянец на ланитах Приснодевы означен двумя малыми пятнами, как и на подобных иконах Ее в Риме и Флоренции. Судя по этому признаку, я отношу эту икону к веку тринадцатому, значит, к началу устройства Славяносербской лавры на Афоне». Действительно, характерные пятна румянца на щеках указывают на XIII столетие, особенно в манере западных миниатюристов позднероманской эпохи, где они долгое время составляли излюбленный прием, но затем тот же прием перешел и в народную иконопись восточных берегов Италии, Далмации и Балканского полуострова и удержался там еще на одно-два столетия.
* * *
Примечания
Bayet et Ducheane. Mémoire sur une mission au Mont Athos, p. 802 sq. Однако общий вывод Байэ в пользу афонских росписей сохранен в популярном его сочинении.
Зографическая Летопись Афона, Чтения в Общ. Люб. Дух. Пр. стр. 217.
Ср. изд. ІІІ. Дилем Фреску Бриндизи XII века(?): L’art bys. dans l’It mer р. 54
Труды Киев. Дух. Акад. за 1867, кн. 10–11. Первое путеш. ІІ, 2, стр. 278
Заметки покл., стр. 111–117, 303–304.
Стен. росписи, стр. 82–85.
L.c., стр. 267; стр. 57, 60, 66–68.
В Имп. Академии Художест.
То же в соб. Благовещенском в Москве, Спасо-Преображенском монастыре в Ярославле (1563г.) и пр.
Ср. описание наше одного из эмалевых медальонов собрания А. В. Звенигородского в соч. «Византийские эмали».
О чем мы имеем в виду говорить особо, на основании нового сопоставления свидетельств у Добшютца. См. Русские Древности в памятниках искусства, вып. VI, стр. 182.
Зографическая летопись Афона, стр. 218 – 9: «над входом в трапезу изображены: Никифор Фока и И. Цимисхий, Афанасий и митрополит Серреса Геннадий, ктитор трапезы»
В росписи 1607 г. Страшного Суда ц. на оз. Пресп в Зап. Македонии П.Н. Милюков нашел в pendant к Судии-Христу «Фигуру с седою бородою, в пастушеской одежде, с голыми ногами и с двумя длинными посохами в руках, перекрещивающимися в виде буквы X. На верхних частях посохов укреплены – по-видимому – связки веревок, приходящихся у плеч фигуры; от плеча к плечу тоже идет веревочная гирлянда. На голове фигуры шапочка в виде остроконечного колпака». Очевидно, это тот же образ «малейшего из малых», но в более натуралистическом типе, чем античная фигура рабочего, переданная по традиции, в Лаврской картипе. См. II Милюкова Христианские древности Западной Македонии Известия Рус. Арх. Ист. в К-ноле, IV, 1, Софія 1899, стр. 21–151. Ср. также, кроме указанных ранее другими памятников, роспись во Владимирском Успенском ж. Княгин. монастыре, к сожалению, переписанной.
В росписи 1748 г. ц. Германа у озера Преспы в Македонии представлены Кир, Пор,Дарий и Александр, см. Милюкова Ц. Н. «Христ, древ. Зап. Макед. стр. 40.
Ἑρμηνεία τῶν ζωγράφων, Αθήνα, 1865, р.242
«Синодик Колпениковской церкви», изд. Имп. Общ. Люб. др. Письм на средства Г.В. Юдина, вып.1, лл.58–59, 64–65 и вып.2, стр. 11 и 15. 1896–1899.
Кроме древних и старых описаний «Триумфа Смерти» у Вазари, Бальдинуччи, Кавальказелле, см. новые исследования: P. Vigo, Le danse macabre in Italia91878; S. B. Supino о фрескахъ в Archivio Storico dell’arte,VII, 1894, Il Campo Santo di Pisa, 1896 и S. Morporgo, Epigrafi in rima del Camposanto di Pisa, в Arch. Stor. d. Arte, 1899, 1–III, p. 51–87).
«Русский Лицевой Апокалипсис». «Свод изображений из Лицевых Апокалипсисов» по русским рукописям с ХVІ века по XIX». М. 1884. Стр. 4–8.
В издании: Hans Graeven, «Frühchristliche и mittelalterliche Elfenbeinwerke in phot Nachbddemg», Rom, 1900, под №28 имеется любопытный рельеф, по-видимому, XI века, с фигурою Христа по Апокал. I, 12–17, с 7 священниками, со звездою в деснице, ключами ада в левой и мечом у уст. В описании рельеф определяется «западным, по византийскому оригиналу». Наше мнение иное, и мы решительно ничего византийского здесь ие находим, образцом считая древнехристианский рельеф или даже западное произведние Карловингской эпохи.
В брошюре Дм. Петковича сообщена на стр. 29 следующая надпись, находящаяся в притворе Афонского м-ря Павла: «Изволением Отца и споспешением Сына и свершением Св. Духа писасе сей акафист Пречистыя Богородицы и Откровение Иоанна Богослова в лето 7191 (= 1687)». Существует ли эта роспись доселе, нам неизвестно.
Паперть Ксенофа покрыта, соединена с трапезою, вся заставлена стасидиями, и некоторые сцены ими закрыты, особенно снизу.
По переводу пр. Порфирия, не Шефера и не Дюрана, см. прим. у Буслаева на стр. 144.
Ibid. стр. 386. Должно заметить по этому случаю, что тот же автор с особым ударением – стр. 67 останавливается на росписи придела Николая Чудотворца в Лавре, как «происходящих из 1860 года (что неверно) и имеющих высокое внутреннее достоинство. Ни одно изображение там не написано налегке, каждое горячо обдумано и выполняет сюжет. В Рождестве Христа Мария смиренно преклоняет колена перед своим божественным ребенком (по-нашему, оригинал сюжета надо искать в итальянских Мадоннах XV-XVI веков). Картина Преображения представляет обоих ветхозаветных святых (Моисея и Илию) на облаках, несомых ангелами (по Рафаэлю?)». В Распятии представлено, как разбивают голени разбойникам (по немецким орнгиналам?). Преображение представляет рядом с радостью и ужас в изображении одержимых злым духом (по Рафаэлю?), укрывающихся за саркофагами и пр.
Изд. 1886 г., стр. 260–261.
Наиболее сходства в компознции икона имеет с известною синодальною греческою рукописью Акафиста XII века.
Как синодальная рукопись.
См. этот тип Свят. Николая в мозаике Киево-Софийского собора, в изд. Русского Арх. Общ., также у Шлюмбергера в илл. к соч. L’Epopée byzantine, 1896. стр. 57.
Издана аб. Руленом в Monuments et mémoires publ. par l’Acad d. Sc. 1900. VII, I Tableau byzantin inédit, pl. XI.
