IX. По поводу выставки
Я заходил на выставку. На венскую всемирную выставку отправляется довольно много картин наших русских художников. Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе.(151) Но все-таки приходит на мысль: возможно ли там понять наших художников и с какой точки зрения их там будут ценить? По-моему, переведите комедию г-на Островского — ну, «Свои люди, сочтемся», или даже любую, и переведите по возможности лучше, на немецкий или французский язык, и поставьте где-нибудь на европейской сцене, — и я, право, не знаю, что выйдет(152). Что-нибудь, конечно, поймут и, кто знает, может быть, даже найдут некоторое удовольствие, но по крайней мере три четверти комедии останутся совершенно недоступны еропейскому пониманию. Я помню, в моей молодости, как ужасно заинтересовало меня известие, что г-н Виардо (муж знаменитой певицы, певшей у нас тогда в итальянской опере), француз, не знающий ничего по-русски, переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева(153). У Виардо, конечно, была художественно-критическая способность и, сверх того, чуткость в понимании поэзии чужих национальностей, что он и доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык(154). Господин же Тургенев понимал Гоголя, конечно, до тонкости; как все тогда, полагаю, любил его до восторга и, сверх того, сам был поэт, хотя тогда почти не начинал еще своего поэтического поприща (NB Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» — произведение уже значительное(155)). Таким образом, могло бы что-нибудь и выйти. Замечу, что г-н Тургенев, должно быть, превосходно знает французский язык. И что же? Вышла из этого перевода такая странность, что я, хоть и предчувствовал заранее, что Гоголя нельзя передать по-французски, все-таки никак не ожидал такого исхода. Этот перевод можно достать и теперь — посмотрите, что это такое. Гоголь исчез буквально. Весь юмор, всё комическое, все отдельные детали и главные моменты развязок, от которых и теперь, вспоминая их иногда нечаянно, наедине (и часто в самые нелитературные моменты жизни), зальешься вдруг самым неудержимым смехом про себя, — всё это пропало, как не бывало вовсе. Я не понимаю, что могли заключать тогда французы о Гоголе, судя по этому переводу; впрочем, кажется, ничего не заключили. «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски(156), без сомнения тоже исчезли наполовину, хотя в них гораздо более можно было понять, чем в Гоголе. Словом, всё характерное, всё наше национальное по преимуществу (а стало быть, всё истинно художественное), по моему мнению, для Европы неузнаваемо. Переведите повесть «Рудин» Тургенева (я потому говорю о г-не Тургеневе, что он наиболее переведен из русских писателей, а о повести «Рудин» потому, что она наиболее из всех произведений г-на Тургенева подходит к чему-то немецкому) на какой хотите европейский язык — и даже ее не поймут. Главная суть дела останется совсем даже неподозреваемою. «Записки же охотника» точно так же не поймут, как и Пушкина, как и Гоголя. Так что всем нашим крупным талантам, мне кажется, суждено надолго, может быть, остаться для Европы совсем неизвестными; и даже так, что чем крупнее и своеобразнее талант, тем он будет и неузнаваемее. Между тем мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане(157), даже, может быть, со всеми оттенками; даже, может быть, любим его не меньше его соотечественников. А, однако, как типичен, своеобразен и национален Диккенс! Что же из этого заключить? Есть ли такое понимание чужих национальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть, и есть, и если есть этот дар (равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное… Вернее же (скажут многие), что европейцы мало знают Россию и русскую жизнь, потому что не имели до сих пор еще и нужды ее узнавать в слишком большой подробности. Правда, действительно в Европе до сих пор не было никакой особенной надобности слишком подробно нас узнавать. Но все-таки кажется несомненным, что европейцу, какой бы он ни был национальности, всегда легче выучиться другому европейскому языку и вникнуть в душу всякой другой европейской национальности, чем научиться русскому языку и понять нашу русскую суть. Даже нарочно изучавшие нас европейцы, для каких-нибудь целей (а таковые были), и положившие на это большой труд, несомненно уезжали от нас, хотя и много изучив, но все-таки до конца не понимая иных фактов(158) и даже, можно сказать, долго еще не будут понимать, в современных и ближайших поколениях по крайней мере. Всё это намекает на долгую еще, может быть, и печальную нашу уединенность в европейской семье народов; на долгие еще в будущем ошибки европейцев в суждениях о России; на их видимую наклонность судить нас всегда к худшему и, может быть, объясняет и ту постоянную, всеобщую, основанную на каком-то сильнейшем непосредственном и гадливом ощущении враждебность к нам Европы; отвращение ее от нас как от чего-то противного, отчасти даже некоторый суеверный страх ее перед нами и — вечный, известный, давнишний приговор ее о нас: что мы вовсе не европейцы… Мы, разумеется, обижаемся и изо всех сил таращимся доказать, что мы европейцы…
Я, конечно, не говорю, что в Европе не поймут наших, например, пейзажистов: виды Крыма, Кавказа, даже наших степей будут, конечно, и там любопытны. Но зато наш русский, по преимуществу национальный, пейзаж, то есть северной и средней полосы нашей Европейской России, я думаю, тоже не произведет в Вене большого эффекта. «Эта скудная природа»(159), вся характерность которой состоит, так сказать, в ее бесхарактерности, нам мила, однако, и дорога. Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»)(160): на первом плане болото и болотная поросль, на заднем — лес; оттуда — туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас как будто проницает всего, вы почти ее чувствуете, и на средине, между лесом и вами, две белые березки, яркие, твердые, — самая сильная точка в картине. Ну что тут особенного? Что тут характерного, а между тем как это хорошо!.. Может быть, я ошибаюсь, но немцу это не может так понравиться.
Про исторический род и говорить нечего; в чисто историческом роде мы давно уже не блистаем, а стало быть, Европу и не удивим; даже батальным родом не очень удивим; даже переселение черкесов (огромная пестрая картина, может быть с большими достоинствами, — не могу судить) не произведет, по-моему, за границею слишком сильного впечатления(161). Но жанр, наш жанр — в нем-то что поймут? А ведь у нас он вот уже столько лет почти исключительно царствует; и если есть нам чем-нибудь погордиться и что-нибудь показать, то, уж конечно, из нашего жанра. Вот, например, небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа(162). Посмотрите: комнатка у мещанина аль у какого-то отставного солдата, торговца певчими птицами, должно быть, тоже и птицелова. Видно несколько птичьих клеток; скамейки, стол, на столе самовар, а за самоваром сидят гости, два купца или лавочника, любители соловьиного пения. Соловей висит у окна в клетке и, должно быть, свистит, заливается, щелкает, а гости слушают. Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже в летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что всё это «темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту)(163), а между тем оба они видимо уже раскисли от наслаждения — самого невинного, почти трогательного. Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку приподнял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает трель… Он хочет что-то ухватить, боится что-то потерять. Другой сидит за столом, за чаем, к нам почти спиной, но вы знаете, что он «страдает» не менее своего товарища. Перед ними хозяин, зазвавший их слушать и, конечно, им же продать соловья. Это довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремонном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. Перед этими лавочниками он по социальному положению своему, то есть по карману, конечно личность ничтожная; но теперь у него соловей, и хороший соловей, а потому он смотрит гордо (как будто он это сам поет), обращается к купцам даже с каким-то нахальством, с строгостию (нельзя же-с)… Любопытно, что лавочники непременно сидят и думают, что это так и должно быть, чтобы он их тут немножко подраспек, потому что «уж оченно хорош у него соловей!» Чай кончится, и начнется торг… Ну что, спрашивается, поймет в этой картине немец или венский жид (Вена, как и Одесса, говорят, вся в жидах)? Может, кто и растолкует в чем дело, и они узнают, что у русского купца средней руки две страсти — рысак и соловей, и что потому это ужасно смешно; но что же из этого выйдет? Это знание какое-то отвлеченное, и немцу очень трудно будет представить, почему это так смешно. Мы же смотрим на картинку и улыбаемся; вспоминаем про нее потом, и нам опять почему-то смешно и приятно. Право, и пусть смеются надо мной, но вот в этих маленьких картинках, по-моему, есть даже любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще. Я ведь эту картинку только для одного примера поставил. Но ведь что всего досаднее — это то, что мы-то подобную картинку у немцев, из их немецкого быта, поймем точно так же, как и они сами, и даже восхищаться будем, как они сами, почти их же, немецкими, чувствами, а они вот у нас совсем ничего не поймут. Впрочем, может быть, для нас это в некотором смысле и выгоднее.
Ну вот в эстонской или лифляндской каюте игра в карты — это, конечно, понятно, особенно фигура мальчика, участвующего в игре; в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна(164); но не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников»(165). Я нарочно назначаю одну из понятнейших картин нашего национального жанра. Картина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется… Что за прелесть! Конечно, растолковать — так поймут и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. Я уверен, что если бы г-н Перов (и он наверно бы смог это сделать) изобразил французских или немецких охотников (конечно, по-другому и в других лицах), то мы, русские, поняли бы и немецкое и французское вранье, со всеми тонкостями, со всеми национальными отличиями, и слог и тему вранья, угадали бы всё только смотря на картину. Ну а немец, как ни напрягайся, а нашего русского вранья не поймет. Конечно, небольшой ему в том убыток, да и нам опять-таки, может быть, это и выгоднее; но зато и картину не вполне поймет, а стало быть, и не оценит как следует; ну а уж это жаль, потому что мы едем, чтоб нас похвалили.
Не знаю, как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского(166). По-моему, это уже не жанр, а картина историческая. Я пошутил, конечно, но присмотритесь, однако: больше ничего как певчие, в некотором роде официальный хор, исполняющий за обедней концерт. Всё это господа в официальных костюмах, с гладко-гладко выбритыми подбородками. Вглядитесь, например, в этого господина с бакенбардами; ясно, что он, так сказать, переряжен в этот совершенно не гармонирующий с ним костюм и носит его лишь по службе. Правда, и все певчие надевают такие костюмы лишь по службе, и искони так велось, с патриархальных времен, но тут эта переряженность как-то особенно в глаза бросается. Вы такого благообразного чиновника привыкли видеть лишь в вицмундире и в департаменте; это скромный и солидный, прилично обстриженный человечек среднего круга. Он тянет что-то вроде известного «уязвлен!», но и «уязвлен» обращается, глядя на него, во что-то официальное. Ничего даже нет смешнее, как предложить, чтоб этот вполне благонамеренный и успокоенный службою человек мог быть «уязвлен»! Не смотреть на них, отвернуться и только слушать, и выйдет что-нибудь прелестное; ну а посмотреть на эти фигуры, и вам кажется, что псалом поется только так… что тут что-то вовсе другое…
Я ужасно боюсь «направления», если оно овладевает молодым художником, особенно при начале его поприща; и как вы думаете, чего именно тут боюсь: а вот именно того, что цель-то направления не достигнется. Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, — поверит ли он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из художнической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «направительное», — поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей)(167), хотя бы с виду и походило на то, что называют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по-видимому, еще не догадались об этом, то что же может происходить иногда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? какая бурда понятий и предвзятых ощущений? В угоду общественному давлению молодой поэт давит в себе натуральную потребность излиться в собственных образах, боится, что осудят «за праздное любопытство», давит, стирает образы, которые сами просятся из души его, оставляет их без развития и внимания и вытягивает из себя с болезненными судорогами тему, удовлетворяющую общему, мундирному, либеральному и социальному мнению. Какая, однако, ужасно простая и наивная ошибка, какая грубая ошибка! Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильному дарованию и не заглохнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что высказанное слово серебряное, а невысказанное — золотое. Есть очень и очень значительные таланты, которые так много обещали, но которых до того заело направление, что решительно одело их в какой-то мундир. Я читал две последние поэмы Некрасова — решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире(168). А ведь даже и в этих поэмах есть несколько хорошего и намекает на прежний талант г-на Некрасова. Но что делать: мундирный сюжет, мундирность приема, мундирность мысли, слога, натуральности… да, мундирность даже самой натуральности. Знает ли, например, маститый поэт наш, что никакая женщина, даже преисполненная первейшими гражданскими чувствами, приявшая, чтобы свидеться с несчастным мужем, столько трудов, проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая»(169) (что, впрочем, совсем уже невозможно), — знаете ли вы, поэт, что эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека, а поцелует непременно сначала его самого, а потом уже его цепи, если уж так сильно и внезапно пробудится в ней великодушный порыв гражданского чувства, и так сделает всякая женщина решительно(170). Конечно, замечание мое пустяшное, да и не стоило бы приводить, потому что и поэма-то так только написана, ну, например, чтобы к первому января отвязаться… Впрочем, г-н Некрасов все-таки уже громкое литературное имя, почти законченное, и имеет за собою много прекрасных стихов. Это поэт страдания и почти заслужил это имя. Ну а новеньких все-таки жаль: не у всякого такой сильный талант, чтобы не подчиниться мундирной мысли в начале поприща, а стало быть, и уберечь себя от литературной чахотки и смерти. Что делать: мундир-то ведь так красив, с таким шитьем, блестит… Да и как выгоден! то есть теперь особенно выгоден.
Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина(171), то тотчас же испугался. Даже самый сюжет ужасен: у нас как-то принято, что бурлаки всего более способны изображать известную социальную мысль о неоплатном долге высших классов народу. Я так и приготовился их всех встретить в мундирах, с известными ярлыками на лбу. И что же? К радости моей, весь страх мой оказался напрасным: бурлаки, настоящие бурлаки и более ничего. Ни один из них не кричит с картины зрителю: «Посмотри, как я несчастен и до какой степени ты задолжал народу!» И уж это одно можно поставить в величайшую заслугу художнику. Славные, знакомые фигуры: два передовые бурлака почти смеются, по крайней мере, вовсе не плачут и уж отнюдь не думают о социальном своем положении. Солдатик хитрит и фальшивит, хочет набить трубочку. Мальчишка серьезничает, кричит, даже ссорится — удивительная фигура, почти лучшая в картине и равна по замыслу с самым задним бурлаком, понуренным мужичонкой, плетущимся особо, которого даже и лица не видно. Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах высших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого вековечным горем мужичонка… и — и знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, — именно вашей направительной, либеральной цели! Ведь иной зритель уйдет с нарывом в сердце и любовью (с какою любовью!) к этому мужичонке, или к этому мальчишке, или к этому плуту-подлецу солдатику! Ведь нельзя не полюбить их, этих беззащитных, нельзя уйти, их не полюбя. Нельзя не подумать, что должен, действительно должен народу… Ведь эта бурлацкая «партия» будет сниться потом во сне, через пятнадцать лет вспомнится! А не были бы они так натуральны, невинны и просты — не производили бы такого впечатления и не составили бы такой картины. Теперь ведь это почти картина! Да и отвратительны все мундирные воротники, как ни расшивай их золотом! Впрочем, что тут разглагольствовать; да и картину рассказывать нечего; картины слишком трудно передавать словами. Просто скажу: фигуры гоголевские.(172) Слово это большое, но я и не говорю, что г-н Репин есть Гоголь в своем роде искусства. Наш жанр еще до Гоголя и до Диккенса не дорос.
Некоторую утрировку можно заметить, впрочем, и у г-на Репина: это именно в костюмах, и то только в двух фигурах. Такие лохмотья даже и быть не могут. Эта рубашка, например, нечаянно попала в корыто, в котором рубили сечкой котлеты. Без сомнения, бурлаки костюмами не блистают. Всем известно, откуда этот народ: дома в конце зимы, как не раз извещали по крайней мере, корой питаются и идут по весне к хозяину тянуть барку, по крайней мере иные, из-за одной только каши, почти без всякого уговора. Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак, навалившись на нее с голодухи, задушится, «лопнет». Лекаря взрезывали, говорят, этих людей и находили одну только кашу до самого горла.(173) Вот это какие иногда субъекты. Но всё же невысказанное слово золотое, тем более что такую рубашку и надеть нельзя, если раз только снять: не влезет. Впрочем, в сравнении с достоинством и независимостью замысла картины эта крошечная утрировка костюмов ничтожна.
Жаль, что я ничего не знаю о г-не Репине. Любопытно узнать, молодой это человек или нет? Как бы я желал, чтоб это был очень еще молодой и только что еще начинающий художник. Несколько строк выше я поспешил оговориться, что все-таки это не Гоголь. Да, г-на Репин, до Гоголя еще ужасно как высоко; не возгордитесь заслуженным успехом. Наш жанр на хорошей дороге, и таланты есть, но чего-то недостает ему, чтобы раздвинуться или расшириться. Ведь и Диккенс — жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внучку» в романе «Лавка древностей»(174); нет, нашему жанру до этого далеко; он еще стоит на «Охотниках» и «Соловьях». «Соловьев» и «Охотников» у Диккенса множество на второстепенных местах. Я даже думаю, что нашему жанру в настоящую минуту нашего искусства, сколько могу судить по некоторым признакам, «Пиквик» и «Внучка» покажутся даже чем-то идеальным, а сколько я заметил по разговорам с иными из наших крупнейших художников — идеального они боятся вроде нечистой силы. Боязнь благородная, без сомнения, но предрассудочная и несправедливая. Надо побольше смелости нашим художникам, побольше самостоятельности мысли и, может быть, побольше образования. Вот почему, я думаю, страдает и наш исторический род, который как-то затих. По-видимому, современные наши художники даже боятся исторического рода живописи и ударились в жанр, как в единый истинный и законный исход всякого дарования. Мне кажется, что художник как будто предчувствует, что (по понятиям его) придется ему непременно «идеальничать» в историческом роде, а стало быть, лгать. «Надо изображать действительность как она есть», — говорят они, тогда как такой действительности совсем нет, да и никогда на земле не бывало, потому что сущность вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства; стало быть, надо дать поболее ходу идее и не бояться идеального. Портретист усаживает, например, субъекта, чтобы снять с него портрет, приготовляется, вглядывается. Почему он это делает? А потому что он знает на практике, что человек не всегда на себя похож, а потому и отыскивает «главную идею его физиономии», тот момент, когда субъект этот наиболее на себя похож. В умении приискать и захватить этот момент и состоит дар портретиста. А стало быть, что же делает тут художник, как не доверяется скорее своей идее (идеалу), чем предстоящей действительности? Идеал ведь тоже действительность, такая же законная, как и текущая действительность. У нас как будто многие не знают того. Вот, например, «Гимн пифагорейцев» Бронникова: иной художник-жанрист (и даже из самых талантливых) удивится даже, как возможно современному художнику хвататься за такие темы. А между тем такие темы (почти фантастические) так же действительны и так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность.(175)
Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения современной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел собственными глазами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственными глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. (Сделаю nota bene: мы говорим: «видел собственными глазами». Ведь Диккенс никогда не видел Пиквика собственными глазами, а заметил его только в многоразличии наблюдаемой им действительности, создал лицо и представил его как результат своих наблюдений. Таким образом, это лицо так же точно реально, как и действительно существующее, хотя Диккенс и взял только идеал действительности). Между тем у нас именно происходит смешение понятий о действительности. Историческая действительность, например в искусстве, конечно не та, что текущая (жанр), — именно тем, что она законченная, а не текущая. Спросите какого угодно психолога, и он объяснит вам, что если воображать прошедшее событие и особливо давно прошедшее, завершенное, историческое (а жить и не воображать о прошлом нельзя), то событие непременно представится в законченном его виде, то есть с прибавкою всего последующего его развития, еще и не происходившего в тот именно исторический момент, в котором художник старается вообразить лицо или событие. А потому сущность исторического события и не может быть представлена у художника точь-в-точь так, как оно, может быть, совершалось в действительности. Таким образом, художника объемлет как бы суеверный страх того, что ему, может быть, поневоле придется «идеальничать», что, по его понятиям, значит лгать. Чтоб избегнуть мнимой ошибки, он придумывает (случаи бывали) смешать обе действительности — историческую и текущую; от этой неестественной смеси происходит ложь пуще всякой. По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге(176). Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр.(177) Всмотритесь внимательнее: это обыкновенная ссора весьма обыкновенных людей. Вот сидит Христос, — но разве это Христос? Это, может быть, и очень добрый молодой человек, очень огорченный ссорой с Иудой, который тут же стоит и одевается, чтобы идти доносить, но не тот Христос, которого мы знаем. К Учителю бросились его друзья утешать его; но спрашивается: где же и причем тут последовавшие восемнадцать веков христианства? Как можно, чтоб из этой обыкновенной ссоры таких обыкновенных людей, как у г-на Ге, собравшихся поужинать, произошло нечто столь колоссальное?
Тут совсем ничего не объяснено, тут нет исторической правды; тут даже и правды жанра нет, тут всё фальшивое.
С какой бы вы ни захотели судить точки зрения, событие это не могло так произойти: тут же всё происходит совсем несоразмерно и непропорционально будущему. Тициан, по крайней мере, придал бы этому Учителю хоть то лицо, с которым изобразил его в известной картине своей «Кесарево кесареви»(178); тогда многое бы стало тотчас понятно. В картине же г-на Ге просто перессорились какие-то добрые люди; вышла фальшь и предвзятая идея, а всякая фальшь есть ложь и уже вовсе не реализм. Г-н Ге гнался за реализмом.
Однако я и забыл о выставке. Впрочем… Какой же я репортер; я хотел лишь сделать несколько отметок «по поводу». Тем не менее редакция обещает поместить подробный отчет о картинах наших художников, отправляющихся на венскую выставку; или, может быть, еще лучше, постарается упомянуть о них уже с выставки, уже с отчетом о впечатлении, которое они произведут в свою очередь на собравшихся иностранцев.
(151) Это уже не в первый раз, и русских современных художников начинают знать в Европе. — Произведения русских художников выставлялись на всемирной выставке в Лондоне в 1862 г., затем в Париже в 1867 г., в небольшом количестве — в Мюнхене в 1869 г. Впервые большого успеха и международного признания русское искусство добилось на лондонской выставке 1872 г.
(152) …переведите комедию г-на Островского — ну, «Свои люди сочтемся», или даже любую — и я, право, не знаю, что выйдет. — «Свои люди сочтемся» (первоначально «Банкрот») — ранняя комедия A. H. Островского, принесшая ему известность. Впервые напечатанная в «Москвитянине» (1850. № 6), комедия была запрещена цензурой и вновь появилась в печати, в иной уже редакции, в 1859 г. в первом томе «Сочинений» Островского. Впервые поставлена на сцене Александрийского театра в Петербурге 16 января 1861 г. и 31 января 1861 г. на сцене Малого театра в Москве. Одна из самых резких, критических пьес Островского, комедия вызвала ряд восторженных отзывов современников. А. Ф. Писемский писал Островскому в 1850 г.: «Ваш „Банкрут“ — купеческое „Горе от ума“, или, точнее сказать: купеческие „Мертвые души“» (Неизданные письма к A. H. Островскому. M.; Л., 1932. С. 336). Достоевский, видимо, разделял высокую оценку комедии Островского, считая ее глубоко национальным произведением.
(153) …в моей молодости — г-н Виардо (муж знаменитой певицы — переводит нашего Гоголя под руководством г-на Тургенева. — Перевод повестей Гоголя на французский язык вышел в Париже в 1845 г. под названием «Nouvelles russes. Traduction française par Louis Viardot». В книгу вошли: «Тарас Бульба», «Записки сумасшедшего», «Коляска», «Старосветские помещики» и «Вий». В предисловии Л. Виардо говорит об участии в переводе И. С. Тургенева и С. А. Гедеонова (1815–1878), которые продиктовали Виардо, не знавшему русского языка, повести Гоголя по-французски; он же лишь обработал слог. Свидетельство об успехе этого перевода во Франции содержится в двух заметках Белинского (см.: Белинский В. Г. Полн. собр. соч. M., 1955. T. 9. С. 369, 421).
(154) …доказал превосходным своим переводом «Дон-Кихота» на французский язык. — Перевод «Дон-Кихота», сделанный Луи Виардо, крупным переводчиком и исследователем испанской литературы, впервые вышел на французском языке в 1836 г. (второе издание — в 1864 г.).
(155) Он написал только несколько стихов, забыл каких, и, сверх того, повесть «Три портрета» — произведение уже значительное). — Из ранних произведений Тургенева Достоевскому, по-видимому, запомнились те, которые были напечатаны одновременно с «Бедными людьми» в «Петербургском сборнике» 1846 г. Это поэма «Помещик», несколько стихотворений и повесть «Три портрета». Ранее были опубликованы поэмы Тургенева «Параша» (1843) и «Разговор» (1845), драматические произведения и рассказ «Андрей Колосов» (Отеч. зап. 1844. № 11).
(156) «Пиковая дама», «Капитанская дочка», которые тоже были переведены тогда по-французски… — Повесть А. С. Пушкина «Пиковая дама» впервые вышла во французском переводе П. де Жюльвекура в 1843 г. (в кн.: Julvecourt Paul de. Le Jatagan. Paris, 1843). B 1849 r. появился перевод П. Мериме, опубликованный в журнале «Revue de deux mondes» (1849. 15 juill. P. 185–206). B 1852 г. вышла новая редакция перевода Мериме, которая переиздавалась много раз. Перевод на, французский язык «Капитанской дочки» был сделан И. С. Тургеневым с участием Л. Виардо и впервые опубликован в 1853 г. (La fille du capitaine. Traduction de Louis Viardot. Paris, 1853). В этом переводе «Капитанская дочка» переиздавалась неоднократно.
(157) …мы на русском языке понимаем Диккенса, я уверен, почти так же, как и англичане… — Творчество Ч. Диккенса (1812–1870) было известно в России с 30-х годов XIX в. Особенно возросла его популярность в 1840-х годах, когда он оказал заметное влияние на молодого Достоевского и ряд писателей «натуральной школы». «Имя Диккенса более или менее известно у нас всякому образованному человеку», — писала в 1844 г. «Литературная газета». Но в понимании Диккенса не было единодушия. Писатели круга некрасовских «Отечественных записок» и «Современника» видели в нем острого социального писателя и благодаря этому замечательного художника; литераторы либерального (Дружинин) и славянофильского толка — прежде всего мягкого юмориста и все примиряющего гуманиста. Для Достоевского Диккенс всегда оставался одним из самых близких художников. Cp. комментарий, к С. 89.
(158) Даже нарочно изучавшие нас европейцы — не понимая иных фактов… — Вероятно, Достоевский прежде всего имеет в виду сочинения маркиза Адольфа де Кюстина (1790–1857) («La Russia en 1839». Paris, 1840; 4-е, доп, изд. — 1843) и барона Августа фон Гакстгаузена (1792–1866) «Studien über die inneren Zustande, das Volksleben und insbesondere die landlichen Einrichtungen Russlands», Bd l-3. Berlin, 1847–1852, русский перевод первого тома «Исследование внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений России» (1857). Книгу Кюстина Достоевский оценивал иронически (см.: «Петербургская летопись» (1847), «Ряд статей о русской литературе. Введение» (1861)). О его отношении к этому сочинению см. также: Кийко E. И. Белинский и Достоевский о книге Кюстина «Россия в 1839» // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1974. T. 1. С. 189–200.
(159) «Эта скудная природа»… — строка из стихотворения Ф. И. Тютчева «Эти бедные селенья…» (1855), любимого Достоевским и часто им цитировавшегося (см., например: IX, 306). Стихотворение Тютчева созвучно одной из ведущих мыслей статьи Достоевского:
(160) …эти две березки в пейзаже г-на Куинджи («Вид на Валааме»)… — Картина А. И. Куинджи (1842–1910) «На острове Валааме» (1873) была первым произведением художника, привлекшим к нему всеобщее внимание. И. E. Репин писал о ней П. M. Третьякову 17 января 1873 г.: «Картина представляет суровую северную природу. Замечательна она еще удивительным серебряным тоном. <…> Гранитная плоскость освещена лучом холодного солнца; даль картины — лес над небольшой рекой и водоросли тонут во мраке под густыми тучами; на первом плане, на пригорке, стоят два, общипанные ветром, дерева — сосна и береза. Очень впечатлительная вещь, всем она ужасно нравится, и еще не дальше как сегодня заходил ко мне Крамской — он от нее в восторге» (Репин И. E. Переписка с Третьяковым. M.; Л., 1946. С. 18).
(161) …даже переселение черкесов — слишком сильного впечатления. — Вероятно, Достоевский имеет в виду картину И. H. Грузинского (1837–1892) «Оставление горцами аулов при приближении русских войск» (1872), написанную для выставки в Париже и вновь экспонировавшуюся в 1873 г. За эту картину живописец получил звание академика. Обозреватель «Голоса» Нил Адмирари в своей статье «По поводу выставки в Академии художеств» дал высокую оценку картине Грузинского, которую он назвал «прекрасной». Рассуждения по поводу нее см.: ГолоС. 1873. 4 марта. № 63.
(162) …небольшая картинка (Маковского) «Любители соловьиного пения», кажется; не знаю, как она названа. — «Любители соловьиного пения», или «Любители соловьев» (1872–1873) — картина В. E. Маковского (1846–1920), получившего за нее звание академика (ныне находится в Третьяковской галерее). В № 8 «Гражданина» за 1873 г., в корреспонденции «Московские заметки», сообщалось о крупнейших событиях русской культурной жизни и в том числе о новой картине Маковского. Излагая ее содержание, автор корреспонденции замечает, что, глядя на картину, «вы забываете всю бедность <…> обстановки», что изображенные на ней люди, принадлежащие к различным социальным группам, показаны как «истинные художники — любители соловьев». «Автор картины сумел выразить общечеловеческое и могучее художественное самозабвение; в которое впали выставленные им лица, и сумел очаровать вас» (Гражданин. 1873. 19 февр. № 8. С. 224). Называя Маковского «истинно русским художником», автор «Московских заметок» трактует картину в славянофильском духе. Анализ картины Маковского, данный Достоевским, во многом близок анализу автора «Московских заметок», однако выводы Достоевского сложнее и глубже. Он видит в картине «любовь к человечеству, не только к русскому в особенности, но даже и вообще» (С. 85).
(163) …(как-то уже это принято, что всё это «темное царство» — в домашнем быту)… — «Темное царство» — выражение H. А. Добролюбова (из статьи того же названия 1859 г., посвященной драмам A. H. Островского). В упоминавшемся разборе картины Маковского в «Гражданине» (см. предыдущие примеч.) один из купцов, изображенных на картине, назван «членом из пресловутого „темного царства“», но это пренебрежительное отношение к формуле Добролюбова Достоевским не разделяется. Напротив, он сочувственно относился к основной идее добролюбовской статьи. В письме H. H. Страхову от 6 (18) апреля 1869 г. он заметил: «Может быть, Островскому и <…> не приходило в ум всей идеи насчет темного царства, но Добролюбов подсказал хорошо и попал на хорошую почву» (XXIX, кн. 1, 36).
(164) …в эстонской или лифляндской каюте игра в карты, — это, конечно, понятно — в карты все играют и гадают, так что и «Десятка пик» (так названа одна картина) будет совершенно понятна… — Имеются в виду картины финского художника Янсена «Трефовый туз в аландской каюте» и польского художника Шульца «Девятка пик», изображающая сцену гадания. О картине Шульца подробно и сочувственно рассказал Нил Адмирари в статье «По поводу выставки в Академии художеств» (ГолоС. 1873. 4 марта № 63). Полотно Янсена было положительно оценено в венской газете «Presse» от 3 августа 1873 г. См. также: Стасов В. В. Немецкие критики о русском художестве на венской выставке // Стасов В. В. Избр. соч.: В 3 т. M., 1952. T. 1. С. 244.
(165) …не думаю, чтобы поняли, например, Перова «Охотников». — Известная картина В. Г. Перова (1832–1882) «Охотники на привале» (1871) находится сейчас в Третьяковской галерее. Восторженный отзыв об этой картине, как и о других полотнах русских «передвижников», содержится в отчете H. К. Михайловского «На Венской всемирной выставке» (Отеч. зап. 1873. № 7. Отд. II. С. 130). Достоевский всегда ценил Перова как национального художника Ср., например, отзыв о нем в статье 1861 г. «Выставка в Академии художеств» (см.: XIX, 166–167). В 1872 г. Перов по заказу П. M. Третьякова создал известный портрет Достоевского.
(166) …как отнесутся в Вене к «Псаломщикам» Маковского. — Речь идет о картине В. E. Маковского «Придворные псаломщики на клиросе» (1870). В настоящее время она находится в Севастопольской областной картинной галерее.
(167) …окажется гораздо полезнее для его же целей, чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей)… — В статье «Литературные и журнальные заметки» (январь 1873 г.) H. К. Михайловский писал: «Читали ли они (критики, ратующие за преимущественное развитие литературной техники. — Ред.) лирическое стихотворение, более высокохудожественное, чем „Песня о рубашке“ Томаса Гуда? И знают ли они вместе с тем лирическое стихотворение более тенденциозное?» (Отеч. зап. 1873. № 1. Отд. II. С. 158) «Песня о рубашке» (1843) — стихотворение английского поэта T. Гуда (Hood, 1793–1845), изображающее тяжелое положение женщины-швеи и направленное против эксплуатации женского труда. На русский язык оно переведено M. Л. Михайловым (Современник. 1860. № 9. С. 63–66). В 1861 г. в «Современнике» была опубликована статья M. Л. Михайлова «Юмор и поэзия в Англии. Томас Гуд», в которой сказано, что Гуд поэт, в чьих произведениях «нашли свой голос бедствия бедных классов» (Современник. 1861. № 8. С. 377).
(168) Я читал две последние поэмы Некрасова — решительно этот почтенный поэт наш ходит теперь в мундире. — Речь идет о поэмах H. А. Некрасова «Княгиня Трубецкая» (Отеч. зап. 1872. № 4) и «Княгиня M. H. Волконская» (Отеч. зап. 1873. № 1), напечатанных под общим заглавием «Русские женщины» и вошедших затем в книгу «Стихотворения H. Некрасова» (СПб., 1873). Об отношении Достоевского к этим поэмам см. выше, С. 337.
(169) …проехавшая шесть тысяч верст в телеге и «узнавшая прелесть телеги», слетевшая, как вы сами уверяете, «с высокой вершины Алтая»… — См. в поэме «Княгиня M. H. Волконская» (гл. V):
(170) …Эта женщина ни за что не поцелует сначала цепей любимого человека — и так сделает всякая женщина решительно. — В гл. VI поэмы «Княгиня M. H. Волконская» героиня так вспоминает о встрече с мужем в Нерчинске:
(171) Чуть только я прочел в газетах о бурлаках г-на Репина… — Картина И. E. Репина (1844–1930) «Бурлаки на Волге» (находится в настоящее время в Санкт-Петербурге в Русском музее) была первым произведением, принесшим художнику не только всероссийскую, но и международную известность. На выставке в Вене произведение это воспринималось как наиболее значительное из всей русской экспозиции и вызвало много откликов (см., например: H. M. На венской всемирной выставке // Отеч. зап. 1873. № 7. Отд. II. С. 131–132; Стасов В. В. Немецкие критики о русском художестве на венской выставке. С. 242–250). В разборе Достоевским «Бурлаков» заметно воздействие на него статьи В. В. Стасова «Картина Репина „Бурлаки на Волге“» (С.-Петербургские ведомости. 1873. 18 марта. № 76), которую Достоевский мог прочитать непосредственно перед тем, как приступить к статье «По поводу выставки».
(172) А не были бы они так натуральны, невинны и просты — Просто скажу: фигуры гоголевские. — Cp. отзыв В. В. Стасова о «Бурлаках» в «С.-Петербургских ведомостях»: «Но не для того, чтобы разжалобить и вырвать гражданские вздохи, писал свою картину г-н Репин: его поразили виденные типы и характеры, в нем жива была потребность нарисовать далекую, безвестную русскую жизнь, и он сделал из своей картины такую сцену, для которой ровню сыщешь разве только в глубочайших созданиях Гоголя» (Стасов В. В. Избр. соч. T. 1. С. 240).
(173) Примеры бывали, что с первых дней так и умрет у каши бурлак — находили одну только кашу до самого горла. — Сведения эти, возможно, почерпнуты Достоевским из романа H. С. Лескова «Соборяне», впервые напечатанного в 1872 г. в «Русском вестнике» (№ 4–7). В главе тринадцатой пятой части «Соборян» рассказывается о нескольких случаях смерти от переедания долго перед тем голодавших людей. Когда лекарь вскрыл трупы умерших за едой двух братьев-бурлаков, он, «ища в желудке отравы, нашел одну кашу, кашей набит растянутый донельзя желудок, кашей набит был пищевод, и во рту и в гортани везде лежала все та же самая съеденная братьями каша» (Лесков H. С. Собр. соч.·. В 11 т. M., 1957, T. 4. С. 305).
(174) Ведь и Диккенс — жанр, не более; но Диккенс создал «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Дедушку и внучку» в романе «Лавка древностей»… — Достоевский называет здесь ранние романы Диккенса, получившие широкую известность в России уже в 1840-х годах: «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836–1837; первый русский перевод в 1838 г. в «Сыне отечества»); «Приключения Оливера Твиста» (1839, первый русский перевод в 1841 г. в «Отечественных записках»); «Лавка древностей» (1841; первый русский перевод в 1843 г. в «Библиотеке для чтения», вышел затем в 1853 г. отдельным изданием под названием «Дедушка и внучка» и в 1861 г. в обработке для детей под тем же названием был напечатан в «Подснежнике», № 1–4). В этих произведениях сильнее, чем в поздних, более социальных романах, сказались романтические мотивы творчества Диккенса, в них ощутимее то, что Достоевский именует «идеальностью», призывая русских художников «не бояться „идеальности“, но <…> смело доверять ей» (см.: Фридлендер Г. M. Эстетика Достоевского // Достоевский — художник и мыслитель. M., 1972. С. 155). Названные Достоевским романы Диккенса нашли отражение в его собственном творчестве. О Пиквике как одном из литературных предшественников князя Мышкина см. IX, 239, 40l. Об использовании в сюжете повести «Село Степанчиково и его обитатели» эпизода из «Записок Пиквикского клуба» см.: наст. изд. T. 3. С. 514. Воздействие «Лавки древностей» особенно ощутимо в «Униженных и оскорбленных» (см.: III, 526); своеобразную интерпретацию этого романа Достоевский дает в «Подростке» устами Тришатова (см.: наст. изд. T. 8. С. 566 и 805).
(175) .. «Гимн пифагорейцев» Бронникова — так же необходимы искусству и человеку, как и текущая действительность. — Картина профессора исторической живописи Ф. А. Бронникова (1827–1902) «Гимн пифагорейцев восходящему солнцу» (1869) была написана в академической манере, на характерный для этого художника возвышенный античный сюжет (в настоящее время находится в Третьяковской галерее). «Гимн пифагорейцев» принес художнику большой успех. Тем не менее Нил Адмирари писал в «Голосе» в связи с отбором картин для выставки в Вене: «Как на пример вопиющей ошибки в выборе укажем на то, что такая картина, как смехотворный „Гимн пифагорейцев“ псевдоклассика г-на Бронникова, будет красоваться в Вене, тогда как прелестная картина г-на Прянишникова „Гостинный двор в Москве“ забракована, если верить слухам, из патриотизма…» (ГолоС. 1873. 4 марта. № 63).
(176) …эта пагубная ошибка замечается в некоторых картинах г-на Ге. — Ha выставке 1873 г. экспонировалась картина H. H. Ге (1831–1894) «Петр I и царевич Алексей» (1871), находящаяся сейчас в Третьяковской галерее (авторское повторение — в pуcckom музее в Санкт-Петербурге). Критика упрекала Ге в бытовизме и в снижении характеров обоих героев-противников. Обозреватель венской выставки в журнале «Дело» E. Григо писал, например: «Картина Ге „Царь Петр“ производит странное впечатление <…> На стуле сидит сильный мужчина, Петр, с покрасневшим от гнева лицом, холодом веет от всей его фигуры. Перед ним стоит бледный, худой, длинный, с меланхолическим выражением в лице юноша <…> это царевич Алексей, сын Петра <…> Симпатии зрителя обращены к сыну, но, говорят, художник рассчитывал, что они будут обращены на отца, одного из величайших умов своего времени» (Дело. 1873. № 9. С. 133 3-ей паг.).
(177) Из своей «Тайной вечери», например, наделавшей когда-то столько шуму, он сделал совершенный жанр. — Картина H. H. Ге «Тайная вечеря» (1863) была впервые выставлена в Академии художеств в 1863 г. и сразу же возбудила всеобщее внимание, вызвав оживленную полемику. В настоящее время находится в Русском музее в Санкт-Петербурге. Демократическая критика восторженно встретила появление этой картины. M. E. Салтыков-Щедрин писал в 1863 г. в обозрении «Наша общественная жизнь»: «Картина Ге представляет у нас явление совершенно новое именно по совершенному отсутствию всяких рутинных приемов и приторно-казенных эффектов и по совершенно ясному отношению художника к изображаемому им событию. И такова сила художественной правды, что это отсутствие эффектов не только не умаляет значения самого события, но, напротив того, усугубляет его и представляет событие во всей его торжественной поучительности, во всей поразительной красоте» (Современник. 1863. № 11. Ср.: Салтыков-Щедрин M. E. Собр. соч.: В 20 т. M., 1968. T. 6. С. 153). Подробный разбор картины с глубоко сочувственным отзывом о ней содержится в статье А. Сомова в № 213 «Петербургских ведомостей» за 1863 г. Известен восторженный отзыв И. E. Репина о «Тайной вечере» Ге в его письме к В. В. Стасову от 26 октября 1876 г. (Репин И. Е., Стасов В. В. Переписка. M.; Л., 1948. T. 1. С. 140). Напротив, ряд критиков увидел в картине бытовое решение высокой «вечной» темы, ее снижение и упрощение. Так, в «Современной летописи» говорилось: «Ге — первый из живописцев намеренно отнял у величайшего из мировых событий его божественность. Этим он поколебал основание своего сюжета, отчего картина его не верна художественной истине…» (Современная летопись. 1863. № 38). Сходным образом, но более спокойно высказался В. В. Стасов в статье «Академическая выставка 1863 года» (Библиотека для чтения. 1864. № 2). Он отметил высокие живописные достоинства картины Ге, однако трактовка сюжета вызвала его возражения: «Так представлять Христа — значит вовсе не понимать ни его характера, ни его значения, и если художник ничего другого не в состоянии был создать своею фантазией, кроме представления учителя, проводника новой жизни и истины существом, не умеющим показать нравственной громадной силы своей, — то лучше было бы сюжета тайной вечери не брать вовсе» (Стасов В. В. Избр. соч. T. 1. C. 119). Мнение Достоевского о «Тайной вечере» близко этому отзыву Стасова. Cp. также ироническое упомининие Ге в «Записках из подполья» (см.: наст. изд. T. 4. С. 465 и 769) и сопоставление имен Ге и Репина в подготовительных материалах к «Бесам» (XI, 192; XII, 354).
(178) Тициан — изобразил его в известной картине своей «Кесарево кесареви»… — Картина Тициана (1477–1576) «Кесарев динарий» (или «Христос с монетой», 1506?) написана на евангельский сюжет, согласно которому Иисус, когда спросили его, «позволительно ли давать подать кесарю или нет», велел принести монету и, указав на изображение кесаря на динарии, сказал: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Евангелие от Матфея, гл. 22, ст. 15–21). Она находится в Дрезденской галерее, и Достоевский хорошо ее знал. По свидетельству А. Г. Достоевской, «Христос с монетой» — одно из любимейших живописных произведений писателя (см.: Достоевская А. Г. Воспоминания. M, 1971. С. 150). 20 апреля 1867 г. А. Г. Достоевская записала в своем дневнике о картине Тициана: «Эта великолепная картина, по выражению Феди, может стоять наравне с Мадонною Рафаэля. Лицо Христа выражает удивительную кротость, величие, страдание» (Достоевская А. Г. Дневник. 1867. M., 1923. С. 19).
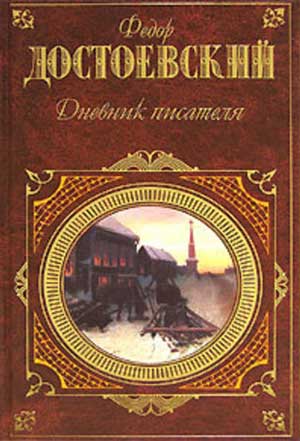
Комментировать