Часть вторая. Религия и научные методы
Глава четвертая. Способы соотношения науки и религии
Успехи научных методов становятся одной из основных проблем, возникающих перед религией в век науки. Создается впечатление, что наука – единственно надежный путь познания. Многие рассматривают ее как объективный, универсальный и рациональный метод, основанный на солидных экспериментальных свидетельствах. Религия, напротив, представляется субъективной, ограниченной, основанной на эмоциях и традициях или авторитетах, зачастую несогласных друг с другом. Темой второй части этой книги являются используемые в науке методы исследования, но здесь мы не будем касаться отдельных научных открытий или теорий. В главе 4 дается общее описание современных представлений о взаимоотношении научных и религиозных методов. В главах 5 и 6 я исследую сходства и различия между этими двумя сферами и представляю свои соображения относительно положения религиозных верований в век науки.
Желая дать систематический обзор существующих сегодня вариантов, я сгруппировал их в этой главе под четырьмя заголовками: «Конфликт», «Независимость», «Диалог» и «Интеграция». Отдельные авторы могут не вполне вписываться в подобную схему: человек может разделять данную позицию лишь по некоторым пунктам. Тем не менее эта общая схема существующих альтернатив поможет нам производить сравнение в следующих главах. Рассмотрев эти четыре основных модели, я изложу доводы в поддержку диалога и, с некоторыми оговорками, в поддержку интеграции120.
I. Конфликт
Одним из исторических примеров конфликта было дело Галилея, однако многие факторы, на него повлиявшие, сегодня уже не имеют значения. Сюда относятся и авторитет Аристотеля, и оборонительная реакция, и политическое соперничество в римской иерархии, почувствовавшей угрозу со стороны протестантской Реформации. В случае Дарвина мы действительно видим конфликт взглядов, однако отклики и богословов, и ученых были значительно разнообразнее, чем в популярных представлениях о «войне между наукой и религией». Образ войны и сегодня остается достаточно распространенным, отчасти благодаря конфликту между крайними точками зрения, который драматично подается средствами массовой информации, тогда как более тонкие и сложные промежуточные позиции обычно остаются за кадром.
Научный материализм и библейский буквализм лежат на противоположных концах богословского спектра. Тем не менее у них есть несколько общих отличительных особенностей, что побуждает меня рассматривать их вместе. Представители обоих направлений полагают, что между современной наукой и классическими религиозными представлениями существуют серьезнейшие противоречия. И те, и другие стремятся найти незыблемые основания знания: в одном случае это логика и чувственные данные, в другом – непогрешимое Писание. И те, и другие считают, что наука и религия предлагают взаимоисключающие точные описания одной и той же сферы – истории природы и что необходимо выбирать один из этих вариантов. Я полагаю, что и научный материализм, и библейский буквализм злоупотребляют наукой одинаково. Научный материализм, исходя из научных представлений, пытается затем делать из них широкие философские обобщения. Библейский буквализм исходит из богословских представлений, но стремится делать выводы о научных вопросах. Таким образом, оба направления не придают должного значения различию между двумя дисциплинами.
1. Научный материализм
Научные материалисты – интеллектуальные наследники французского Просвещения, эмпиризма Дэвида Юма и эволюционного натурализма XIX века. Большинство из них придерживается двух убеждений: (1) научный метод – единственно надежный путь к знанию; (2) основополагающей реальностью вселенной является материя (или материя и энергия).
Первое из этих убеждений – эпистемологическое утверждение о характеристиках исследования и познания. Второе – метафизическое утверждение о характеристиках действительности. Оба утверждения связаны предположением о том, что реальны лишь объекты и причины, которые являются предметом научного изучения, и лишь наука может раскрыть природу действительности.
Кроме того, многие варианты материализма являются выражением редукционизма. Эпистемологический редукционизм утверждает, что законы и теории всех наук в принципе сводимы к законам физики и химии. Метафизический редукционизм считает, что составные части любой системы определяют ее наиболее фундаментальную действительность. Материалист полагает, что все явления в конечном итоге можно объяснить в рамках деяния материальных составляющих, которое является единственной действующей причиной в мире. Анализ частей любой системы, безусловно, весьма полезен в научном отношении, однако я считаю, что исследование высших уровней организации больших систем также представляет огромную ценность.
Рассмотрим утверждение о том, что научный метод – это единственно надежная форма постижения. Наука отталкивается от общедоступных данных, которые можно воспроизвести. Проверка сформулированных теорий совершается с помощью экспериментальных наблюдений. На выбор теории влияют также такие факторы, как согласованность, всестороннесть и плодотворность. Религиозные верования с такой точки зрения неприемлемы, поскольку у религии нет таких данных, такой экспериментальной проверки и таких критериев оценки. Лишь развивающаяся наука объективна, непредвзята, универсальна и прогрессивна. Религиозные традиции, напротив, считаются субъективными, предвзятыми, ограниченными, некритичными и неспособными к изменению. Мы увидим далее, что историки и философы науки ставят под сомнение подобное идеализированное представление о науке, однако многие ученые разделяют его и полагают, что оно подрывает доверие к религии.
Относительно философов, с 1920-х до 1940-х гг. представители логического позитивизма настаивали, что научный дискурс создает норму для любого значимого языка. Они проповедовали, что значимыми утверждениями (независимыми от абстрактных логических отношений) являются лишь эмпирические предположения, подтверждаемые чувственными данными. Формулировки этического, метафизического и религиозного характера не считались ни истинными, ни ложными, но лишь бессмысленными псевдоутверждениями, выражением эмоций или предпочтений, лишенным познавательного значения. Таким образом, целые области человеческого языка и опыта оказались исключены из серьезного обсуждения, поскольку их невозможно проверить научными методами. Однако критики отвечали на это, что чувственные данные не могут быть несомненным отправным пунктом для науки, ибо они уже подвергнуты концептуальной организации и несут на себе теоретическую нагрузку. Взаимодействие наблюдения и теории сложнее, чем полагали позитивисты. Кроме того, позитивисты пренебрегали метафизическими вопросами, но часто склонялись к метафизическому материализму. Сторонники лингвистического анализа признавали, что наука не может быть нормой для любого значимого рассуждения, поскольку у языка существует множество различных функций и способов употребления.
Большая часть недавнего телесериала и книги Карла Сагана под названием «Космос» представляет собой изложение открытий современной астрономии, но в промежутках автор вставляет свои философские комментарии, например: «Космос – это все, что есть, все, что было, и все, что будет»121. Он уверяет, что вселенная вечна, или, иначе, что ее истоки непознаваемы. Саган критикует христианскую идею Бога по многим направлениям, полагая, что мистические и авторитарные утверждения угрожают абсолютности научных методов, которые он считает «универсально приложимыми». Природа (это слово он пишет с большой буквы) становится объектом поклонения, придя на смену Богу. Саган выражает величайшее благоговение перед красотой, обширностью и взаимосвязанностью космоса. Сидя за пультом управления и показывая нам чудеса космоса, Саган являет собою некоего нового первосвященника, не только раскрывающего нам таинства, но и рассказывающего, как мы должны жить. Мы, конечно, можем любоваться этической чувствительностью Сагана и его заботой о мире и сохранении окружающей среды. Но, видимо, стоит поставить под сомнение его безграничную веру в научные методы, которые, по мнению Сагана, неминуемо приведут к наступлению эпохи мира и справедливости.
В качестве подтверждения редукционистского подхода зачастую приводятся успехи молекулярной биологии в изучении основных механизмов генетики и биологической деятельности. Так, Фрэнсис Крик, один из первооткрывателей структуры ДНК, писал: «Конечной целью развития современной биологии является, по сути, объяснение всех биологических проблем с точки зрения физики и химии»122. В главе 9 я буду рассматривать иерархичность уровней организации биологического мира, из которой следует не только осознание важности ДНК и роли молекулярных структур для всех жизненных явлений, но и признание значения тех видов деятельности, которые происходят на высших уровнях, а также их влияния на молекулярные компоненты.
В книге Жака Моно «Случайность и необходимость» дается яркий обзор молекулярной биологии, а также делаются попытки защитить научный материализм. Моно считает, что биология доказала отсутствие у природы цели. «Наконец-то человек понял, что он один в бесчувственной и необъятной вселенной, из недр которой он возник лишь благодаря случайности»123. «Лишь случайность является источником всякой новизны и всякого творения в биосфере». Моно придерживается крайнего редукционизма: «Все может быть сведено к простым и Очевидным механическим взаимодействиям. Клетка – это механизм. Животное – это механизм. Человек – это механизм»124. Сознание – это иллюзия, которую в конечном счете можно объяснить в рамках биохимии. Моно утверждает, что человеческое поведение определено генетически. Роли языка, мысли и культуры в человеческой жизни он почти не уделяет внимания. Ценности, на его взгляд, сугубо субъективны и произвольны. Однако он убеждает нас принять новую аксиому, заключающуюся в том, что высшей ценностью является само познание. Он отстаивает «этику познания», однако не показывает, к чему, помимо поддержки науки, она может привести.
Я полагаю, что для адекватного описания целенаправленного поведения и сознания животных и человека подобной редукционистской модели недостаточно. Существуют и другие толкования, в которых соотношение случайностей и законов предстает более сложным, чем у Моно, и совместимым с некоторыми видами теизма. Биохимик и богослов Артур Пикок приписывает случайности положительную роль при исследовании потенциальных возможностей, присущих сотворенному порядку, что можно согласовать с идеей божественной цели (хотя и не с идеей точного предварительного замысла)125. Моно склонен думать, что наука доказывает отсутствие в космосе цели. Несомненно, правильнее было бы сказать, что наука просто не имеет дела с божественными целями, поскольку они не являются плодотворной концепцией для развития научных теорий.
В качестве другого примера рассмотрим, как отстаивает научный материализм социобиолог Эдуард О. Уилсон. В его работах прослеживается генетическое и эволюционное происхождение социального поведения насекомых, животных и человека. Он задается вопросом, каким образом у общественных насекомых, например, у муравьев, может появляться и сохраняться самоотверженное поведение, если таким образом они жертвуют своей способностью к размножению. Уилсон показывает, что такое «альтруистическое» поведение увеличивает возможность выживания близких родственников со сходными генами (например, в муравьиной колонии), поэтому условия отбора могут способствовать такому самопожертвованию. Он считает, что все человеческое поведение можно объяснить, сведя его к биологическим истокам и существующим генетическим структурам. «Я полагаю, не будет большим преувеличением сказать, что социология и другие общественные, да и гуманитарные науки являются последними отраслями биологии, которые должны быть включены в Современный Синтез»126. Разум в конечном итоге будет объяснен как «эпифеномен нервной организации мозга».
По мнению Уилсона, на ранних этапах человеческой истории религиозная практика способствовала выживанию, поскольку вносила вклад в сплочение групп. Однако он полагает, что теперь, когда объяснено эволюционное происхождение религии, она должна уйти навсегда, уступив место философии или «научному материализму»127. (Будь Уилсон последователен, он должен был бы сказать, что и сила науки также подорвана объяснением ее эволюционного происхождения. Действительно ли эволюционное происхождение той или иной дисциплины подрывает ее значимость?) Уилсон утверждает, что мораль является следствием импульсов, закодированных глубоко в генах, и что «единственной доказуемой функцией морали является сохранение генов в целости».
Труды Уилсона подвергались критике с различных сторон. Так, антропологи отмечают, что большинство систем человеческого родства вовсе не организованы в соответствии с коэффициентами генетического сходства и что Уилсон даже не принимает во внимание объяснение человеческого поведения с точки зрения культуры128. Я бы сказал, что он описывает важную область биологии, поясняющую ряд ограничений в человеческом поведении, но при этом слишком обобщает, считая это исчерпывающим разъяснением и не оставляет места для сил, объясняющих другие грани человеческой жизни и опыта. В главе 10 мы подробнее остановимся на взглядах Уилсона. Философ Дэниэл Денет стоит на твердых неодарвинистских позициях, которые он выводит из теории вероятности, когнитивной науки и компьютерного моделирования. Эволюция, по его мнению, есть результат бессмысленного и бесцельного процесса. Он неистово отвергает все формы замысла, включая выдвинутую в некоторых работах Дарвина идею о том, что весь эволюционный процесс и его законы являются результатом замысла. Денет видит себя не «жадным редукционистом» (пытающимся объяснить все процессы, происходящие на высших уровнях, в терминах законов, действующих на низших), а, скорее, «добрым редукционистом», признающим существование многих уровней и «новых принципов объяснения для каждого уровня» и пытающимся связать различные уровни друг с другом. Однако он представляет единое сознание иллюзией и стремится найти физическое объяснение для всех психических процессов. «Согласно материалистическим представлениям, мы можем (в принципе!) считать, что любое психическое явление подчиняется тем же законам и складывается из того же материала, что и радиоактивность, фотосинтез, воспроизводство, питание и рост»129. В следующих главах я остановлюсь также на взглядах таких научных материалистов, как биолог Ричард Доукинс (Dawkins) и физик Стивен Вайнберг (Weinberg).
Мне кажется, что эти авторы не смогли отделить научные вопросы от философских. В своих популярных работах ученые стремятся апеллировать к авторитету науки в тех вопросах, которые не входят в ее компетенцию. Но ведь статьи в физических, химических и биологических журналах не обсуждают проблем материализма, теизма и иных мировоззрений, дающих философскую интерпретацию науки и являющихся различными системами убеждений, каждая из которых стремится охватить всю действительность.
В своих эпистемологических представлениях эти авторы утверждают, что научный метод является единственно надежным источником познания. Такие воззрения их критики иногда называют «сциентизмом». Если наука – это единственно приемлемая форма познания, то объяснения с точки зрения астрономического происхождения, эволюционной истории, биохимических механизмов и других научных теорий исключают все остальные формы объяснений. Я же считаю, что наука полагается на безличные концепции и оставляет за пределами своего исследования наиболее отличительные особенности личной жизни. Кроме того, концепция Бога не предназначена для того, чтобы стать гипотезой для объяснения явлений этого мира, конкурирующей с научными гипотезами. Вера в Бога – это, прежде всего, обязательство определенным образом вести себя в соответствии с формами религиозного опыта, сложившимися в обществе как результат исторической традиции. Она не заменяет научного исследования. Религиозная вера создает широкую смысловую конструкцию, в которую могут быть вписаны отдельные события. Грубо говоря, религия спрашивает – почему, а наука спрашивает – как, хотя мы увидим, что подобное разделение нуждается в существенных оговорках.
В области метафизики эти авторы распространяют научные концепции за пределы их научного использования, чтобы поддержать всеобъемлющую материалистическую философию. Мы видели, что Галилей и Декарт различали первичные свойства (такие, как масса и движение, которые признавались независимыми от наблюдателя) и вторичные свойства (такие, как цвет и звук, которые считались чисто субъективными). Отождествление реального с измеряемыми свойствами, которые связаны строгими математическими соотношениями, берет свое начало в физических науках, но его влияние ощущается по сей день и в других науках. Однако я склонен думать, что эти свойства материи рассматривались в отрыве от реального мира, поскольку при этом игнорировались особенности событий и количественно неизмеримые аспекты человеческого опыта. Мы не должны считать, что одна материя реальна, а наше сознание, предназначение и человеческая любовь – лишь побочные продукты движущейся материи130. Короче говоря, теизм совершенно не обязательно должен входить в конфликт с наукой, тем не менее он неизбежно вступает в конфликт с метафизикой материализма.
2. Библейский буквализм
В предыдущих главах мы рассмотрели разнообразные взгляды на Писание и их соотношение с наукой. Средневековые авторы признавали, что в Писании присутствуют различные литературные стили и разные уровни истины, и поэтому многие места Писания они трактовали в переносном или аллегорическом смысле. Лютер, Кальвин и англикане продолжили развитие этой традиции, хотя впоследствии некоторые лютеране и кальвинисты были более склонны к буквальной трактовке. Мы видели, что буквальная интерпретация Писания католическими лидерами была одной из причин осуждения Галилея, хотя не менее важны были и другие факторы, такие, как наследство Аристотеля и авторитет церкви. Во времена Дарвина эволюция считалась вызовом представлениям о Божьем замысле в природе и о статусе человечества, но, кроме того, отдельные группы находили ее и вызовом Писанию. Некоторые отстаивали непогрешимость Библии и полностью отрицали эволюцию. Тем не менее большинство богословов–традиционалистов, хоть и неохотно, но приняли теорию эволюции. Порой, однако, они делали это с оговоркой, что человечество является исключением, поскольку душа недоступна для научного исследования. Либеральные богословы уже тогда приняли исторический анализ библейских текстов («библейская критика»), прослеживающий влияние исторического контекста и культурных условий на библейские тексты. Эволюция была вполне совместима с их оптимистическими представлениями об историческом прогрессе, и они считали эволюцию способом, которым Бог осуществлял творение.
В XX веке римско-католическая церковь и большая часть основных протестантских деноминаций признавали Писание человеческой записью первоначального откровения, явленного в жизни пророков и в жизни и личности Христа. Многие традиционалисты и евангельские христиане отстаивали центральное положение Христа, не придавая особого значения непогрешимости или буквальному толкованию Библии. Однако небольшие фундаменталистские группы и многие представители некоторых исторических деноминаций в Соединенных Штатах (а среди южных баптистов таких людей было большинство) настаивали на том, что Писание абсолютно непогрешимо. 1970-е и 1980-е гг. показали рост численности и политической силы фундаменталистов. Для многих членов «Новых правых» и «Морального большинства» Библия в эпоху быстрых перемен служит не только единственной несомненной опорой, но и основой защиты традиционных ценностей в период нравственного разложения (сексуальная вседозволенность, употребление наркотиков, растущий уровень преступности и так далее).
На процессе Скопса в 1925 г. предпринимались попытки доказать, что преподавание эволюционной теории в школах должно быть запрещено, поскольку эта теория противоречит Писанию. Позднее возникло новое течение, названное «научным креационизмом», или «наукой о творении», утверждающее, что существуют научные доказательства того, что сотворение мира произошло в течение последних нескольких тысяч лет. В 1981 г. законодательное собрание Арканзаса приняло закон о том, что «креационной теории» в университетских программах должно быть уделено столько же места, сколько и эволюционной теории. Закон уточнял, что креационизм должен преподаваться исключительно как научная теория, безо всяких ссылок на Бога или на Библию.
В 1982 г. Окружной суд Соединенных Штатов отменил арканзасский закон, в первую очередь в связи с тем, что в нем было усмотрено пристрастное отношение к определенным религиозным взглядам, что противоречит конституционному принципу отделения церкви от государства. Хотя в самом законе отсутствовали прямые ссылки на Библию, в нем, тем не менее, использовались многие фразы и идеи, заимствованные из книги Бытия. Работы лидеров креационистского движения с очевидностью продемонстрировали их религиозные цели131. Против закона в качестве свидетелей выступили многие богословы и религиозные деятели, не разделявшие его богословских допущений132.
Суд также постановил, что «наука о творении» – не полноправная наука. Он заключил, что научная общественность, а не судебные инстанции, должны определять статус научных теорий. Было продемонстрировано, что сторонники «науки о творении» даже не подавали статей в научные журналы, не говоря уж об их публикации. Ученые, выступавшие на процессе в качестве свидетелей, показали, что долгая эволюционная история занимает центральное место почти во всех научных дисциплинах, в том числе в астрономии, геологии, палеонтологии и биохимии, а также в большинстве отраслей биологии. Кроме того, они дали ответ на предполагаемые научные свидетельства, которые использовали креационисты. Утверждения о наличии геологических свидетельств в пользу всемирного потопа и об отсутствии ископаемых, представлявших собой переходные формы между видами, были признаны сомнительными133. В 1987 г. Верховный суд Соединенных Штатов отменил принятый в Луизиане закон о креационизме, указав, что такой закон ограничивает академическую свободу и поддерживает определенную религиозную точку зрения.
«Наука о творении» несет в себе угрозу не только для научной, но и для религиозной свободы. Понятно, что поиски определенности в эпоху нравственной распущенности и стремительных культурных изменений способствуют росту библейского буквализма. Однако, когда абсолютистская позиция приводит к нетерпимости и попыткам навязать другим в плюралистическом обществе определенные религиозные взгляды, мы обязаны противостоять ей во имя религиозной свободы. В некоторых случаях те же стремительные культурные изменения способствуют возрождению исламского фундаментализма и усилению ортодоксов в Иране и других странах.
Кроме того, мы знаем, какую опасность для науки представляют сторонники определенных идеологических позиций, пытающиеся использовать силу государства для решения научных вопросов, будь то в нацистской Германии, сталинской России, Иране Хомейни, или – как в случае с креационистами – в Соединенных Штатах. Конечно, ученые неминуемо испытывают влияние со стороны культурных условий и метафизических предположений, равно как и экономических сил, которые в значительной степени определяют направление научного развития. Научная общественность никогда не бывает полностью автономной и изолированной от социального контекста, однако ее необходимо защищать от политического давления, пытающегося диктовать научные выводы. Преподаватели должны быть свободны в выборе того, что им преподавать.
Критики эволюционной теории, например, Филипп Джонсон, выдвигали серьезные возражения против попыток сторонников научного материализма представить атеистическую философию частью науки134. Однако и те, и другие заблуждаются, полагая, что эволюционная теория по сути своей защищает атеистические взгляды, и увековечивая тем самым ложную дилемму о необходимости выбора между наукой и религией. Вся эта полемика отражает недостатки фрагментарного и специализированного высшего образования. Подготовка ученых редко включает преподавание истории и философии науки и какое бы то ни было обсуждение проблем соотношения науки с обществом, этикой или религиозной мыслью. С другой стороны, и представители духовенства мало знакомы с наукой и нерешительно затрагивают в своих проповедях спорные вопросы. Остальную часть данной главы мы посвятим тем точкам зрения, которые альтернативны двум описанным крайностям – научному материализму и библейскому буквализму.
II. Независимость
Один из способов избежать конфликта между наукой и религией состоит в том, чтобы рассматривать эти две сферы абсолютно независимо и автономно. Каждая из них имеет свою область приложения и свои характерные методы, которые объясняются в ее собственных терминах. Сторонники такой точки зрения полагают, что и у науки, и у религии существует своя собственная юрисдикция и они должны сохранять дистанцию между собой. Каждая должна заниматься своими собственными делами и не вмешиваться в дела другой. Каждый способ исследования избирателен и имеет свои ограничения. Такое разделение на изолированные отсеки объясняется не просто желанием избежать ненужных конфликтов, но и стремлением сохранять верность определенному характеру отдельных сфер жизни и мысли. Некоторые авторы считают, что наука и религия скорее изучают одну и ту же область с разных точек зрения, нежели относятся к разным областям. Сначала мы рассмотрим некоторые утверждения о том, что религиозные и научные методы исследования радиально отличаются друг от друга, а затем – утверждение о том, что языки науки и религии выполняют разные функции в человеческой жизни.
1. Метод противопоставления
Многие евангельские и консервативные христиане развивают представления традиционалистов XIX века. Они оставляют за Писанием ключевую роль, не настаивая, однако, на его буквальном толковании и не защищая «науку о творении». Наибольшее значение для них имеет искупительная смерть Христа и немедленное обращение верующего, если он принимает Христа как своего личного спасителя. Они говорят о трансформирующей силе Евангелий, которую современная наука не может ни поддержать, ни опровергнуть. Для многих евангельских христиан, которые не склонны к буквальному толкованию, наука и религия – по сути, независимые сферы человеческой жизни, хотя некоторые из них отстаивают естественное богословие и доказательство «от замысла», отталкиваясь от астрономической теории Большого взрыва или указывая на проблемы, встающие перед научными теориями при попытках объяснить происхождение жизни и сознания135.
Два богословских направления предложили более четкое разделение науки и религии. Они противопоставляют их методы, продолжая тем самым построения Канта. Протестантская неоортрдоксия стремится вернуться к представлениям времен Реформации о ключевой роли Христа и о приоритете откровения, хотя и вполне принимает результаты современного изучения Библии и научных исследований. Карл Барт и его последователи считают, что Бога можно понять лишь через Его откровение во Христе и признание в вере. Бог для них трансцендентен, абсолютно инаков и познается лишь в процессе Его самораскрытия. Они не доверяют естественному богословию, поскольку оно полагается на человеческий разум. Религиозная вера целиком зависит от божественной инициативы, а не от человеческих открытий, в том числе научных. Сфера деятельности Бога – не природа, а история. Ученые свободны в своей работе, но не должны вмешиваться в богословские проблемы, и наоборот, поскольку методы науки и религии кардинально отличаются друг от друга. В основании науки лежат человеческие наблюдения и разум, а в основании религии – божественное откровение136.
С этой точки зрения, к Библии необходимо относиться со всей серьезностью, но не понимать ее буквально. Писание само по себе не есть откровение, но лишь записанные людьми свидетельства (где вполне возможны ошибки) событий, в которых откровение было явлено. Божественная деятельность концентрировалась не на диктовке текста, а в жизни людей и общин: Израиля, пророков, Христа и тех представителей ранней церкви, которые откликнулись Ему. В библейских текстах отражены различные интерпретации этих событий, и мы должны признать человеческую ограниченность авторов и культурные влияния на их мысль. Их мнения по вопросам науки отражают донаучные представления древних времен. Мы должны воспринимать первые главы книги Бытия как символическое описание взаимоотношений человечества и мира с Богом, как свидетельство сотворенности человека и благости природного устройства. Религиозный смысл необходимо отделять от той древней космологии, с помощью которой он был выражен.
Другим направлением, выступавшим за строгое разграничение сфер науки и религии, был экзистенциализм. Он противопоставлял область личного и область безличных объектов. Первая из них познается лишь субъективно, а вторая – с помощью отстраненного анализа, свойственного науке. Все экзистенциалисты, как атеисты, так и теисты, полагают, что мы можем познать истинный смысл человеческого бытия, лишь принимая в нем непосредственное участие как уникальные индивиды, наделенные свободой выбора. Смысл жизни обретается лишь в деятельности; его невозможно найти при том рационалистическом подходе, который свойствен ученому, выводящему абстрактные общие концепции и универсальные законы.
Религиозные экзистенциалисты считали, что Бога можно постичь лишь путем непосредственного и личного участия во взаимоотношениях типа «Я-Ты», а не с помощью отстраненного анализа и управляемого контроля, характеризующих свойственные науке взаимоотношения типа «Я-Оно». Богослов Рудольф Бультман признает, что Библия часто использует объективный язык, когда повествует о Божьих деяниях, однако он настаивает, что мы должны сохранять изначальный эмпирический смысл таких мест, переводя их на язык человеческого самопознания, язык надежд и опасений, выбора и решения, новых возможностей для нашей жизни. Богословские формулировки должны стать утверждениями о трансформации человеческой жизни путем нового понимания личного существования. Такие утверждения не связаны с научными теориями о внешних событиях, происходящих в безличном порядке подчиненного законам мира137.
Лэндон Гилки в своих ранних работах и в свидетельских показаниях на арканзасском процессе затрагивал многие из этих тем. Он выделяет следующие отличия: (1) наука стремится объяснить объективные, доступные, повторяющиеся данные, тогда как религию интересует существование в мире порядка и красоты и опыт нашей внутренней жизни (такой, как вина, тревога, бессмысленность, с одной стороны, и прощение, доверие и целостность – с другой); (2) наука задает объективные вопросы и стремится узнать, как происходят те или иные события, тогда как религия задает личные вопросы о смысле и предназначении, об истоках и судьбе; (3) авторитет науки основан на логических связях и точности наблюдений, тогда как основой авторитета религии является Бог и откровение, постигаемое с помощью людей, которым было дано просветление и понимание, и подтверждаемое нашим собственным опытом; (4) наука выдвигает количественные предположения, которые можно проверить экспериментальным путем, тогда как религия пользуется символическим и аналогическим языком, поскольку Бог трансцендентен138.
В контексте судебного процесса апелляция к тому, что наука и религия задают совершенно разные вопросы и пользуются совершенно различными методами, была весьма действенной стратегией. Таким образом создавались методологические основания для критики предпринимавшихся сторонниками библейского буквализма попыток выводить из Писания научные заключения. Если говорить более конкретно, то Гилки настаивал, что доктрина творения – не буквальное отражение истории природы, но лишь символическое выражение того, что мир благ, упорядочен и зависим от Бога в каждый момент времени. Это религиозное утверждение по сути независимо как от доисторической библейской космологии, так и от современной научной.
В других своих работах Гилки затрагивает темы, которые мы рассмотрим в разделе «Диалог». Он полагает, что существует «высшее измерение» в страсти ученого к познанию, его стремлении добраться до истины, вере в рациональность и единообразие природы. Для ученого всем этим определяется то, что Тиллих (Tillich) назвал «высшей заботой». Однако Гилки считает опасным расширительное понимание науки как всеобщей натуралистической философии и приписывание науке и технологии спасительной силы, что порой наблюдается в либеральных мифах о научном прогрессе. И наука, и религия могут стать демоническими силами, если они становятся на службу определенных идеологий или игнорируют неоднозначность человеческой природы139.
Томас Торренс развил некоторые отличительные черты богословия в рамках неоортодоксии. Он находит богословие уникальным, поскольку объект его интереса – Бог. Богословие – это «догматическая или позитивная и независимая наука, действующая по своим собственным внутренним законам, развивающая свои характерные способы исследования и формы мысли, которые определяются заданным субъектом исследования»140. Бог бесконечно превосходит всю сотворенную действительность, и поэтому Он «постижим лишь в актах Его откровения», в первую очередь в личности Христа. Мы можем лишь с верою откликаться на то, что нам было дано, и определило тем самым наше мышление.
2. Разные языки
Еще более эффективный метод разделения науки и религии – их интерпретация как языков, которые не связаны друг с другом, поскольку их функции кардинально отличны друг от друга. Логические позитивисты рассматривали научные утверждения как норму для любого рассуждения, а любыми утверждениями, не поддающимися экспериментальной проверке, пренебрегали как бессмысленными. Позднейший лингвистический анализ, напротив, настаивал на том, что разные типы языка выполняют разные, несводимые друг к другу, функции. Каждая «языковая игра» (термин Витгенштейна и его последователей) отличается способом ее употребления в социальном контексте. Наука и религия выполняют совершенно разную работу, и ни к одной из них неприменимы стандарты другой. Научный язык используется в первую очередь для предсказания и контроля. Теория служит полезным инструментом для обобщения данных, объяснения регулярных характеристик наблюдаемых явлений и предложений технологического применения. Наука интересуется весьма ограниченным кругом вопросов, относящихся к природным явлениям. Мы не должны ожидать, что она будет делать работу, для которой не предназначена, например, снабжать нас мировоззрением, жизненной философией или этическими нормами. Ученые оказываются не мудрее других, когда выходят из своих лабораторий и начинают высказывать предположения относительно предметов, лежащих за рамками науки141.
Функции религиозного языка, по мнению представителей лингвистического анализа, состоят в том, чтобы предлагать способ жизни, устанавливать верные позиции и побуждать следовать определенным нравственным принципам. Значительная часть религиозного языка связана с ритуальной и практической стороной богослужения и жизни общины. Он может также выражать личный религиозный опыт. Сила лингвистического направления состоит, в частности, в том, что оно не концентрируется на религиозной вере как на абстрактной системе, а обращает внимание на то, каким образом религиозный язык действительно используется в жизни людей и общества. Сторонники лингвистического анализа привлекали эмпирические исследования религиозных вопросов, проведенные социологами, антропологами и философами, равно как и литературу, созданную в рамках религиозных традиций.
Некоторые ученые, изучавшие различные культуры, приходили к выводу, что религиозные традиции представляют собой в первую очередь практичный и нормативный образ жизни. Предания, ритуалы и религиозная практика способствовали объединению людей в рамках общин, наделенных общими воспоминаниями, предположениями и жизненной стратегией. Другие исследователи полагали, что основной целью религиозной традиции является трансформация личности. Религиозная литература много говорит об опыте освобождения от вины путем прощения и доверия, превозмогающего тревогу, о переходе от раздробленности к целостности. Восточные традиции говорят об освобождении от страданий и эгоцентризма с помощью опыта умиротворения, единства и просветления142. Совершенно очевидно, что подобный опыт имеет мало общего с наукой.
Джордж Линдбек сравнивает лингвистические взгляды с двумя другими точками зрения на религиозные доктрины:
1.С точки зрения пропозиционистов, доктрины – это истинные утверждения об объективной реальности. «Традиционная интерпретация христианства утверждает, что оно истинно, универсально и явлено сверхъестественным способом»143. Если каждая доктрина либо истинна, либо ложна, а соперничающие доктрины взаимно исключают друг друга, значит, может существовать лишь одна истинная вера. Пропозиционистский взгляд представляет собой одну из форм реализма, так как он предполагает, что мы в состоянии делать заключения о действительности как она есть.
2.С точки зрения экспрессивистов, доктрины являются символами внутреннего опыта. Либеральное богословие считает, что опыт священного присутствует во всех религиях. Поскольку одно и то же ядро может проявляться в различных символах, последователи различных традиций могут учиться друг у друга. Такая точка зрения уделяет основное внимание частной, индивидуальной стороне религии, а не ее общественным аспектам. Если доктрины – это интерпретации религиозного опыта, то они, судя по всему, не должны вступать в конфликт с научными теориями, затрагивающими религиозные вопросы.
3.С лингвистической точки зрения, которой придерживается и сам Линдбек, доктрины рассматриваются как правила дискурса, которые соотносятся с индивидуальными и общественными формами жизни. Религии помогают идти по жизни. Они являются «образом жизни, которому обучаешься в процессе следования религиозным нормам». Линдбек полагает, что индивидуальный опыт не может быть нашим отправным пунктом, поскольку он уже в какой-то мере предопределен господствующей понятийной и лингвистической структурой. Такой подход позволяет признать уникальность каждой религиозной традиции, не считая ни одну из них единственно истинной. Эту позицию можно назвать нереалистической или инструменталистской. Она не нуждается в допущении универсальной истины или универсального опыта и находит каждую культуру самодостаточной. Сводя к минимуму роль различных верований и утверждений истины, лингвистическая точка зрения устраняет конфликт между наукой и богословием, который может возникать у пропозиционистов, и при этом она избегает индивидуализма и субъективности, присущих экспрессивистам.
Все три рассмотренных нами направления – неоортодоксия, экзистенциализм и лингвистический анализ – видят религию и науку независимыми и автономными формами жизни и мысли. Каждая дисциплина избирательна и имеет свои ограничения. Каждая дисциплина выбирает из всех составляющих опыта лишь те черты, которые ее интересуют. Астроном Артур Эддингтон рассказал однажды замечательную притчу о человеке, изучавшем глубоководную жизнь с помощью сети с трехдюймовыми ячейками. После многократного осмотра пойманных образцов человек заключил, что не существует глубоководных рыб, которые были бы короче трех дюймов. То, что мы можем поймать, считает Эддингтон, определяется нашими методами рыбной ловли. Поскольку наука избирательна, она не может утверждать, что рисует всеобъемлющую картину действительности144.
Я полагаю, что тезис о независимости служит хорошим отправным пунктом или первым приближением. Он позволяет сохранить особый характер каждой из дисциплин и представляет собой хорошую стратегию для предотвращения обоих видов отмеченного ранее конфликта. Религия, безусловно, обладает своими характерными методами, вопросами, подходами, функциями и опытом, которые отличаются от соответствующих характеристик науки. Однако в каждом из перечисленных направлений существуют и свои серьезные трудности.
Неоортодоксия, как мне представляется, справедливо подчеркивает центральную роль Христа и значимость Писания в христианской традиции. Она более умеренна в своих утверждениях, чем библейский буквализм, поскольку признает роль человеческой интерпретации Писания и доктрины. Тем не менее большинство ее вариантов утверждает также, что откровение и спасение возможны лишь посредством Христа, что кажется мне проблематичным в плюралистическом мире. Большинство приверженцев данного направления придают особое значение трансцендентности Бога и упускают из внимания Его имманентность. Мост через пропасть, лежащую между Богом и миром, возможен для них только в виде воплощения. Хотя Барт и его последователи, конечно, уделяют внимание и доктрине творения, но больше всего их интересует доктрина искупления. Природу они склонны считать лишь неискупленной сценой, на которой происходит искупление человека, хотя она и может принимать участие в эсхатологическом исполнении в конце времен.
Экзистенциализм справедливо ставит в центр религиозной веры личное решение, однако он сводит религию к личному внутреннему делу, оставляя без внимания ее общественные аспекты. Если Бог воздействует исключительно на личность, а не на природу, то природное устройство оказывается лишенным религиозного значения, за исключением того, что оно является безличной сценой, на которой разворачивается драма личного существования. Такая антропоцентрическая структура, сконцентрированная исключительно на человечестве, слишком слабо защищает от нынешнего отношения к природе как к сочетанию безличных объектов. Если религия имеет дело только с Богом и с личностью, а наука занимается только природой, то может ли кто-нибудь сказать хоть что-то о взаимоотношениях между Богом и природой или между личностью и природой? Действительно, религия занимается вопросами смысла жизни индивида, однако их нельзя отделить от веры в осмысленность космоса. Я бы заметил также, что экзистенциализм преувеличивает противоречие между безличной, объективной стороной науки и личной причастностью, которая есть суть религии. Личные оценки – это неотъемлемая часть работы ученого, а рациональное размышление – существенная составляющая религиозного исследования.
Наконец, лингвистический анализ помогает нам увидеть многообразие функций религиозного языка. Конечно, религия – это образ жизни, а не просто сочетание идей и верований. Однако религиозная практика общины, в том числе богослужение и этика, предполагает определенную веру. Я склонен скорее не к инструментализму, который считает и научные теории, и религиозные верования человеческими построениями, пригодными исключительно для человеческих целей, а к критическому реализму, полагающему, что и наука, и религия справедливо претендуют на описание реальности, находящейся за пределами человеческого мира. Мы не можем согласиться с идеей о множестве несвязанных между собой языков, если эти языки описывают один и тот же мир. Если мы стремимся к связной интерпретации всего опыта, то не можем не попытаться найти единый взгляд на мир.
Если наука и религия абсолютно независимы, то возможность конфликта между ними исключается, однако отбрасывается и возможность конструктивного диалога и взаимообогащения. Мы не находим нашу жизнь аккуратно разделенной на изолированные отсеки. Напротив, мы ощущаем ее в целостности и связности, прежде чем начинаем развивать разные дисциплины для изучения различных ее аспектов. Существуют также библейские основания для убеждения в том, что Бог есть Господин надо всей нашей жизнью и над природой, а не над отдельной «религиозной» сферой. Сегодня также необходимо уделять особое внимание богословию природы, поскольку это может способствовать лучшей охране окружающей среды. Я полагаю, что ни один из описанных выше вариантов не соответствует этой задаче.
III. Диалог
К модели диалога мы относим различные взгляды, которые выходят за рамки независимой модели, но не считают взаимоотношения науки и религии настолько близкими и непосредственными, как при интеграции. Исходной точкой диалога служат скорее общие характеристики науки и природы, нежели отдельные научные теории, к которым обращаются сторонники интеграции. Мы рассмотрим последовательно следующие темы: (1) предположения и пограничные вопросы; (2) методологические параллели; (3) одухотворенность природы.
1. Предположения и пограничные вопросы
Пограничные вопросы – это онтологические вопросы, которые наука поднимает, но на которые нельзя ответить с помощью научных методов. (Следует пояснить, что этот термин не относится к пространственным или временным границам, или к «граничным условиям», которые требуются при предсказании явлений на основании научных законов.)
В главе 1 мы останавливались на поставленном историками вопросе, почему из всех мировых культур современная наука возникла лишь на христианском Западе. Мы обсуждали утверждение, что доктрина творения способствовала подготовке сцены для научной деятельности. И греческая, и библейская мысль полагали, что мир упорядочен и постижим. Однако греки считали, что этот порядок необходим, и поэтому его структуру можно вывести из первичных принципов. Лишь библейская мысль признавала, что миропорядок скорее случаен, нежели необходим. Если Бог сотворил и форму, и содержание, то мир не обязательно должен был стать именно таким, каков он есть, и поэтому его необходимо наблюдать, чтобы определить детали его устройства. Кроме того, хотя природа реальна и блага, она не божественна сама по себе, как полагали многие древние культуры. Поэтому человеку позволено экспериментировать над природой145. «Десакрализация» природы способствовала научным исследованиям, хотя она, помимо этого и наряду с другими экономическими и культурными факторами, внесла свой вклад в последующее разрушение окружающей среды и эксплуатацию природы.
Мнение об историческом вкладе христианства в развитие науки представляется мне достаточно убедительным. Некоторые богословы утверждают, что наука и сегодня неявно предполагает существование теистической картины мира, хотя ученые этого и не признают146. Однако я надеюсь, что поскольку наука занимает сегодня прочное положение, то ее собственный успех для ученых является достаточным основанием, и им нет нужды обращаться к религиозным оправданиям. Ясно, что теистические убеждения не могут служить явными предпосылками для науки, так как многие ученые, атеисты или агностики, и без них делают первоклассные работы. В конце концов, достаточно просто принять как данность случайность и познаваемость мира и посвятить свои силы исследованию детального устройства миропорядка. Хотя если человек поднимает такие вопросы, он, видимо, должен быть более открыт к восприятию ответов, которые предлагает религия. Для многих ученых раскрытие порядка во вселенной, равно как и ее красоты и сложности, служит, по меньшей мере, поводом для удивления и почтения.
Мы уже видели, что Торренс отстаивает характерное для неоортодоксов разграничение между человеческими открытиями и божественным откровением. Но, кроме того, он полагает, что наука поднимает фундаментальные вопросы, на которые она не в силах ответить. Наука демонстрирует нам миропорядок, который одновременно и рационален, и случаен (то есть его законы и начальные условия не были необходимыми). Такое сочетание случайности и постижимости побуждает нас к поиску новых и неожиданных форм рационального порядка. Торренс считает, что Бог – это творческое основание и причина случайного, но рационального устройства вселенной. «Понимание этой рациональности Бога ведет к объяснению загадочной и таинственной природы постижимости, присущей вселенной, и объясняет чувство глубокого религиозного благоговения, которое она вызывает в нас и которое, по мнению Эйнштейна, есть главная движущая сила науки»147.
Богослов Вольфхарт Панненберг тщательно изучал методологические вопросы. Он принимает точку зрения Карла Поппера, утверждающего, что ученый выдвигает гипотезы, а затем пытается их экспериментально опровергнуть. Панненберг считает, что богослов также может использовать универсальные рациональные критерии для критической проверки религиозных верований. Однако он полагает, что в конечном итоге эта параллель перестает действовать, так как богословие исследует реальность в целом, а реальность – это незаконченный процесс, чье будущее мы можем лишь предполагать, поскольку оно еще не наступило. Кроме того, богословие интересуется уникальными и непредсказуемыми событиями и пытается ответить на вопросы иного рода – на пограничные вопросы, с которыми наука дела не имеет и которые касаются не начальных условий или онтологических оснований, а открытости навстречу будущему148.
Три католических автора, Эрнан Макмуллин, Карл Ранер и Дэвид Трейси представляются мне сторонниками диалога, хотя их подходы отличаются. Макмуллин начинает с четкого разграничения между религиозными и научными утверждениями, что напоминает независимую модель. Бог, будучи первопричиной, осуществляет свое воздействие через вторичные причины, которые изучает наука, однако они лежат на абсолютно разных уровнях, которые объясняются по-разному. На своем уровне наука не имеет пробелов. Макмуллин критикует все попытки доказать существование Бога с точки зрения необъясненных наукой явлений. Он с сомнением относится к доказательствам, отталкивающимся от замысла и от направленности эволюции. Бог поддерживает всю природную последовательность и «одинаково и единообразно ответствен за все события». Богослов не должен обращаться к отдельным научным теориям, в том числе и к астрофизическим теориям о ранней истории космоса149.
Макмуллин утверждает, что доктрина творения не столько объясняет космологические истоки, сколько утверждает абсолютную и постоянную зависимость мира от Бога. Цель книги Бытия состоит не в том, чтобы точно обозначить первый момент во времени. Кроме того, теория Большого взрыва не доказывает, что это было начало времен, поскольку нынешнее расширение может быть лишь одной фазой осциллирующей или цикличной вселенной. Он заключает: «Нельзя сказать, что христианская доктрина творения «поддерживает» модель Большого взрыва или что модель Большого взрыва «поддерживает» христианскую доктрину творения»150. Однако он считает, что для Бога выбор начальных условий и законов вселенной вовсе не означал внесение разрывов или нарушений в последовательность естественных причин. Макмуллин отрицает, что между научными и религиозными утверждениями существует четкая логическая связь, но ищет пути их совместимости. Целью должно быть «согласие, а не прямая зависимость», из чего следует, что в конечном итоге два вида утверждений не являются абсолютно независимыми друг от друга.
Карл Ранер находит методы и содержание науки и богословия независимыми друг от друга, хотя отмечает наличие важных пунктов их соприкосновения и соотношения, которые надо исследовать. Бог познается в первую очередь через Писание и предание, но неявно и косвенно Он познается всеми людьми как бесконечный горизонт, в рамках которого можно постичь все конечные объекты. Канта интересовали условия, которые делают знание возможным, и Ранер задает тот же вопрос, но в рамках неотомизма. Мы постигаем, абстрагируя форму от материи. В стремлении к познанию разум выходит за пределы ограниченных объектов, пытаясь дойти до Абсолюта. Реальный человеческий опыт любви и честности – это опыт благодати151.
Ранер также рассматривает некоторые научные теории. Он считает, что классические доктрины природы человека и христологии хорошо соотносятся с эволюционными взглядами. Человеческое существо представляет собой единство материи и духа, которые различны, но могут быть постигнуты лишь в соотношении друг с другом. Наука изучает материю и рисует лишь часть целой картины, поскольку мы лишь свободные и достаточно неловкие посредники. Эволюция от материи к жизни, сознанию и духу есть творческое деяние Бога посредством естественных причин, которое достигает своей цели в человечестве и в воплощении. Материя развивается из своего внутреннего бытия в направлении духа, чтобы превзойти себя на высших уровнях бытия. Воплощение – одновременно кульминация мирового развития и кульминация самовыражения Бога. Ранер убеждает, что творение и воплощение есть части единого процесса самовыражения Бога. Христос в своей истинной человеческой природе – это точка в биологической эволюции, которая была ориентирована на свое исполнение в Нем152.
Дэвид Трейси рассматривает религиозное измерение науки. Он считает, что религиозные вопросы – это пограничные вопросы человеческого опыта. В повседневной жизни они возникают как в ситуации тревоги или борьбы со смертью, так и в ситуациях радости или доверия. Он описывает два типа пограничных ситуаций в науке: этические проблемы использования научных результатов, с одной стороны, и предположения или условия, необходимые для возможности научного исследования – с другой. Трейси утверждает, что постижимость мира требует высшего рационального основания. Для христианина источником понимания этого основания служат классические религиозные тексты и структуры человеческого опыта. Однако все наши теоретические формулировки ограниченны и исторически обусловлены. Трейси готов переформулировать традиционные доктрины в современных философских категориях. Он сочувственно относится ко многим аспектам философии процесса и к последним исследованиям по языку и герменевтике153.
В какой степени возможна переформулировка классических богословских доктрин в свете современной науки? Если точки соприкосновения между наукой и богословием сводятся лишь к основным предположениям и пограничным вопросам, то переформулировка потребуется только в редких случаях. Но если существуют точки соприкосновения между отдельными доктринами и отдельными научными теориями (например, доктриной творения и теорией эволюции или астрономией) и если мы признаем, что все доктрины исторически обусловлены, тогда, в принципе, существует возможность значительного развития и видоизменения доктрин, как полагают некоторые сторонники интеграции.
2. Методологические параллели
Позитивисты считают науку объективной, полагая, что ее теории обосновываются четкими критериями и доказываются бесспорными данными, свободными от теоретической нагрузки. И критерии, и данные признаются независимыми от отдельного субъекта и свободными от культурных влияний. Религия, напротив, представляется им субъективной. Мы уже видели, что экзистенциалисты подчеркивают контраст между объективной разъединенностью в науке и личной причастностью в религии.
Начиная с 1950-х гг. существование такого контраста все чаще подвергается сомнению. Постепенно осознается, что наука не столь уж объективна, а религия не столь уж субъективна, как утверждалось ранее. Конечно, между двумя сферами существует значительная разница в акцентах, однако разделение это не столь кардинально, как полагали раньше. Научные данные несут на себе изначальную теоретическую нагрузку. Теоретические предположения влияют на отбор и интерпретацию данных, которые привлекаются для их проверки. Кроме того, источник теорий – не логический анализ данных, а творческое воображение, в котором зачастую значительную роль играют аналогии и модели. Концептуальные модели помогают нам представить то, что не может быть выявлено при непосредственном наблюдении.
Многие из этих черт свойственны и религии. Религиозные данные, включающие религиозный опыт, обряды, священные тексты, в еще большей мере обусловлены концептуальными интерпретациями. В религиозном языке метафоры и модели тоже играют большую роль, на что указывалось в моих работах и в трудах Салли Макфаг, Жанет Соскис, а также Мэри Герхарт и Алана Рассела154. Конечно, религиозные верования не так легко поддаются строгой эмпирической проверке, однако и к ним можно подходить с тем же исследовательским духом, что свойствен и науке. Научные критерии согласованности, всесторонности и плодотворности находят параллели и в религиозной мысли.
В известной книге Томаса Куна «Структура научных революций» утверждается, что научные теории и данные зависят от соответствующих парадигм, господствующих среди ученых. Кун определяет парадигму как ядро концептуальных, метафизических и методологических предположений, воплощенных в традиции научной работы. С появлением новой парадигмы старые данные переосмысливаются и рассматриваются по-новому и, кроме того, начинается сбор новых данных. При выборе между парадигмами не существует правил применения научных критериев. Их оценка зависит от мнения научной общественности. Установленная парадигма устойчива, поскольку расхождения между теорией и данными могут рассматриваться как аномалии или устраняться путем введения специальных гипотез155.
Религиозные традиции также можно считать общинами, разделяющими общие парадигмы. Интерпретация данных (таких, как религиозный опыт или исторические события) зависит здесь от господствующих парадигм в еще большей мере, чем в случае науки. Здесь еще чаще используются специальные предположения для устранения встречающихся аномалий, поэтому религиозные парадигмы еще более устойчивы. В следующей главе мы сравним роль парадигм в науке и религии.
Положение наблюдателя в науке в настоящее время также пересмотрено. Раньше объективность отождествлялась с отделением наблюдателя от объекта наблюдений. Однако в квантовой физике влияние наблюдателя на изучаемую систему имеет решающее значение. В теории относительности наиболее важные характеристики, такие как масса, скорость и длина объекта, зависят от положения наблюдателя. Стивен Тулмин прослеживает путь от представлений об абстрагированном наблюдателе до признания его непосредственного участия в процессе, приводя примеры из квантовой физики, экологии и общественных наук. В каждом эксперименте мы не просто наблюдатели, а посредники. Наблюдатель как субъект наблюдения неотделим от объекта156.
Майкл Поляни видит гармонию метода по всей области знания и считает, что такой подход преодолевает раздвоение разума и веры. Объединяющая тема для Поляни – личное участие познающего во всем процессе познания. В науке открытие невозможно без творческого воображения, которое представляет собой глубоко личный акт. Наука требует мастерства, которое, как, например, умение ездить на велосипеде, нельзя объяснить на пальцах, а можно приобрести лишь с помощью примера и практики. Во всяком знании необходимо видеть модели в целом. Узнавая лицо друга или ставя медицинский диагноз, мы используем множество вещей, но не можем точно определить, на чем именно основывалось наше суждение в целом. Поляни считает, что оценка свидетельств – всегда акт взвешенного личного суждения. Не существует правил, определяющих, должно ли необъяснимое противоречие между теорией и экспериментом рассматриваться как аномалия или же оно делает теорию недействительной. Принадлежность к коллективу предохраняет от субъективности, хотя и не снимает ношу личной ответственности157. Поляни уверен, что для религии все эти черты еще более существенны, поскольку здесь сильнее личная вовлеченность, что не исключает, однако, рациональности и универсальной цели. Историческая традиция и современный опыт религиозной общины имеют очень большое значение158.
Некоторые другие современные авторы тоже обращались к подобным методологическим параллелям. Физик и богослов Джон Полкинхорн приводит примеры личных суждений и теоретически обусловленных данных в обеих областях. Для религиозной общины такими данными являются тексты Писания и история религиозного опыта. Обе области сходны тем, что «каждая из них может корректироваться, связывая теорию с экспериментом, и каждая имеет дело с вещами, неописуемая реальность которых тоньше, чем реальность наивной объективности»159. Философ Холмс Ролстон полагает, что религиозная вера интерпретирует опыт и соотносится с ним, подобно тому, как научные теории интерпретируют экспериментальные данные и соотносятся с ними. Веру можно проверить, используя критерии ее соответствия религиозному опыту. Однако Ролстон признает, что личная причастность имеет большее значение для религии, поскольку ее основная цель – преобразование личности. Кроме того, существуют и другие заметные отличия. Так, науку интересуют причины, а религию – личностный смысл160.
Мне представляется, что подобные методологические сравнения проливают свет на обе области, и в следующих двух главах я к ним еще вернусь. А здесь мне хотелось бы лишь отметить несколько проблем, возникающих при использовании такого подхода:
1. Пытаясь узаконить религию в век науки, весьма соблазнительно останавливаться лишь на сходстве и не обращать внимания на различия. Хотя наука, конечно, в большей степени обусловлена теориями, чем это представляется позитивистам, она, несомненно, во всех отношениях объективнее религии. Данные, которыми оперирует религия, радикально отличаются от научных, да и возможности проверки религиозных верований более ограниченны.
2. В качестве реакции на абсолютное различие, на котором настаивают сторонники тезиса о независимости, было бы очень легко свести к минимуму характерные черты религии. В частности, рассматривая религию как интеллектуальную систему и говоря исключительно о религиозной вере, легко исказить характеристики религии как образа жизни, которые хорошо описаны последователями лингвистического анализа. Религиозная вера всегда должна рассматриваться в контексте жизни религиозной общины и в соотношении с целями трансформации личности.
3. Обсуждение методологических проблем – важная, но лишь предварительная задача в диалоге науки и религии. Это несколько отвлеченные вопросы, интересные в первую очередь людям, занимающимся философией науки и философией религии, а не ученым или богословам и верующим. Тем не менее методологические вопросы вполне обоснованно становятся сегодня объектом новых исследований в обеих общинах. Более того, признав методологические сходства, мы скорее обратим внимание на более фундаментальные вопросы. Если богословие в своих лучших проявлениях склонно размышлять, расти и развиваться, то оно может воспринять новые идеи, в том числе и те, которые произрастают из научных теорий.
3. Одухотворенность природы
В отличие от философского подхода авторов, которые обсуждают пограничные вопросы и методологические параллели, другая группа авторов обращает внимание на личные и экспериментальные аспекты взаимоотношений с природой. Их работы, посвященные проблеме священного в природе, заставляют вспомнить о поэтах–романтиках конца XVIII века. Подобно Торо, Эмерсону и Джону Мюиру, писавшим в XIX веке, эти авторы описывают опыт постижения религиозного измерения природы. Ранние поэты и писатели о природе критиковали отношение к природе, которое породила наука. Их можно было бы отнести к сторонникам тезиса о независимости. Однако сегодня многие последователи идей об одухотворенности природы больше интересуются наукой, и их можно считать сторонниками одной из форм диалога. Термин одухотворенность относится к религиозным взглядам, в основе которых лежит скорее личный опыт, нежели религиозные институты или формальные богословские доктрины.
Некоторые ученые при обсуждении богословских вопросов апеллируют к своей научной работе, выходя, однако, при этом за рамки науки как таковой. Книга Рэчел Карсон (Carson) Silent Spring и другие ее работы основываются на научных знаниях автора и при этом демонстрируют ее почтительное отношение к природной жизни. Лорен Эйсли выражает свое благоговение перед тканью жизни и теми нитями, которыми мы связаны с миллионами лет эволюционной истории. «Для многих из нас неопалимая купина еще горит, а в сердцевине простого зернышка сокрыта великая тайна». Он восхищается удивительными силами жизни, которые – «лишь одна из масок, скрывающих Великий Лик»161. В работах Альдо Леопольда видны не только знания натуралиста, но и воображение поэта, описывающего единство жизни162.
Американский автор Энни Диллард видит в природе присутствие живого. В своей книге Pilgrim at Tinker Creek она описывает моменты постижения казавшихся ранее незначительными сторон жизни, о которых она хорошо знала благодаря чтению научных трудов. Горящее во дворе дерево становится для нее отблеском вечности. Она видит в природе возвышенную красоту, но это не мирный и гармоничный порядок. Многообразие творения порой представляется ей непомерным, расточительным, а зачастую непокорным и неуправляемым. Темная сторона творения – насилие, жестокость, смерть – иногда заставляет ее ужаснуться. Но это не умаляет ее благодарности за дар творения. «Сама по себе красота – результат изобилия Творца, следствием которого одновременно являются и все нелепости и ужасы, и которое запутывает и перемешивает все обстоятельства времени»163.
Богослов Мэтью Фокс выражает благоговение и восхищение перед новой научной историей вселенной, вдохновляющей нашу благодарность. Он призывает прославлять святость природы в песнях, танцах, ритуалах, равно как и в богословских размышлениях. Но отрицательно относится к тому, что христианская традиция придает слишком большое значение первородному греху и искуплению, пренебрегая идеей о творении как «изначальном благословении». Однако он одобряет жизнеутверждающие идеи ряда христианских средневековых мистиков, таких, как Мейстер Экхарт, Хильдегарда Бингенская и Юлиания Норвичская, которые во главу угла ставили творение. Фокс полагает, что мы, будучи посредниками, можем осознать божественность в нас самих и в природе. Одухотворенность творения может помочь нам лучше понять самих себя, друг друга и природу164.
Физик Брайан Свим и богослов Томас Берри написали книгу «История вселенной», в которой советуют отложить Библию в сторону и смотреть на природу как на первоисточник. Они предлагают новую духовность земли, которая следует из раскрытой наукой истории космоса от первичного огненного шара до человеческой культуры. Научное повествование предназначено в первую очередь не для того, чтобы снабдить нас интеллектуальным доказательством бытия Божьего, а для того, чтобы пробудить в нас почтение и чувство общности со всеми живыми существами. Они полагают, что уважение к земле, которое свойственно христианским мистикам и первобытным культурам, должно способствовать тому, чтобы и наука уделяла больше внимания живым существам и экологии. Они призывают поставить универсальный научно обоснованный миф или космическую историю на место противоречивых историй, относящихся к различным традициям, чтобы все мировое сообщество, объединившись, смогло спасти землю от надвигающейся экологической катастрофы165.
Многие феминистки обращают внимание на святость природы. Возникло даже направление, именуемое экофеминизмом. В главе 6 я остановлюсь на проблеме взаимосвязи между низкой оценкой женщины и низкой оценкой природы в западной истории. Я бы выделил две группы: с одной стороны, реформистский феминизм, представительницы которого Салли Макфаг и Розмари Рютер (Ruether) полагают, что патриархальные установки исторической христианской традиции можно отвергнуть, не отрицая при этом саму традицию; а с другой стороны – радикальный феминизм, представительницы которого, например Стархоук и Чарлин Спретнак, в поисках женских символов божественного и альтернативы нынешним ритуалам обращаются к существовавшим в ранних и племенных культурах фигурам Богини и Матери Земли. Новые ритуалы зачастую выражают Божью имманентность природе и участие человечества в природном мире166. В дальнейшем из этой книги станет ясно, что я в большом долгу перед многими идеями феминизма, хотя меня больше интересует реформирование христианской традиции, а не более радикальные альтернативы.
Сильная сторона всех отмеченных здесь течений – это поддержка, которую они оказывают экологической этике. Однако ниже я покажу, что, несмотря на все прошлые ошибки, христианская община может извлечь из библейских источников ряд важных экологических тем, которыми она пренебрегала на протяжении большей части своей истории. Я склонен думать также, что наше богословие должно соединить в себе и божественную имманентность, и трансцендентность природы. Многие из вышеупомянутых авторов демонстрируют глубокую приверженность идеям социальной справедливости – например, по отношению к женщинам, к бедным и притесненным, к местным народам. Здесь прошлое христианства весьма неоднозначно. В христианской общине всегда присутствовали пророческие призывы к справедливости в отношении бедных и угнетенных, однако господствующая церковь зачастую сотрудничала с несправедливыми структурами политической и экономической власти.
Личные отклики на священное в природе оказываются более универсальными и менее разноречивыми, чем определенные богословские доктрины в век религиозного плюрализма. Для них характерна скромность и открытость, они избегают догматизма, который зачастую свойствен историческим религиозным традициям. Однако в главе 6 я покажу, что мы должны отвергать как абсолютизм, приписывающий какой-либо одной традиции право на исключительную истину, так и релятивизм, который настаивает, что нельзя судить истину любой традиции. Я – сторонник диалога между традициями. Если придерживаться подлинного религиозного плюрализма, то необходимо уважать своеобразие исторических традиций, которые должны учиться друг у друга, равно как и у природы.
Еще одна группа авторов отмечает параллели между холизмом квантовой физики и единством реальности, которое проповедуют восточные религиозные традиции. Дэвид Бом, талантливый физик, разработавший особый математический формализм, из которого можно вывести уравнения квантовой физики, выдвинул постулат о «внутреннем порядке», лежащем в основе наблюдаемого мира. Он признает, что его холистические предположения возникли под влиянием его приверженности медитативным практикам и монистическому мировоззрению индийского мистика Кришнамурти167. В популярной книге Фритьофа Капры «Дао физики» проводятся параллели между опытом единства в восточных религиозных традициях и единством мира, описываемым квантовой физикой168. На параллелях между физикой и восточным мистицизмом я остановлюсь в главе 7.
Существует также весьма разнородное так называемое движение нью эйдж («новый век»), сочетающее интерес к медитации и гармонии с природой с некоторыми эзотерическими научными утверждениями. Несмотря на огромное многообразие, всех его представителей объединяет общая тема «высшего сознания», «космического сознания», или власти сознания над материей. Другая общая черта – приверженность к «холистическому подходу», призванному преодолеть все предшествовавшие формы дуализма, например, дуализма материи и духа, мужского и женского, человечества и природы. Научные утверждения многих представителей этого направления большинство ученых считает «лженаукой», таких как астрологию, общение с загробным миром посредством медиумов, рассказы о пришельцах из космоса (НЛО) или концентрацию духовной энергии в кристаллах169. Однако другие утверждения, которые, правда, трудно проверить, стали предметом серьезного научного исследования, в частности, паранормальные опыты, связанные с телепатией и подсознанием. С научной точки зрения, здесь существуют две основные проблемы: (1) используемые данные редко удается надежно воспроизвести, и (2) лишь немногие из предлагаемых теорий можно проверить на основании данных.
В этой книге мной уделяется внимание преимущественно основным научным направлениям и их соотношению с основными религиозными течениями. Однако я довольно критично отношусь к редукционизму многих ученых и, напротив, приветствую тщательную проверку гипотез, склонных к большему холизму. Я с сочувствием отношусь к охватившей материалистическую культуру жажде духовности и к растущей неудовлетворенности традиционными установками, как научными, так и религиозными. Мне также хотелось бы способствовать развитию личного религиозного опыта, значение которого в человеческой жизни трудно переоценить. Поэтому я готов к расширению границ того, что считается наукой, и к введению новых, более широких, парадигм. Полагаю, что и в науке, и в религии все альтернативы, лежащие за рамками основных течений, необходимо подвергать тщательному рассмотрению, а ни в коем случае не отвергать их не глядя, хотя и принимать их без должного критического анализа нельзя.
IV. Интеграция
Последняя группа авторов, которую мы рассмотрим в этой главе, признает, что между содержанием богословия и содержанием науки возможен некий род интеграции. При таком подходе взаимоотношения между богословскими доктринами и отдельными научными теориями более непосредственны, чем в любой из описанных выше форм диалога. Имеют место три основных варианта интеграции. Естественное богословие считает, что существование Бога можно вывести из доказательств существования замысла природы, которые наука сделала еще более убедительными. В богословии природы основные источники богословия лежат за пределами науки, однако научные теории могут влиять на переформулировку определенных доктрин, особенно тех, которые касаются творения и человеческой природы. Систематический синтез включает и науку, и религию во всеобъемлющую метафизику, в развитие которой и та, и другая вносят свой вклад; подобные представления характерны и для философии процесса.
1. Естественное богословие
В предыдущих главах мы проследили изменение судеб естественного богословия в течение предшествующих столетий. Фома Аквинский предлагал несколько вариантов космологического доказательство бытия Первопричины (или существа, от которого с необходимостью зависят все остальные). Он представил также телеологическое доказательство упорядоченности и постижимости природы как таковой и свидетельства замысла отдельных природных явлений. Ньютон, Бойль и другие ключевые фигуры периода становления современной науки неоднократно превозносили свидетельства существования в природе благосклонного замысла. Юм в XVIII веке критиковал эти доказательства, однако в начале XIX столетия они еще были достаточно популярны. Пейли считал, что координация многих сложных частей для выполнения одной функции (например, глаз и зрение) свидетельствует о мудром Творце. Дарвин, в свою очередь, показал, что адаптацию можно объяснить случайными вариациями и естественным отбором, хотя он продолжал утверждать (по крайней мере, до последних лет своей жизни), что сами эволюционные законы – результат мудрого замысла. После Дарвина была выдвинута новая формулировка доказательства, предполагавшая, что результатом замысла стали не определенные структуры отдельных организмов, а свойства материи и законы природы, благодаря которым эти организмы возникают в ходе эволюционного процесса. Мудрость Бога становится очевидной именно в замысле всего процесса. В 1930-х гг. Ф.Р. Теннант предложил рассматривать природу как единую систему взаимно поддерживающих друг друга структур, которые привели к появлению живых организмов и создали условия для зарождения человеческой морали, эстетики и интеллектуальной жизни170. Новая версия телеологического доказательства завоевала популярность в католических кругах, где естественное богословие традиционно занимало достаточно почетное место, будучи предварительной подготовкой к принятию истины откровения171.
Британский философ Ричард Свинбурн – активный сторонник естественного богословия. Отправной точкой для его философии науки является теория подтверждения. Он считает, что в процессе развития науки не столько новые факты служат доказательством верности теории, сколько, наоборот, каждая теория изначально имеет некоторую степень вероятности, которая возрастает или уменьшается с получением дополнительных свидетельств (теорема Байеса). Свинбурн полагает, что существование Бога имеет некую изначальную вероятность, поскольку это достаточно простое и личностное объяснение мира с точки зрения замысла. Далее он говорит, что наличие порядка в мире увеличивает вероятность того, что теистическая гипотеза верна. Свинбурн также настаивает, что наука не может объяснить существование в мире разумных созданий. Для объяснения возникновения сознания необходимо предположить наличие факторов, «лежащих за пределами ткани физических законов», а религиозный опыт дает «решающие дополнительные свидетельства». Свинбурн заключает: «Исходя из имеющихся у нас фактов, теистическая концепция представляется наиболее вероятной»172.
В самое последнее время появился еще один вариант доказательства «от замысла». Это антропный принцип в космологии. Астрофизики показали, что жизнь во вселенной была бы невозможна, если бы некоторые физические константы и другие условия на ранних стадиях истории вселенной даже на самые малые доли отличались бы от тех значений, которые имели место в действительности. Вселенная представляется «идеально настроенной» для возможности возникновения жизни. Вот, например, что пишет Стефан Хоукинг: «Если бы скорость расширения через одну секунду после Большого взрыва была бы меньше хоть на одну стотриллиардную часть, вселенная свернулась бы раньше, чем достигла своих нынешних размеров»173. Фриман Дайсон выводит отсюда следующее заключение:
Из существования таких астрономических и физических случайностей я делаю вывод, что вселенная оказалась неожиданно гостеприимным местом для того, чтобы в ней появились живые существа. Поскольку я ученый, воспитанный в традициях мысли и языка не XVIII, а XX столетия, то я не считаю, что архитектура вселенной доказывает существование Бога. Я полагаю лишь, что архитектура вселенной вполне соотносима с гипотезой о том, что разум играет во вселенной весьма существенную роль174.
Джон Барроу и Фрэнк Типлер приводят много других примеров того, сколь критическим было значение различных сил на ранних стадиях истории вселенной175. Философ Джон Лесли защищает антропный принцип как доказательство «от замысла». Однако он полагает, что в качестве альтернативного объяснения можно предположить наличие многих миров (либо в последовательных циклах пульсирующей вселенной, либо в отделенных друг от друга сферах, существующих одновременно). Эти миры могут отличаться друг от друга, а мы лишь случайно попали в тот из них, где соответствующие переменные подходят для возникновения жизни176. Кроме того, некоторые из этих условий, которые кажутся нам произвольными, могут оказаться необходимыми в более универсальной теории, над созданием которой работают физики.
Бывший епископ Бирмингемский Хью Монтефиоре считает, что имеется много примеров существования замысла вселенной, в том числе антропный принцип и направленность эволюции. Некоторые другие примеры, вроде предложенной Джеймсом Лавлоком (Lovelock) «гипотезы Геи» или «морфогенетических полей» Руперта Шелдрейка (Sheldrake), представляются значительно более спорными и не находят заметной поддержки среди ученых. Монтефиоре не настаивав на том, что эти аргументы доказывают существование Бога; он лишь предполагает, что это более вероятное объяснение, нежели все остальные177.
Ценность каждого из этих аргументов продолжает вызывать бурные дискуссии, на которых мы еще остановимся в следующих главах. Значимость естественного богословия заключается в призыве к религиозному плюрализму, поскольку оно основывается на научных данных, которые можно признать, невзирая на культурные и религиозные различия. Кроме того, подобные аргументы могут способствовать преодолению ряда препятствий на пути к вере, показывая, что идея существования замысла Творца вполне разумна как альтернативный способ интерпретации. Однако даже принятие этих аргументов еще не приводит к вере в личного и деятельного Бога Библии, как указывал Юм, но лишь к вере в далекого от мира Творца мудрого замысла. Надо отметить также, что лишь немногие пришли к вере благодаря подобным аргументам. Естественное богословие способно показать, что существование Бога весьма возможно, однако подобные рассуждения представляются очень далекими от реальной жизни религиозной общины.
2. Богословие природы
Богословие природы, в отличие от некоторых вариантов естественного богословия, выбирает в качестве отправного пункта не науку, а религиозную традицию, основанную на религиозном опыте и историческом откровении. Однако оно считает, что некоторые традиционные доктрины в свете современной науки должны быть сформулированы по-новому. Наука и религия рассматриваются здесь как относительно независимые, но местами перекрывающиеся, источники идей. Наука, в частности, оказывает влияние на доктрины о творении, провидении и человеческой природе. Для того чтобы религиозная вера могла пребывать в гармонии с научным знанием, она нуждается в некоторых коррективах и изменениях. Богословы склонны скорее принимать во внимание научные идеи, получившие широкое распространение, нежели ограниченные и умозрительные теории, у которых больше вероятности быть опровергнутыми в будущем. Богословские доктрины должны согласовываться с научными фактами, даже если последние не нуждаются в первых.
Понимание основных характеристик природы влияет на наши модели соотношения Бога и природы. Природа воспринимается сегодня как динамический эволюционный процесс, долгая история появления нового, характеризующаяся как случайностями, так и законами. Природный порядок является экологическим, взаимозависимым и многоуровневым. Эти характеристики должны изменить наши представления о соотношении Бога как с человечеством, так и с остальной природой, что, в свою очередь, должно повлиять на наше отношение к природе и способствовать выработке экологической этики. Восприятие проблемы зла в эволюционном мире также отличается от ее восприятия в мире статическом.
Отправной точкой для богословских размышлений биохимика и богослова Артура Пикока служит прошлый и нынешний религиозный опыт существующей религиозной общины. Подтверждением религиозной веры является согласие внутри общины, а также критерии согласованности, всесторонности и плодотворности. Однако Пикок стремится по-новому сформулировать религиозную веру в ответ на требования современной науки. Он подробно рассуждает о том, как взаимодействуют случайность и закон в космологии, квантовой физике, неравновесной термодинамике и эволюционной биологии, а также описывает появление определенных форм деятельности на высших уровнях сложности в многослойной иерархии органической жизни и сознания. Пикок считает, что случайность играет позитивную роль в исследовании и выражении возможностей на всех уровнях. Бог творит на протяжении всего процесса законов и случайностей, а не ограничивается лишь вмешательством в разрывы этого процесса. Бог созидает с помощью процессов природного мира, с которого наука снимает покровы. Пикок признает случайность Божьим локатором, выбирающим различные возможности природных систем из всего их многообразия. Кроме того, в качестве аналогии он приводит художественное творчество, в котором постоянно присутствует целесообразность и возможность различных вариантов развития178. По большинству пунктов я согласен с позицией Пикока. Он демонстрирует нам яркие образы, с помощью которых можно говорить о соотношении Бога с миром, характеристики которого раскрывает наука. Однако мне кажется, что, кроме образов, наводящих на мысль о связи между научным и религиозным размышлением, нам необходимы также философские категории, которые помогли бы более систематично объединить научные и богословские утверждения.
Другим примером богословия природы служат работы иезуита и палеонтолога Тейяра де Шардена. Некоторые рецензенты считают его «Феномен человека» образцом естественного богословия, доказательством существования Бога, исходящим из эволюции. Мне думается, что правильнее было бы рассматривать эту книгу как синтез научных идей с богословскими представлениями, опирающимися на христианскую традицию и опыт. Другие работы Тейяра показывают, сколь сильно повлияло на его религиозное наследие его собственная духовность. Однако его концепция Бога если и не произросла из анализа эволюции, то, по крайней мере, претерпела серьезные изменения под воздействием эволюционных идей. Тейяр говорит о непрерывном творении и о непрерывном воздействии Бога на незавершенный мир. Его представление о конечной конвергенции в некую «точку Омега» сочетает в себе умозрительную экстраполяцию эволюционной направленности и своеобразную интерпретацию христианской эсхатологии179.
В любом из вариантов богословия природы имеется ряд богословских вопросов, которые требуют некоторых пояснений. Нуждается ли в новой формулировке классическая идея всемогущества Бога? На протяжении столетий богословы пытались согласовать всемогущество и всеведение Бога с человеческой свободой и существованием зла и страдания. Однако теперь возникла новая проблема, связанная с ролью случая в различных областях науки. Должны ли мы отстаивать традиционную идею божественного суверенитета и разделять взгляд, что те явления, которые видятся ученым случайностью, на самом деле провиденциально управляются Богом? Или же человеческая свобода и случайность в природе представляют собой самоограничение предвидения и власти Бога, которое потребовалось при сотворении этого мира?
Как нам следует рассматривать воздействие Бога на мир? Традиционное разделение первичных и вторичных причин сохраняет целостность цепи вторичных причин, которые изучаются наукой. Бог не вмешивается, но воздействует на мир посредством вторичных причин, которые на своем уровне являются исчерпывающим объяснением всех событий. Если Бог с самого начала спроектировал все вещи так, чтобы они могли для достижения предназначенных целей раскрываться в своих собственных структурах (детерминированных и вероятностных), то это ведет к деистическим представлениям. Должно ли в этом случае на смену библейской картине, в которой подчеркивалась особенность божественного акта, прийти представление о единообразном божественном присутствии в естественных причинах? Следует ли нам говорить лишь об одном деянии Бога – всей космической истории? Это лишь некоторые вопросы, на которые богословие природы должно дать ответ. Мы еще вернемся к ним в части 4.
Богословие природы сегодня должно также способствовать охране окружающей среды, поскольку наша планета находится в опасности. Защитники окружающей среды справедливо критиковали классическое христианство за то, что оно уделяло слишком большое внимание трансцендентности Бога в ущерб Его имманентности и проводило слишком четкую границу между человечеством и остальной природой. Идея власти над природой, выраженная в Быт.1:28, порой служила оправданием безграничного господства, когда все прочие творения считались лишь средствами достижения человеческих целей. Однако многие современные авторы призывают обратить внимание на библейские сюжеты, которые могут способствовать охране окружающей среды180.
1. Управление природой. Земля в конечном итоге принадлежит Богу, который ее сотворил. Нам лишь доверено управлять ею, мы ответственны за ее благосостояние и должны заботиться о ней. Суббота – день отдыха для земли и всех живых существ, а не только для людей. Каждый седьмой год поля должны лежать под парами; земля заслуживает уважения и вправе возмутиться, если о ней плохо заботятся. Мы, однако, зачастую превратно толковали идею управления, приписывая природе только утилитарную ценность и воспринимая эту идею лишь как господство в ущерб всем остальным ее составляющим.
2. Почитание природы. Почитание выходит за рамки управления, поскольку оно подразумевает ценность природы как таковой. Первая глава книги Бытия заканчивается утверждением о благости сотворенного миропорядка.
Идея творения – это великая объединяющая структура, направляющая все формы жизни. После потопа был заключен завет со всеми творениями. Во многих псалмах говорится о ценности природы, не зависящей от той пользы, которую она нам приносит. В псалмах воспевается величайшее многообразие природного мира. Иов в конце своего диалога с Богом повествует о величии природных явлений, и в том числе тех странных существ, которые не приносят человеку пользы. Христос говорит о том, что Бог заботится о лилиях полевых и птицах небесных, а в некоторых Его притчах используются образы, заимствованные из мира природы.
3. Отношение к природе как к таинству. Природа наделяется еще большей ценностью, если признавать, что священное присутствует в ней самой. Восточное православие и кельтское христианство воспевали благость творения и присутствие в нем Бога. Некоторые англиканские авторы считают, что благодать Божья может проявляться во всей природе, а не только в хлебе, вине и воде при причащении. Эти традиции склонны представлять скорее искупление всего творения, а не спасение человеческих душ из этого мира. У них много общего с обсуждавшимися выше представлениями об одухотворенности природы, однако здесь уделяется больше внимания трансцендентности и личности Христа.
4. Святой Дух в природе. В начальных стихах книги Бытия сказано о том, что «Дух Божий носился над водою». Некоторые псалмы говорят о присутствии Духа в природе. Возблагодарив Бога за различные растения и животных, окружающие нас, Псалом 103 возглашает: «Пошлешь дух Твой – созидаются». Кроме того, Дух вдохновлял пророков и общину верующих. Дух снизошел на Христа при крещении, и рождение церкви в пятидесятницу также отмечено деятельностью Духа. Дух связывает воедино работу Бога как Творца и как Искупителя. В природе проявляется тот же самый Бог, что и в жизни Христа и церкви.
Экологическую этику я более подробно затрагивал в других работах181, однако и в данной книге эта тема появляется неоднократно (см. предметный указатель). Мне хотелось, чтобы богословие совмещало в себе заботу об окружающей среде и стремление к социальной справедливости. В главе 11 я скажу о том, что богословие процесса выдвигает весьма многообещающие концепции, в которых учитываются и экологические, и человеческие ценности.
3. Систематический синтез
О более систематической интеграции можно говорить, если и наука, и религия вносят свой вклад в выработку согласованного мировоззрения в рамках универсальной метафизики. Метафизика занимается поисками системы общих категорий, с помощью которых можно интерпретировать самый разнообразный опыт, универсальной концептуальной схемы, в которую могут быть включены основные характеристики всех явлений. Таким образом, метафизика – это скорее поле деятельности философа, а не ученого или богослова, тем не менее рассуждения последних тоже могут внести в нее свой вклад. Томизм создал подобную метафизическую структуру, в которой, однако, лишь отчасти преодолен дуализм духа и материи, разума и тела, человечества и природы, вечности и времени.
Сегодня весьма вероятным претендентом на роль такого посредника является философия процесса, поскольку она сама была сформулирована в результате развития как научной, так и религиозной мысли, и послужила ответом на насущные проблемы, стоявшие перед западной философией (например, на проблему дуализма разума и тела). Альфред Норт Уайтхед (Whitehead) – наиболее влиятельный сторонник категорий процесса, хотя их богословские составляющие были подробнее исследованы Чарлзом Хартсхорном, Джоном Коббом и другими. На формирование представлений о реальности как о динамической ткани взаимосвязанных явлений, очевидно, оказали влияние биология и физика. Изменение, случайность и новизна признаются такими же характеристиками природы, как и упорядоченность. Природа незавершена и все еще пребывает в процессе становления. Сторонники теории процесса критикуют редукционизм, считая, что его категории неприменимы к деятельности на высших уровнях. Они видят как преемственность между различными уровнями действительности, так и их особенности и полагают, что характерные черты каждого уровня в зародыше присутствуют на более ранних и низших стадиях. В отличие от дуализма материи и разума и от материализма, вообще не оставляющего места для разума, мышление процесса видит во всех явлениях два аспекта, рассматривая их как изнутри, так и снаружи. Поскольку человечество неразрывно связано с остальной природой (несмотря на уникальность своего самосознания), человеческий опыт может служить ключом для интерпретации опыта других существ. В процессе эволюционной истории появляются совершенно новые явления, но основные метафизические категории приложимы ко всем событиям.
Сторонники теории процесса воспринимают Бога как источник новизны и порядка. Творение – это длительный и незавершенный процесс. Бог вызывает появление новых объектов, которые в силу этого наделены как порядком и структурой, так и свободой и новизной. Бог – это не отделенный от мира Абсолют или Недвижимый двигатель; напротив, Он взаимодействует с миром, влияя на все события, хотя и не являясь их единственной причиной. Метафизика процесса считает, что каждое событие – это результат сочетания прошлого данного объекта, его собственных действий и Божьего акта. Бог трансцендентен, но и имманентен миру, определенным образом влияя на структуру каждого события. Нельзя говорить о последовательности чисто природных явлений, прерываемой некоторыми пробелами, во время которых действует только Бог. Представители теории процесса отвергают идею божественного всемогущества. Они верят скорее в Бога убеждения, а не принуждения, и тщательно анализируют место случайности, человеческой свободы, зла и страдания в мире. Представители христианского богословия процесса уверяют, что сила любви, явленной на кресте, состоит именно в ее способности вызвать отклик, уважая при этом целостность других существ. Они полагают также, что божественная неизменность – это не характеристика библейского Бога, который активно вовлечен в историю. Хартсхорн разрабатывает «биполярную» концепцию Бога, цели и характер которого остаются неизменными, тогда как опыт Его восприятия и взаимоотношения с Ним претерпевают изменения182.
В книге «Освобождение жизни» Чарлз Берч и Джон Кобб собрали вместе ряд идей, относящихся к биологии, философии процесса и христианской мысли. В первых главах представлена экологическая, или органическая модель, в которой (1) каждое существо определяется его взаимоотношениями с окружающей средой, и (2) все существа являются субъектами опыта, гамма которого распространяется от зачаточных форм отклика до мыслящего сознания. Эволюционная история демонстрирует как преемственность, так и появление нового. Человечество связано с природой и является ее неотъемлемой частью. Берч и Кобб развивают этику, которая избегает антропоцентризма. Задача обогащения любого опыта способствует интересу к формам жизни, отличным от человеческой, хотя они и не признаются одинаково ценными. Авторы рисуют величественную картину справедливого и устойчивого общества во взаимозависимой общности жизни183. В других книгах они демонстрируют свою преданность христианской традиции и пытаются по-новому ее сформулировать в категориях процесса. Например, в книге, написанной совместно с Дэвидом Гриффином, Кобб пытается достичь «истинно современного взгляда на вещи, который одновременно был бы и истинно христианским»184. Он понимает Бога как «источник новизны и порядка» и одновременно как «творящую и отзывчивую любовь». Явленная во Христе Божья любовь открыла нам дорогу к творческому изменению. Кроме того, эти авторы показывают, что христианское богословие процесса служит солидной основой для экологической этики.
Я в основном согласен с позицией, которую занимает богословие природы, и склонен, хоть и с некоторой осторожностью, сочетать ее с философией процесса. Естественное богословие слишком полагается на науку, что может привести к пренебрежению теми сферами опыта, которые я считаю более важными с религиозной точки зрения. Как мне представляется, центр христианской жизни – это опыт переориентации, исцеление от нашей раздробленности путем достижения новой целостности и выражение новых взаимоотношений с Богом и ближними. Сторонники экзистенциализма и лингвистического анализа справедливо указывают на то, что для религии первоочередную роль играет личная и общественная жизнь, а неоортодоксия справедливо отстаивает, что в христианской общине именно отклик на личность Христа может изменить наше существование. Однако признание первостепенной важности искупления не должно вести к преуменьшению роли творения, ибо наша личная и общественная жизнь тесно связана со всем остальным сотворенным порядком. Наше искупление происходит в мире и вместе с ним, а не за его пределами. Поэтому частью нашей задачи, для выполнения которой необходимо использовать как религиозные, так и научные источники, является ясное выражение богословия природы.
При осуществлении этой задачи систематическая метафизика может помочь нам в формировании согласованного видения. Однако христианство нельзя приравнивать к какой бы то ни было метафизической системе. Существует опасность, что научные и религиозные идеи могут быть подвергнуты искажению для того, чтобы они лучше соответствовали тому предвзятому синтезу, который стремится объять всю реальность. Мы должны всегда помнить о том, сколь многообразен наш опыт. Мы искажаем его, если разделяем на отдельные области и изолированные отсеки, точно так же мы искажаем его, пытаясь втиснуть в изящную интеллектуальную систему. Согласованное вйдение действительности также может учитывать особенности различных видов опыта. В следующих главах я попытаюсь отдать должное тем составляющим независимой модели, которые представляются верными, однако основное внимание будет сосредоточено на модели диалога в области методологии и тезисе интеграции в отношении доктрин творения и человеческой природы.
Глава пятая. Модели и парадигмы
В этой главе я рассматриваю некоторые параллели между методами науки и религии и развиваю описанный в предыдущей главе вариант диалога, озаглавленный «Методологические параллели». В отличие от сторонников независимой модели, которые обращают внимание лишь на различия между наукой и религией, приверженцы диалога указывают на сходства между ними. Различия мы здесь тоже не оставим без внимания, хотя к их подробному исследованию обратимся в главе 6.
Сначала сравним основные структуры научной и религиозной мысли, затем проанализируем роль концептуальных моделей в обеих сферах. После этого рассмотрим роль парадигм в науке и некоторые возможные параллели в религии. В последнем разделе мы исследуем соотношение между сомнением и определенностью в обеих областях.
I. Структуры науки и религии
Вначале мы рассмотрим соотношение между двумя основными составляющими науки: данными и теорией. Затем проанализируем религиозные данные, то есть религиозный опыт, предание и обряд, а также некоторое сходство между функциями религиозной веры и научных теорий. Мы также обратим внимание на отличительные черты религиозного предания и обряда185.
1. Теория и данные в науке
При описании деятельности Галилея, Ньютона и Дарвина я отметил, что основные компоненты современной науки – это (1) частные наблюдения и экспериментальные данные и (2) общие концепции и теории. Как теории соотносятся с данными? Со времен Бэкона и Милля индуктивисты полагали, что отправная точка для науки – наблюдения, а теории создаются путем их обобщения (на схеме 1 это было бы обозначено стрелкой вверх от данных к теории). Однако такие представления неадекватны, поскольку для создания теорий требуются также новые понятия и гипотезы, не основанные на данных; кроме того, теории зачастую имеют дело с объектами и взаимоотношениями, которые нельзя наблюдать непосредственно.
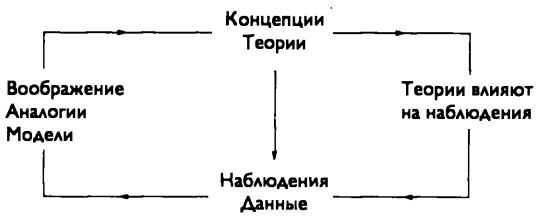
Схема 1. Структура науки
Поэтому на нашей диаграмме нет прямой линии, идущей вверх от данных к теории и отображающей акт логического рассуждения, а есть лишь непрямая линия в левой части диаграммы, отображающая акт творческого воображения, для которого не существует четких правил. Новое понятие или соотношение зачастую вводится по аналогии с более известным понятием или соотношением, которые подвергаются некоторым усовершенствованиям и переработке. Часто такая аналогия развивается затем в концептуальную модель постулируемого объекта, который нельзя наблюдать непосредственно. Модель ведет к формулировке обобщенной и абстрактной теории. Например, модель бильярдных шаров предполагала существование невидимых частиц газа, которые сталкиваются друг с другом подобно бильярдным шарам. На основании этой модели была разработана кинетическая теория газов.
Чтобы теорию можно было использовать в науке, она должна быть проверена экспериментально. Теория предсказывает определенные результаты наблюдений. Такие гипотетически-дедуктивные представления обозначены на схеме стрелкой сверху вниз от теории к наблюдению. Контекст открытия (левая часть схемы) отличается от контекста его подтверждения (стрелка сверху вниз). Если теория или гипотеза верна, то мы ожидаем определенных итогов наблюдений, хотя процесс размышления всегда подразумевает различные допущения, вспомогательные гипотезы и правила соотношений, связывающих теоретические и экспериментальные данные. В случае кинетической теории газов мы можем рассчитать изменение импульса гипотетических частиц при ударе о стенки сосуда. Допустив идеально упругое столкновение и пренебрежимо малый размер частиц, мы получим закон Бойля, связывающий давление с объемом газа. Подтверждение этих выводов позволяет нам принять теорию предположительно186.
Гипотетически–дедуктивные взгляды доминировали в философии науки в 1950–х и начале 1960–х гг. Они подразумевают, что данные можно описать на языке наблюдений, свободном от теоретической нагрузки и что различные теории должны проверяться с помощью этих определенных и объективных данных. Хотя согласованность с данными еще не доказывает теорию (поскольку может оказаться, что и другие теории тоже с ними согласуются), тем не менее Карл Поппер и другие считали, что несогласованность с данными убедительно опровергает теорию. Однако изучение истории науки поставило это утверждение под сомнение.
В ряде случаев несогласующиеся данные можно привести в гармонию с теоретическими предположениями с помощью введения специальных вспомогательных гипотез. Первые противники астрономии Коперника были уверены, что гипотеза, согласно которой Земля вращается вокруг Солнца, неверна, потому что нет заметных ежегодных изменений положения ближайших звезд относительно далеких. Однако Коперник устранил это противоречие, предложив гипотезу (не подтверждавшуюся тогда независимыми свидетельствами), согласно которой все звезды слишком далеки, если сравнить расстояние до них с размером Солнечной системы. В других случаях теория оставалась неизменной, а противоречащие данные просто признавались необъяснимой аномалией. Ньютон в своих «Началах» принимал, что наблюдаемое движение апогея (самой удаленной точки) орбиты Луны при ее обращении вокруг Земли вдвое больше того, которое предсказывалось в его теории. В течение шестидесяти лет это противоречие, далеко выходившее за рамки возможных экспериментальных погрешностей, не могли объяснить, но оно никогда не использовалось для опровержения теории.
Мы никогда не можем проверить отдельно взятую теорию. Она должна рассматриваться как часть системы теорий. Если теория плохо согласуется с данными по какому-то пункту, то другие части системы обычно можно подстроить так, чтобы устранить это противоречие. Теории, оперирующие понятиями, выходящими за границы наблюдения, неоднозначно определяются данными187. Обычно группа общепринятых теорий просто принимается как данность и считается несомненной, тогда как все внимание концентрируется на новой или спорной теории. Во многих научных дискуссиях соперничающие партии соглашаются по большинству общепринятых вопросов, и таким образом могут договориться о том, какие данные могут использовать обе стороны в качестве решающих для проверки соперничающих теорий. Однако в некоторых случаях две широкомасштабные теории используют различные методы интерпретации данных или соотносятся с различными группами данных, которые объясняются по-разному, и тогда простая экспериментальная проверка невозможна.
Более того, все факты теоретически обусловлены. Свободного от теоретической нагрузки языка наблюдений попросту не существует. Теории влияют на наблюдения по-разному (как показано в правой части диаграммы). Отбор явлений для исследования и выбор переменных, имеющий большое значение для измерений, также теоретически обусловлены. Форма задаваемых вопросов определяет тип ответов, которые мы получаем. Теории влияют и на использование оборудования, и на выбор языка для отчета о наблюдениях188. Такой подход сильно отличается от эмпирического, при котором знание базируется на твердом основании неизменных фактов.
Кроме того, исследуемый объект может изменяться из-за самого процесса наблюдения. Мы увидим, что это составляет особую проблему для микромира квантовой физики и сложной сети экосистем. Выступая в качестве наблюдателей, мы не можем отстраниться от изучаемых объектов, а являемся частью взаимосвязанной системы.
Томас Кун доказывал, что научные данные в немалой степени зависят от доминирующих парадигм. Парадигма, как мы видели, представляет собой группу понятийных и методологических предположений, воплощенных в тех или иных научных теориях, например, в ньютоновой механике XVIII века или в теории относительности и квантовой физике XX века. Парадигма неявным образом устанавливает для данной научной общины вопросы, на которые могут быть получены ответы, и способы объяснения, которые стоит искать. На стандартных примерах студенты учатся, какие объекты существуют в мире и какие методы подходят для их изучения. Смена парадигмы – это «научная революция», «радикальная трансформация научного воображения», которая не определяется однозначно экспериментальными данными или обычными критериями исследования. Поэтому принятые парадигмы более устойчивы к изменениям, и опровергнуть их сложнее, нежели отдельные теории. Парадигмы создаются в рамках определенных исторических сообществ189. Такой контекстуализм, историзм и релятивизм противостоит формализму и эмпиризму Поппера.
Существует четыре критерия оценки теорий при обычном научном исследовании:
1. Согласованность с данными. Это самый важный критерий, хотя он и не может служить точным доказательством истинности теории, поскольку другие, еще не разработанные, теории, могут не хуже или даже лучше согласовываться с данными. Теории всегда определяются данными. Но несогласованность с ними еще не доказывает ошибочность теории, поскольку специальные гипотезы и необъясненные аномалии могут сохраняться на протяжении неопределенного времени. Тем не менее, согласованность с данными и успех предсказаний, особенно новых, ранее не ожидавшихся явлений, служит впечатляющей поддержкой для теории.
2. Связность. Теория должна согласовываться с другими принятыми теориями и, если возможно, быть связанной с ними в концептуальном отношении. Ученые ценят также внутреннюю связность и простоту теории (простоту формальной структуры, наименьшее число независимых и специальных предположений, эстетическое изящество, симметрию и так далее).
3. Охват. Кроме того, критериями оценки теорий могут служить всесторонность и общность. Теория ценна, если она связывает воедино ранее разрозненные области, если она поддерживается разнообразными свидетельствами или применима к широкому кругу соответствующих переменных.
4. Плодотворность. Теория оценивается не просто с точки зрения ее прошлых достижений, но и с точки зрения ее нынешних возможностей и способности создать каркас для будущих исследовательских программ. Плодотворна ли теория для поддержки дальнейших теоретических разработок, для создания новых гипотез, для предложения новых экспериментов? Основное внимание обращается здесь на непрерывную исследовательскую деятельность научного сообщества, а не на конечный результат их работы.
В западной традиции существует три основных взгляда на истину, каждый из которых обращает основное внимание на те или иные из вышеперечисленных критериев. Сторонники первого из этих взглядов считают, что предположение истинно, если оно соответствует действительности. Это общепринятое понимание истины. Утверждение «идет дождь» истинно в том случае, если действительно идет дождь. Такую позицию занимает классический реализм, и она соответствует эмпирической стороне науки, определенной первым критерием: теория должна согласовываться с данными. Однако мы уже отмечали, что не существует свободных от теоретической нагрузки фактов, с которыми можно сравнить теорию. Многие теории постулируют ненаблюдаемые явления, которые лишь косвенно можно связать с наблюдаемыми данными. У наc нет прямого доступа к действительности, чтобы сравнить ее с нашими теориями.
Сторонники связности полагают, что группа предположений истинна, если она является всесторонней и внутренне непротиворечивой. Таких взглядов придерживается рационалистическая и идеалистическая философия, и они соответствуют теоретической стороне науки. Мы уже говорили, что одна теория никогда не оценивается изолированно от остальных, но лишь как часть системы теорий, поэтому в расчет необходимо принимать не только связность, но и охват. Однако с такой позицией тоже связан ряд проблем, поскольку в одной области может быть несколько связных групп теорий. Кроме того, суждения о согласованности с данными отличаются по своему характеру от суждений о внутренней связности, и поэтому их нельзя приравнять друг к другу. Наконец, сама действительность более парадоксальна и менее логична, чем это представляется рационалистам.
Третий, прагматический взгляд признает, что предположение истинно, если оно подтверждается практикой. Мы должны судить по последствиям. Плодотворна ли теория и наводит ли она на размышления? Полезна ли она для удовлетворения индивидуальных и общественных нужд и интересов? Идеи и теории служат руководством к действию в определенном контексте. Сторонники инструментализма и лингвистического анализа обычно отбрасывают вопрос об истине и говорят лишь о различных функциях языка. Однако они зачастую разделяют прагматический взгляд на научный язык. Некоторый прагматический элемент есть в тезисе Куна, что научное исследование решает проблемы лишь в определенном историческом контексте и в контексте определенной парадигмы. Эта сторона науки отражена в нашем последнем критерии, плодотворности. Тем не менее сам по себе он неадекватен, поскольку без дальнейшей проверки концепций с помощью других критериев, остается неясно, «работает» ли идея или она «полезна».
Я считаю, что истина должна соотноситься с действительностью. Но так как действительность как таковая для нас недоступна, критериями истины должны служить все четыре вышеуказанных пункта. Взятые вместе, они включают в себя все перечисленные взгляды на истину. На определенной стадии научного исследования, тот или иной критерий может быть важнее других. Поскольку в качестве определения истины принимается ее соответствие действительности, то мы имеем дело с некоторой формой реализма, но это – критический реализм, так как он сочетает различные критерии. Я буду придерживаться такого критического реализма на протяжении всей книги.
В общем, наука не приводит к несомненным выводам. Ее заключения всегда неполны, предварительны и могут подвергаться пересмотру. Теории меняются со временем, и мы должны ожидать, что существующие теории будут изменяться или опровергаться, подобно предшествующим. Однако наука действительно дает нам надежные процедуры для проверки и оценки теорий на основании сочетания критериев. В дальнейшем мы обратим внимание на роль индивидуальных суждений и традиций тех или иных научных сообществ при использовании этих критериев.
2. Вера и опыт в религии
Структуры религии и науки в некоторых отношениях сходны, хотя они и различаются по нескольким важным пунктам. В качестве данных религиозная община использует личный опыт, а также предания и обряды, сложившиеся в религиозной традиции. Мы начнем с религиозного опыта, который всегда интерпретируется с помощью сочетания концепций и верований. Эти концепции и верования не являются результатом логического анализа данных. Их источником служат акты творческого воображения, в котором, как и в случае с наукой, модели и аналогии играют большую роль (схема 2). Модели также выводятся из традиционных преданий и выражают структурные элементы, которые в динамической форме повторяются в соответствующих повествованиях. Сами модели, в свою очередь, приводят к формированию абстрактных концепций и определенных верований, систематически формализуемых в богословских доктринах.
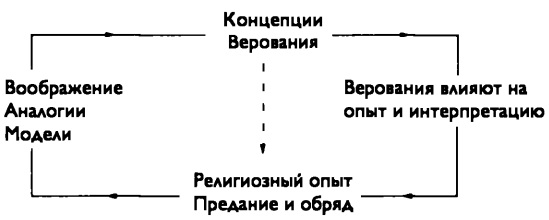
Схема 2. Структура религии
Экспериментальная проверка религиозных верований весьма проблематична (поэтому стрелку, идущую сверху вниз, мы изобразили прерывистой), хотя далее мы увидим некоторые критерии проверки их адекватности. Кроме того, не существует опыта, свободного от интерпретации, так же, как в науке не существует данных, свободных от теоретической нагрузки. Религиозные верования влияют на опыт и интерпретацию традиционных преданий и обрядов (правая часть диаграммы) даже сильнее, чем научные теории влияют на интерпретацию данных. Парадигмы здесь также необыкновенно устойчивы к изменениям, и если парадигма все-таки изменяется, то вместе с ней изменяется и вся совокупность понятийных и методологических допущений. Рассмотрим поочередно каждую из этих черт религиозной жизни и мысли.
В разнообразных мировых традициях повторяются шесть отличительных типов религиозного опыта190.
1. Духовный опыт постижения божественного. Во многих культурах люди описывали чувство благоговения и почтения, тайны и удивления, святости и священного. Люди могут испытывать чувство потусторонности, противостояния и встречи или чувство охваченности и подчиненности. Как правило, люди понимают свою зависимость, конечность, ограниченность и случайность. Интерпретация опыта часто осуществляется в рамках личностной модели божественного. Такая модель наиболее распространена в монотеистических религиях (иудаизм, христианство и ислам), однако она прослеживается также в буддизме махаяны и в традиции бхакти в индуизме. В ней особо подчеркивается противопоставление конечности человеческого начала и трансцендентности божественного.
2. Мистический опыт единства. Во многих традициях мистики говорили об опыте единства всех вещей, найденного в глубинах души человека и в мире природы. Единство достигается дисциплиной медитации и характеризуется радостью, гармонией, спокойствием и миром. В крайних формах это единство можно описать как самоотвержение, потерю собственной индивидуальности и радость, близкую к блаженству и восторгу. Такой опыт часто соотносится с безличными моделями божественного, особенно, в восточных традициях, хотя и на Западе он порой присутствует как в личных, так и в безличных моделях. Основной упор здесь делается на единство человеческого и божественного, а не на их разделение. Два описанных типа религиозного опыта наиболее широко распространены в мире.
3. Преобразующий опыт переориентации. В жизни некоторых людей за признанием вины следовал опыт прощения. Другие описывали переход от раздробленности и отчужденности к целостности и примирению. Некоторые испытывали исцеление от внутреннего разлада или восстановление взаимоотношений с другими. Такая переориентация и обновление, внезапное или постепенное, может привести к примирению с самим собой, освобождению от эгоцентризма, к открытости навстречу новым возможностям жизни, к сочувствию другим людям, а порой и к посвящению себя жизни, основанной на полном доверии и любви. Такой преобразующий опыт занимает важное место в христианской традиции, однако параллели ему можно найти во многих традициях.
4. Мужество при встрече со страданием и смертью. Опыт страданий, смерти и быстротечности существования знаком всем, и отклики на него можно найти практически во всех религиозных традициях. Бессмысленность преодолевается, когда люди рассматривают задачу человеческого бытия в широком контексте, выходящем за рамки жизни отдельного человека. Отношение к страданиям и смерти становится другим, когда на смену тревоге приходит доверие (в западной традиции), или когда отрешенность заменяется привязанностью, которая дает страданиям и смерти власть над нами (в восточной традиции). Подобный опыт, конечно, можно описывать в психологических терминах, однако религиозные традиции трактуют его в связи с представлениями о высшей реальности, которая лежит за пределами личной.
5. Нравственный опыт обязательства. Многие люди чувствовали нравственные требования, превосходящие их собственные склонности. Хотя голос совести отчасти есть продукт социальных условий, он может также вести людей к осуждению их культуры и нравственных нарушений перед лицом зла и даже перед лицом смерти. Суждения о добре и зле, об истинном и ложном, человек выражает в свете своих представлений о природе высшей реальности. Моральные требования можно понимать как Божью волю к справедливости и любви или как требование гармонии в космическом процессе. На Западе пророческий протест против социальной несправедливости рассматривался как отклик на Божьи цели.
6. Благоговение перед порядком и творческими силами мира. На интеллектуальном уровне существование в мире порядка и творческих сил служит основанием для вывода о наличии божественного источника порядка, красоты и новизны (подобно классическому доказательству «от замысла»). На уровне опыта люди относятся к миру с почтением и уважением, с благодарностью за дар жизни и с удивлением перед тем, что рациональный порядок природы постижим нашим разумом. В духовной традиции это понимается как зависимость от Творца, который служит основой порядка и творческих сил, а в мистических традициях – скорее, как зависимость от творческих сил, имманентных природе.
Описанные типы религиозного опыта порой кажутся чем-то личным и индивидуальным, но они всегда переживаются в контексте общины. Опыт всегда обусловлен предшествовавшими ожиданиями и верой. Основатели новых традиций отталкиваются от унаследованных ими культурных представлений, даже если и ставят под сомнение некоторые из них. Их собственный особенный опыт вызывает мощный отклик у их последователей. В последующих поколениях развивающаяся община отбирает отдельные стороны индивидуального опыта своих членов. Такая группа принимает определенные формы опыта и отвергает другие, и это ограничивает допустимые верования, хотя эти ограничения меняются на протяжении исторического процесса и подвергаются определенной переформулировке. В большинстве традиций существовали пророческие фигуры, критиковавшие принятые идеи и установленную практику, тогда как священнослужители преимущественно заботились о непрерывности и сохранении традиций. Во всех традициях были как периоды кодификации и институционализации, так и периоды реформирования и перемен.
Если задача богослова – систематическое отображение жизни и мысли религиозной общины, то в нее входит и критическая оценка на основании определенных критериев. Я полагаю, что оценка верований в рамках общины приверженцев парадигмы должна осуществляться на основании тех же критериев, которые мы использовали для оценки научных теорий, хотя применяться они должны несколько иначе. (Вопросам оценки самих парадигм и различных религиозных традиций будет посвящена следующая глава).
1. Согласованность с данными. Религиозные верования должны верно отображать те области опыта, которые община считает наиболее значимыми. Я уже указывал, что исходные данные здесь – это индивидуальный религиозный опыт, с одной стороны, и общинное предание и обряд – с другой. Эти данные значительно сильнее обусловлены теорией, чем в случае науки. Мы должны будем проанализировать влияние верований на опыт и на интерпретацию предания и обрядов.
2. Связность. Согласованность с другими принятыми религиозными представлениями гарантирует непрерывность данной традиции. Суждения, выносимые всей общиной, защищают от индивидуализма и произвольности. Однако и здесь остается место для новых формулировок и новой интерпретации, и, действительно, идеи религиозных общин претерпели значительные изменения на протяжении истории. Необходимо принимать во внимание также тесные взаимоотношения внутри группы религиозных представлений.
3. Охват. Религиозные верования могут распространяться и на толкование иных видов человеческого опыта, лежащих за пределами исходных данных, в частности, на другие аспекты нашей личной и общественной жизни. В век науки они должны, по крайней мере, согласовываться с научными открытиями. Религиозные верования могут также внести свой вклад в формирование согласованного мировоззрения и всеобъемлющей метафизики.
4. Плодотворность. В науке теории оцениваются, в частности, по тому, как они способствуют развитию конкретных исследовательских программ, что очень важно для развития самой науки. Поскольку религия значительно разнообразнее в своих проявлениях, и ее функции заметно отличаются от функций науки, то ее плодотворность оценивается с самых разных позиций. На личном уровне религиозные верования следует оценивать по их способности вызывать личную трансформацию и способствовать достижению цельности личности. Как они влияют на характер человека? Способны ли они вызвать сострадание и любовь? Как они соотносятся с насущными проблемами нашей эпохи, например, с разрушением окружающей среды и опасностью ядерной войны? Ответы на эти вопросы, конечно, зависят от парадигм и являются важнейшей частью оценки религии как образа жизни. Мы остановимся на этих вопросах в следующих разделах данной главы.
3. Предание и обряд в христианстве
Помимо религиозного опыта, в качестве данных для религиозных традиций выступают также предания и обряды. Передача традиции осуществляется в первую очередь посредством предания и его воплощения в обрядах, а не с помощью абстрактных концепций и религиозных доктрин. Религиозные предания изначально есть продукт творчески переосмысленного опыта и фактов (см. левую часть диаграммы на рисунке 2). Позднее устные предания были записаны и вошли в состав писаний, которые, таким образом, стали данными для последующих поколений. Многие исследователи религии для обозначения основных повествований религиозной традиции используют термин миф, настаивая на том, что в этот термин не вкладывается никаких, ни положительных, ни отрицательных, оценок историчности и правдивости повествования. Однако в общепринятом понимании это слово обозначает вымышленный рассказ, поэтому я предпочитаю термин предание, так как его статус остается открытым.
Основные религиозные предания описывают космический порядок и наши взаимоотношения с ним. Они занимают важное место в личной и общинной жизни, поскольку одобряют определенные виды упорядочивающего опыта и дают образцы для действий человека. Эти предания рассказывают о нас самих и влияют на нашу самоидентификацию как личностей и как членов общины. Они отражаются в литургии и обрядах. Прошлые события становятся настоящими с помощью символического воплощения. В большинстве культур предания о творении описывают основные структуры действительности и космический контекст человеческого существования. Другие предания выявляют спасающую силу, способную преодолеть некоторые изъяны и недостатки человеческой жизни, по-разному интерпретируемые как грех, невежество или пристрастия. В качестве силы, способной трансформировать жизнь и восстановить нарушенные взаимоотношения, может выступать как личный спаситель, так и закон191.
Мне представляется, что важнее рассмотреть отдельные религии, нежели религию в целом. Основное внимание я уделю христианской традиции, но приведу ряд примеров и из других традиций. В христианстве существуют три основных предания.
1. Сотворение мира. Первые главы Книги Бытия помещают человеческую жизнь в контекст, придающий ей значение и смысл. Они рисуют мир благим, упорядоченным и понятным. Изображенный в этих главах Бог свободен, трансцендентен и целенаправлен. Все эти богословские утверждения выражены в драматическом повествовании, в основе которого лежит донаучная космология. В главе 8 мы рассмотрим, как интерпретируется это предание в век науки. Мы отметим связь предания о творении с человеческим опытом, богословскими доктринами, обрядовой практикой и этическими действиями. Например, древние псалмы, современные гимны и молитвы постоянно выражают благодарность за сотворенный миропорядок. Мы также увидим, как представления о творении влияют на отношение к природе и к окружающей среде.
2. Завет с Израилем. Повествования об исходе из египетского плена и о заключении завета на Синае не только занимают центральное место в иудаизме, но и в христианстве играют важную роль. Существование общины понимается здесь как отклик Богу – Освободителю и Искупителю, а не только Творцу. Неудивительно, что тема исхода занимает сегодня важное место в богословии освобождения, разрабатываемом угнетенными группами (чернокожими, женщинами, народами третьего мира). Такие обряды как еврейская Пасха и литургии, выражающие благодарность за дарование Торы, лежат в сердце иудаизма, они также оказали большое влияние на христианское богослужение и этику. Хотя большинство современных библеистов считают, что многие детали закона появились в последующие столетия, тем не менее, они прослеживают отличительные черты этического монотеизма и концепцию завета со времен Моисея. Таким образом, эти предания были основаны на исторических событиях, но в Писание вошли лишь после столетий переработки и интерпретации.
3. Жизнь Христа. Наиболее важные для христианства предания повествуют о жизни, учении, смерти и воскресении Христа. Эти повествования, основанные на исторических фактах, подвергшихся неизбежному историческому толкованию, играют основополагающую роль для индивидуальной и общинной самоидентификации. Важнейшие обряды (евхаристия, или Тайная вечеря) и праздники (Рождество и Пасха) прославляют и воплощают наиболее важные части этого предания. Ранние христиане описывали свой опыт освобождения от тревоги и страха смерти и обращения к новой жизни, которая для них была связана с личностью Христа и непрерывной деятельностью Бога как Святого Духа. Продолжением предания является отклик общины на жизнь Христа, описанный в Книге Деяний, письмах Павла и последующей христианской литературе.
У всех основных мировых религий есть свои важнейшие предания. Например, в индуизме предания о творении описывают космический миропорядок как фон человеческой жизни. Самая популярная книга индуизма, Бхагават Гита, представляет собой диалог Арджуны с Кришной (явившимся ему в облике колесничего) накануне битвы. По ходу диалога обсуждаются три основных модели религиозной жизни в индуизме: путь деятельности (выполнение общественного долга и домашних ритуалов, но без чрезмерного рвения), путь познания (медитация в стремлении к единству с всеобъемлющим Брахманом) и путь посвящения (искреннее посвящение себя личному божеству, такому как сострадательный Кришна). В Бхагават Гите можно найти примеры как опыта присутствия (порожденное благоговением видение Арджуной мощи бога Вишну), так и мистического опыта (освобождение от иллюзии самости путем примирения и соединения с Бесконечным, которым пронизаны все вещи). Эти две нити сходятся вместе, когда личное божество, Кришна, оказывается одним из воплощений Брахмана, безличного Абсолюта192.
Таким образом, данными для религии служат характерный опыт, предания и обряды отдельных религиозных общин. Зачастую на ранних стадиях память об изначальном опыте и событиях фиксируется в писаниях, на которые откликаются последующие поколения, добавляя новые пласты опыта и обрядов. Систематические концепции, верования и доктрины разрабатываются и переосмысляются, интерпретируя эти первоначальные религиозные явления.
II. Роль моделей
В этих общих структурах опыта и интерпретации особенно интересной, как в науке, так и в религии, представляется роль моделей.
1.Модели в науке
Мы видели, что в науке нет прямых путей логического анализа, непосредственно ведущих от данных к теории. Теории возникают в результате актов творческого воображения, в которых модели зачастую играют значительную роль. Мы говорим здесь о концептуальных или теоретических моделях, а не об экспериментальных или подобных, которые разрабатываются в лабораториях, и не о логических и математических, представляющих собой абстрактные и чисто формальные соотношения. Теоретические модели обычно принимают форму воображаемых механизмов или процессов, которые постулируются в новых сферах по аналогии с уже известными механизмами или процессами.
В теоретических моделях можно отметить три основных характеристики193:
1. Модели основаны на аналогиях. Ученый, работающий в новой области, может постулировать объект, некоторые свойства которого сходны с уже известными объектами (положительная аналогия), а другие свойства, напротив, отличаются от свойств известных объектов (отрицательная аналогия). Предложенная Бором модель атома, в которой «планетарные» электроны вращаются по орбитам вокруг центрального ядра, напоминает в некоторых динамических характеристиках хорошо знакомую Солнечную систему, однако ее ключевое допущение о возможности лишь определенных орбит (квантование) не имеет классических аналогов. Эта модель способствовала формулировке математических уравнений для теоретических построений (например, уравнения для уровней энергии электронов) и предположила также, каким образом теоретические характеристики объектов, которые невозможно наблюдать непосредственно, могут соотноситься с наблюдаемыми переменными (например, как переход электрона с одной орбиты на другую может быть связан с частотой испускаемого света).
2. Модели влияют на расширение теорий. Некоторые склонны считать модели лишь временной психологической поддержкой, которую можно отбросить, как только сформулированы уравнения теории. Однако при таком подходе упускается тот факт, что часто именно модели, а не теории, применимы к новым явлениям или новым областям. Так, модель бильярдного шара позволила применить кинетическую теорию газов к газовой диффузии, вязкости и теплопроводности. Кроме того, эта модель сыграла решающую роль в усовершенствовании теории. Поведение газов под высоким давлением заметно отличается от закона Бойля. Для их описания можно было применить видоизмененную модель (эластичные сферы конечного объема, связанные силами притяжения), которая отличается от простой бильярдной, но которая никому бы не пришла в голову, если бы не существовала эта модель, более ранняя. Модели, в силу того, что они наводят на размышления и могут видоизменяться, служат непрерывным источником возможного приложения, расширения и усовершенствования теорий.
3. Модели воспринимаются как целое. Модели создают умозрительную картину, единство которой легче понять, чем единство группы абстрактных уравнений. Модель может быть схвачена в целом, как яркое выражение сложных взаимоотношений, полезное для расширения и применения теории, равно как и для обучения теории. Образы, и в естественных, и в гуманитарных науках, служат творческим выражением воображения. Выводы из теории, которая основывается на модели, должны быть тщательно проверены, и порой предложенная модель в результате улучшается или отбрасывается. Модели используются для создания многообещающих теорий, которые должны быть проверены на основании различных критериев, о которых говорилось выше. Квантовая теория, заменившая модель Бора, отбросила механические, да и другие, модели, которые удается зримо представить, в ней можно использовать весьма ограниченно. Тем не менее, две основные модели, волновая и корпускулярная, лежат в основе формул квантовой теории и предлагают способы соотнесения теории и эксперимента. Эти две основные модели невозможно удовлетворительно объединить (корпускулярно-волновой парадокс), несмотря на то, что абстрактная теория способна предложить единый набор уравнений. Исходя из теории, мы можем предсказать лишь вероятность определенного результата измерения в атомном и субатомном мире, но не в состоянии предсказать точный результат. Модели представляют собой не просто временный прием, поскольку они продолжают вносить свой вклад в интерпретацию математических формул, в усовершенствование теории и в ее распространение на новые области.
Некоторые новые характеристики квантовой физики мы рассмотрим позднее. Здесь отметим лишь, что дополнительные модели находят применение, несмотря на то, что с ними связано немало проблем. Бор сформулировал принцип дополнительности, признав, однако, что «полное объяснение одного и того же объекта может потребовать различных точек зрения, которые не поддаются единому описанию»194. Он признавал взаимодействие между субъектом и объектом и важность определенного построения эксперимента. Но Бор указывал и на концептуальные ограничения человеческого понимания. Мы должны выбирать между причинно-следственным и пространственно-временным описанием, между волновой и корпускулярной моделью, между точным знанием импульса и положения. Наши сменяющие друг друга и неполные точки зрения не могут быть связаны в единую сеть.
Такие модели и теории, конечно, нельзя признавать буквальным описанием объектов в мире, как предполагает классический реализм. С другой стороны, инструментализм считает модели и теории лишь вычислительными устройствами, единственная функция которых состоит в том, чтобы позволить нам соотносить и предсказывать результаты наблюдений. Инструментализм рассматривает их как полезные интеллектуальные инструменты для организации исследований и управления миром. Согласно инструменталистам, модели и теории не описывают реальные объекты мира и не имеют к ним отношения.
Я всегда отстаивал промежуточную позицию критического реализма195, представляющего модели и теории абстрактными символическими системами, которые не вполне адекватно и достаточно избирательно описывают отдельные аспекты мира для научных целей. Такая точка зрения поддерживает реалистические устремления ученых, хотя и признает модели и теории воображаемыми человеческими конструкциями. Модели при подобной точке зрения надо рассматривать весьма серьезно, но не буквально. Они не считаются ни точными картинами, ни полезным вымыслом, но позволяют ограниченным и не вполне адекватным способом представить то, что невозможно познать с помощью наблюдения. Мы имеем дело лишь с предварительными онтологическими предположениями, что в мире существуют объекты, сходные с теми, которые постулируют эти модели.
Противники реализма утверждают, что предлагаемые одна за другой научные теории не сближаются друг с другом, не накапливаются и не ведут к прогрессу. Новые теории часто приводят к радикальным переменам в концептуальной структуре, а не к усовершенствованию, сохранению и дополнению прежних концепций. История науки, по их мнению, полна теорий, которые в свое время были успешными и плодотворными, но позднее их полностью отвергли, а не усовершенствовали. Сюда можно отнести птолемееву астрономию, химию флогистона, геологию катастроф, ламаркианскую эволюцию, тепловую теорию и теорию эфира в физике196.
Однако в настоящее время мы наблюдаем возрождение интереса к реализму. В последние несколько лет появилось много книг и статей на эту тему197. Например, некоторые авторы указывают, что новые теории демонстрируют как преемственность, так и разрыв с теми теориями, на смену которым они приходят. Обычно отдельные концепции старой теории и множество данных, собранных для ее подтверждения, вписываются в новый контекст. Иногда законы старой теории, по сути, включаются в новую теорию как частные случаи. Так, законы классической механики остаются частным случаем теории относительности, применимым для низких скоростей, хотя фундаментальные концепции были радикально изменены. Более поздние теории обычно лучше соответствуют эмпирическим данным и распространяются на более широкие области, поэтому, если исходить из перечисленных выше критериев, то вполне можно говорить об определенном прогрессе.
Нам легче поверить в существование теоретического объекта, например, электрона, если он связан с различными типами явлений, поддающихся экспериментальному исследованию. С появлением новой теории ученые начинают считать, что теперь они лучше понимают устройство мира, а не просто обладают более точной формулой для корректировки наблюдений. Теоретические концепции предварительны и поддаются исправлению, однако предполагается, что они описывают мир и соотносятся с ним. Если теория не является истинной хотя бы отчасти, то как мы можем рассчитывать на то, что она может успешно предсказывать абсолютно новые явления, способ наблюдения которых радикально отличается от того, который привел к появлению теории? Короче говоря, наука – это и процесс открытия, и смелое предприятие человеческого воображения.
Основное допущение реализма заключается в том, что существование первично по отношению к теоретизированию. Наши теоретические построения ограничены существующими в природе структурами и взаимоотношениями. Научные открытия зачастую бывают довольно неожиданны. Смирение перед тем, что нам дано, вполне обоснованно, так как мы должны учиться у природы, чтобы устанавливать ограничения для нашего воображения. Хотя история науки не сводится к простому уточнению теорий или «последовательному приближению», тем не менее, известно много хорошо обоснованных теорий и данных, к большинству из которых следует относиться с доверием, даже если определенная их часть может изменяться. Например, есть ли у кого-то сомнения в том, что сегодня мы знаем о человеческом теле больше, чем пятьсот лет назад, несмотря на то, что многого мы еще не знаем, а некоторые нынешние идеи вполне могут быть отброшены в будущем?
Эрнан Макмуллин защищает критически–реалистический взгляд на модели, особенно на те, которые постулируют скрытые структуры. Он считает, что «хорошая модель дает нам понимание реальных структур, и что долговременный успех теории, в большинстве случаев, предоставляет большие основания для уверенности в существовании объектов, по меньшей мере, сходных с теоретическими допущениями данной теории»198. Макмуллин полагает, что хорошая модель – это не просто искусственное временное допущение, а плодотворный открытый источник идей для возможного расширения и изменения. Подобно поэтической метафоре, она дает предварительные предположения для исследования новых областей. По мнению Макмуллина, структурная модель может изменяться с развитием исследования, однако она также демонстрирует преемственность с первоначальной моделью. В качестве примера он приводит модель дрейфа континентов, которая оказалась несовместимой с геологическими данными, но привела к созданию модели литосферных плит, поддержанной недавними свидетельствами, касающимися срединно-океанических хребтов и зон тектонической активности.
Большинство ученых – неисправимые реалисты, однако их представления о статусе моделей и теоретических объектов отличаются в различных областях и в разные исторические периоды. Модели большего масштаба и более знакомые виды структур обычно рассматривают с более реалистических позиций. Геолог вряд ли будет сомневаться в существовании литосферных плит или доисторических динозавров, хотя ни те, ни другие нельзя наблюдать непосредственно. В 1866 г. Мендель постулировал гипотетические «единицы передачи наследственной информации», которые позднее были отождествлены с генами, входящими в хромосомы, а затем – с длинными сегментами ДНК. При отходе от знакомых объектов, инструменты значительно расширяют наши возможности прямых и косвенных наблюдений.
Когда мы обращаемся к субатомному миру, то увидеть, что там происходит, мы уже не в состоянии. Поведение кварков непохоже ни на какие известные нам процессы, а их квантовые числа (условно называемые странностью, очарованием, верхом, низом и цветом) определяют абстрактные правила, по которым они сочетаются и взаимодействуют. Но даже здесь, как я покажу далее, наши теории являются попыткой представить действительность, несмотря на то, что микромир не похож на повседневный мир, а обычный язык не подходит для его описания.
2. Модели в религии
Религиозные модели, как сказано выше, ведут к вере, которая соотносится с человеческим опытом. В частности, модели божественного крайне важны для интерпретации религиозного опыта. Они представляют в образной форме те характеристики и взаимоотношения, о которых повествуют предания. Однако модели в меньшей степени поддаются понятийному выражению и систематическому развитию, чем те религиозные представления и доктрины, которые выражаются в виде утверждений, а не повествований или образов.
Религиозные модели, подобно научным, создаются по принципу аналогии. Религиозный язык часто использует образные метафоры, символы и притчи, с помощью которых выражаются аналогии. Те аналогии, которые наиболее часто используются и поддаются систематическому развитию, отражаются в моделях, например, в модели Бога как Отца. Религиозные модели тоже поддаются расширению. Модель, берущая свое начало в религиозном опыте и ключевых исторических событиях, распространяется и на другие сферы личного и общинного опыта, и в процессе этого распространения может видоизменяться. Религиозные модели, как и научные, унитарны: они воспринимаются во всей целостности, ярко и непосредственно199.
Как и в случае науки, я защищаю критический реализм, который воспринимает религиозные модели весьма серьезно, но не буквально. Они не являются ни буквальным описанием действительности, ни просто полезным вымыслом, но созданными человеком конструкциями, которые помогают нам интерпретировать опыт, не поддающийся наблюдению, с помощью воображения. Библейская заповедь не высекать образы и не делать «никакого изображения» (Исх.20:4) объясняется, с одной стороны, отрицанием идолопоклонства, а с другой – признанием того, что Бог не может найти адекватного выражения в визуальных образах. Чувство благоговения и тайны, связанное с опытом восприятия божественного, также предохраняет от буквализма. Однако мы не должны впадать и в противоположную крайность и считать религиозные модели лишь вымыслом, который полезен с психологической точки зрения и единственная задача которого – выражение определенного этического отношения, как полагают некоторые инструменталисты200.
Жанет Соскис защищает критический реализм и в науке, и в религии. В обоих случаях, по ее мнению, мы имеем дело с первоначальным опытом и событиями, на основании которых модель была впервые введена, и с последующей языковой общиной и традицией интерпретации, которые увековечивают ее. «Таким образом, религиозная литература записывает предшествовавший опыт и создает язык для описания и интерпретации нового опыта»201. Определенные модели получают особое значение, если они проливают свет на сходный опыт в более поздней истории общины. Модели, опирающиеся на опыт многих поколений, увековечиваются в религиозной литературе и используются в литургии и обрядах.
Соскис также указывает, что преемственность языковой общины гарантирует преемственность отношения как к научным, так и к религиозным моделям (например, к «электронам» или к «Богу»), несмотря на то, что описательная терминология изменяется с течением времени. Нарисованная ею картина взаимодействия опыта и интерпретирующей языковой традиции представляется мне весьма поучительной. Однако я полагаю, что наше отношение к языку религии должно основываться на современной оценке по вышеописанным критериям, а не на языковой преемственности. Ведь, например, в астрологии на протяжении нескольких тысяч лет существовала непрерывная традиция интерпретации, но я не считаю, что из этого вытекает истинность выводимой астрологией связи между планетами и человеческой жизнью. Задача богословов состоит не только в передаче традиции, но также в анализе и выработке новых формулировок.
Фрэнк Браун затрагивает ряд вопросов о соотношении между метафорической и концептуальной сторонами богословского размышления, которые связаны с проблемой моделей202. Отправным пунктом его рассуждений служит важная роль метафор в писаниях. Должны ли богословы превращать эти метафоры в концепции и доктрины, которые можно систематизировать и анализировать? Нет, отвечает Браун, поскольку концепция не может исчерпывающе выразить метафору. Метафоры допускают различное толкование и зависят от контекста. Кроме того, ценность метафор всегда состоит в том, что они позволяют по-новому описывать наш опыт и изменяют нашу личную жизнь. Концепции абстрактны, тогда как метафорические символы основаны на богатом опыте и поэтому занимают центральное положение в обрядах и богослужении. Браун заключает, что мы должны совмещать и метафорическое, и концептуальное направления мысли. Я думаю, что модели могут помочь в таком диалектическом подходе, поскольку они лучше развиты, чем метафоры, но, в то же время, менее абстрактны, чем концепции.
Однако у религиозных моделей есть ряд функций, которых нет у научных моделей. В первую очередь, они выражают определенное отношение. Мы уже сказали, что религия представляет собой образ жизни, преследующий как практические, так и теоретические цели. Нельзя также не принимать во внимание жизненную и эмоциональную силу религиозных моделей и их способность вызывать сильную веру. Модели имеют решающее значение для изменения и переориентации личности, к которым стремится большинство религиозных традиций. Некоторые сторонники лингвистического анализа и инструментализма считают, что религиозный язык наделен лишь этими, непознавательными функциями. Однако я полагаю, что такие непознавательные функции обязательно предполагают и познавательную веру. Религиозные традиции, действительно, поддерживают определенное отношение к жизни и определенный образ жизни, но они претендуют и на объяснение действительности203.
В науке модели всегда занимают подчиненное положение по отношению к теориям. В религии, однако, модели столь же важны, сколь и концептуальная вера, отчасти, из-за их тесной связи с преданиями, играющими большую роль в религиозной жизни. Христианское богослужение основано на этих преданиях, посвященных творению, завету, и, особенно, жизни Христа. Человек принимает участие в общинном обряде и литургии, которые воплощают отдельные части преданий. Повествования носят более личный характер и воскрешают в памяти предания в более драматической форме, чем относительно статичные модели, которые, однако, менее абстрактны, чем концепции. Кроме того, библейские предания зачастую могут соотноситься с нашими собственными жизненными историями, которые тоже носят повествовательную форму. Тем не менее, движение от предания к моделям, концепциям и вере – необходимая часть богословской задачи критического размышления.
3. Личные и безличные модели
Атомный и субатомный мир не может быть объектом непосредственного наблюдения, и его поведение показывает, что он сильно отличается от мира повседневных объектов. Мы видели, что его невозможно представить в виде единой модели, однако отчасти удается понять с помощью теорий, сформулированных вместе с дополнительными моделями, такими как волны и частицы. В религии мы тоже имеем дело с реальностью, которая не может быть объектом непосредственного наблюдения, и которую мы не способны представить. Здесь мы также можем допустить наши концептуальные ограничения и признать роль дополнительных моделей.
Ниниан Смарт прослеживает во всех мировых религиях две основные формы религиозного опыта, описанных в предыдущем разделе: встреча с божественным и мистическое единство. Классическим описанием первой из этих форм служит идея святого, сформулированная Рудольфом Отто (Otto). Она характеризуется чувством благоговения и почтения, тайны и удивления, святости и сакральности. Типичными примерами служат видение Исаии в Храме, призвание Павла и Мухаммеда или явление Кришны Арджуне в «Бхагават Гите». Отклик человека на опыт переживания божественного проявляется в богослужении, смирении и повиновении204.
Смарт показывает, что опыт переживания божественного обычно интерпретируется в личных моделях. Верующие считают, что Бог инаков и отделен от них. Подавляющий характер опыта предполагает восторженное отношение к божественному и особую роль трансцендентности, связанные с самоуничижением человека и признанием людьми ограниченности бытия и греховности. Чувство неожиданной охваченности и удерживания представляется свидетельством божественной инициативы, не зависящей от человека. Бездна, лежащая между Богом и человечеством, может показаться столь огромной, что преодолеть ее способно лишь откровение со стороны Бога или божественный спаситель. Уинстон Кинг говорит о «разрыве между поклоняющимся человеком и предметом поклонения». Это выражается в обрядовой символизации персоналистического теизма, такой как жертвоприношение, молитва, литургия и религиозная практика205.
Вторая форма опыта – мистическое единство, которое явно имеет общие черты в различных культурах, несмотря на их многообразие. Среди них, как мы уже видели, следует отметить интенсивность, непосредственность, целостное сознание, неожиданность, радость и безмятежность. Реализация этого единения может привести к освобождению от эгоцентризма. Все виды дуализма (человеческое/божественное, субъект/объект, время/вечность) преодолеваются посредством отождествления с Единым, превосходящим время и пространство. Мистицизм выражается более в медитации, созерцании, внутреннем поиске просветления, нежели в общинном богослужении и обрядах.
Мистики с осторожностью пользуются моделями и считают, что объект опыта не поддается описанию. Утверждения от противного говорят лишь о том, что не является божественным. Тем не менее, в работах мистиков аналогии и модели употребляются достаточно часто. Порой союз с божеством уподобляется наиболее тесному союзу между двумя возлюбленными. В других случаях высшая реальность мыслится как Личность, по сути тождественная индивидуальной личности, или как мировая Душа, с которой сливается наша собственная душа. Но чаще для интерпретации мистического опыта используются безличные модели. Личность поглощается пантеистическим Всеобщим, безличным Абсолютом или божественным Основанием. Различие между субъектом и объектом преодолевается всеобъемлющим единством, охватывающим все личные формы. Человек теряет свою индивидуальность подобно тому, «как капля дождя теряет свою индивидуальность в океане».
Смарт полагает, что, хотя для западной традиции характерен личный опыт постижения божественного, а для восточной – мистический, – тем не менее, все мировые религии включают в себя обе формы опыта и оба вида моделей206. И в иудаизме, и в христианстве, и в исламе можно найти влиятельные произведения мистического направления, наряду с более привычными образцами личного поклонения. В этих произведениях разрыв между Богом и человечеством сужается, однако дело никогда не доходит до полного отождествления. Ранний буддизм придерживался мистической медитативной практики, однако в буддизме махаяны присутствуют и течения, практикующие личное поклонение вечному Будде и бодхисаттвам (особенно это свойственно буддизму амида). В индуизме путь посвящения личным божествам (бхакти) сочетается с путем медитации, познанием единого и безличного Абсолюта (джияна). Рамануджа развивает личную сторону индуизма, тогда как Шанкара – безличную. Нынешние последователи пути джияна считают, что их взгляды можно скорее назвать недуалистическими, нежели монистическими, поскольку предельную реальность невозможно описать в положительных терминах.
Мне представляется, что о личных и безличных религиозных моделях надо говорить как о дополнительных. Сами последователи личных моделей зачастую первыми признают, что эти модели не вполне адекватны, и что Бог – это не личность в буквальном смысле слова. Иногда они проповедуют, что Бог – это не только личность, и часто используют безличную терминологию (божественное Основание, творческая сила и так далее). А те, кто опирается преимущественно на безличную модель, нередко говорят о любви и благодати, или полагают, что познание безличного Абсолюта происходит через посвящение его личным проявлениям. Любая модель лишь отчасти и в недостаточной мере представляет то, что лежит за рамками обычных категорий мысли. Религиозные модели зачастую – лишь аналогии взаимоотношений, а не определение божественного как такового. Кроме того, некоторые люди по своему характеру могут быть ближе к одним формам опыта и видам моделей, а остальные – к другим.
Относительный приоритет личных или безличных моделей, разумеется, имеет определенное значение. Только личному Богу может принадлежать решающая божественная инициатива. Онтологическое и эпистемологическое расстояние между божественным и человеческим соотносится с идеями исторического откровения благодати и искупления. Западные традиции оставляют больше места для человеческой индивидуальности (которая в своих крайних проявлениях превращается в индивидуализм) и общественной активности, тогда как свойственные восточным традициям поиски внутреннего мира чаще ведут к квиетизму, хотя нередко сопровождаются образцовым состраданием и уважением ко всем формам жизни.
Поскольку модель функционирует в единой сети идей и отношений, я не думаю, что индуистский Брахман, христианский Бог и другие модели, принадлежащие различным религиозным традициям, должны рассматриваться как дополнительные. Однако применение личных и безличных моделей в рамках одной религиозной традиции мы могли бы считать дополнительным, аналогично использованию волновой и корпускулярной моделей в квантовой физике. Более того, признание многообразия моделей в нашей собственной традиции поможет нам оценить модели других традиций, которые могут быть важным вкладом в мир религиозного плюрализма. Дополнительность позволит нам не считать модели ни буквальными картинами, ни просто полезными вымыслами, но способом частичного символического представления того, что не может быть объектом непосредственного наблюдения.
4. Христианские модели
Богословские работы Салли Макфаг представляют собой хороший пример исследования роли моделей в христианской мысли. В книге «Метафорическое богословие» она отталкивается от идей Поля Рикёра (Ricoeur) о значении метафоры в религиозном языке. Метафора утверждает сходство, но отрицает тождественность. Один элемент метафоры одновременно «и похож, и не похож» на другой. Признание ограниченности религиозного языка предохраняет от идолопоклонства перед какой-то одной формулировкой, тогда как буквализм всегда ведет к подобному искушению207.
Затем Макфаг обсуждает модели в науке и религии, в значительной мере опираясь на мои более ранние работы на эту тему. Она рассматривает модель как систематическую и относительно непрерывную метафору. Модель более эмоциональна и менее абстрактна, чем концепция, но в то же время она точнее метафоры. Религиозные модели опираются на человеческий опыт, в первую очередь, на опыт исцеления, обновления и переориентации образа жизни. Модели организуют наш опыт, а их допущения систематически развиваются в доктринах. В то время как Рикёр считает, что цель богословской интерпретации – возвращение к нашему опыту, Макфаг уделяет больше внимания прояснению понятий и всеобъемлющему упорядочиванию. В противоположность, с одной стороны, наивному реализму, а с другой стороны, инструментализму, она отстаивает критический реализм как в науке, так и в религии. Модели имеют предварительный и частичный характер, они открыты для дальнейшего обсуждения и зависят от соответствующих парадигм. Господствующие парадигмы той или иной традиции устанавливают ограничения для приемлемых моделей.
Макфаг отстаивает использование разнообразных моделей в рамках группы парадигм – более разнообразных, чем принято в науке. Такое разнообразие защищает от искушения идолопоклонства, абсолютизации и буквализма, которое появляется при господстве единственной модели. Многообразие уместно и потому, что как в науке, так и в религии мы моделируем взаимоотношения, образцы и процессы, а не отдельные объекты или «вещи в себе». Религиозные модели – аналогии нашего опыта отношений с Богом, формы которого многообразны и не исключают одна другую. Бог может относиться к нам и по–отцовски, и по–матерински, и многими другими способами.
В своей более поздней книге, «Модели Бога», Макфаг обсуждает критерии оценки христианских моделей. Она отмечает наиболее общие критерии, такие как всесторонность, внутренняя связность, способность принимать во внимание аномалии. Другим критерием служит преемственность с более ранними способами выражения христианской парадигмы. Значение Писания состоит в том, что оно является самым ранним свидетельством трансформирующей силы Бога и самой ранней интерпретацией трансформирующих событий жизни и смерти Христа. Дополнительный критерий для Макфаг – плодотворность моделей с нравственной точки зрения, и, кроме того, она уделяет особое внимание тому, насколько эти модели полезны в обстановке кризиса в «экологический и ядерный век»208. Обращаясь к конкретным моделям, Макфаг критикует монархическую модель, которая на протяжении истории занимала господствующие позиции. Бог как Царь или Правитель взаимодействует с миром извне, а не изнутри. Бог в этой модели управляет посредством господства, воздействуя на мир, а не через него, что подрывает человеческую ответственность. Первая предлагаемая Макфаг альтернатива состоит в том, чтобы относиться к миру как к телу Божьему. Однако это приводит к противоположной крайности, так как придает слишком большое значение имманентности за счет трансцендентности, и предполагает, что язык научных законов и язык божественных намерений могут быть альтернативными способами при описании космической истории.
Во второй части своей книги Макфаг детально исследует три личных модели: Бога как Матери, Возлюбленного и Друга. Каждая из них считает, что сила Бога заключена не в господстве, а в определенных формах любви, которые традиционно описываются как агапе, эрос и филия соответственно. Эти три модели по отдельности выражают деятельность Бога как Творца, Спасителя и Опоры, а все вместе они проливают свет на многие темы традиционного богословия. Так, модель Бога как Матери может быть выведена из опыта рождения и воспитания человека и предполагает заботу и справедливость. Забота матери о нынешней и будущей жизни может быть расширена до «всеобщего материнства», которое подразумевает не только заботу о нынешних и будущих человеческих поколениях, но и о жизни других видов.
Сходным образом, модель Бога как Друга подразумевает взаимные узы и общее видение, требующее от нас содействия. Бог страдает и действует вместе с нами, чтобы расширить всеохватное, холистическое и неиерархическое видение исполнения предназначения всех существ. Я признаю, что эти модели очень полезны для понимания соотношения Бога с человечеством и человечества с природой, однако они играют не столь большую роль для понимания соотношения Бога с природой. Макфаг отмечает, что по нескольким пунктам она согласна с богословием процесса, однако не уделяет внимания способам, с помощью которых метафизика процесса может способствовать концептуальному выражению взаимоотношений, предполагаемых моделями. Мы рассмотрим эти и другие отличительные модели христианства в главе 12.
III. Роль парадигм
Кроме параллелей в структуре научного и религиозного исследования и в роли воображаемых моделей, существует несколько интересных сходных черт в том, что касается роли парадигм в двух этих областях. Существуют, конечно, и важные отличия, на которых также необходимо остановиться. Мы рассмотрим по очереди парадигмы в науке, в религии в целом и, затем, в христианской мысли.
1. Парадигмы в науке
Томас Кун определяет парадигмы как «стандартные примеры научной работы, воплощающие некоторую группу понятийных и методологических допущений». В послесловии ко второму изданию своей книги он разграничивает несколько особенностей, которые раньше рассматривал совместно: исследовательскую традицию, ключевые исторические примеры, посредством которых она передается, и метафизические допущения, подразумеваемые фундаментальными понятиями этой традиции. Ключевые примеры, такие как работы Ньютона по механике, неявно определяют для последующих поколений ученых, какого рода объяснения необходимо искать. Они предполагают, какие объекты существуют в мире, какие методы исследования пригодны для их изучения, и какого рода данные для этого необходимы. Парадигмы снабжают ученых структурой того, что можно назвать «нормальной наукой». Научное образование состоит в обучении тем приемам мысли, которые приняты в стандартных текстах, и методам, которые применяли авторитетные ученые.
Кун считает, что наиболее значительные смены парадигмы представляют собой научные революции. Рост числа аномалий и специальных усовершенствований существующей парадигмы приводит к ощущению кризиса. Вместо простого накопления дальнейших данных или усовершенствования теорий в рамках существующей структуры, некоторые ученые начинают искать новую структуру, которая может поставить под сомнение фундаментальные положения. В рамках новой парадигмы могут приниматься во внимание новые виды данных, а старые – переосмысляться и рассматриваться по-новому. Кун утверждает, что обычных исследовательских критериев недостаточно для выбора между новым и старым. Приверженцы соперничающих парадигм пытаются убедить друг друга. «Вы можете надеяться убедить другого рассматривать науку и ее проблемы с вашей точки зрения, однако не можете надеяться ее доказать»209. Кун подробно анализирует несколько исторических «революций». Например, он описывает радикальную смену понятий и допущений, которая произошла, когда квантовая физика и теория относительности пришли на смену классической физике. Особый интерес представляют собой три момента, которые отмечает Кун210.
1. Все данные обусловлены парадигмой. Мы уже говорили, что не существует языка наблюдений, независимого от теоретических допущений. Все данные обусловлены теориями, а теории – парадигмами. Те характеристики мира, которые для одной парадигмы имеют большое значение, для другой могут быть случайны. Вначале Кун полагал, что парадигмы «несоизмеримы», то есть, что их невозможно непосредственно сравнивать между собой. Однако в более поздних работах он признал, что обычно существует некое ядро эмпирических положений, относительно которого сторонники соперничающих парадигм могут прийти к согласию, и некий уровень описания, который они могут разделить. Эти общие данные не свободны от теоретической нагрузки, однако некоторые положения могут разделять даже приверженцы соперничающих парадигм. Если бы данные полностью зависели от парадигм, то они не имели бы отношения к выбору парадигм, что не соответствует истории.
2. Парадигмы сопротивляются опровержению. Всеобъемлющие теории и еще более широкие парадигмы, в которые они входят, очень сложно опровергнуть. Как мы уже видели, противоречивые данные обычно можно согласовать друг с другом, вводя усовершенствованные вспомогательные допущения или специальные гипотезы на данный случай; если это не удается, их надо просто отложить в сторону как необъяснимые аномалии. Противоречивые свидетельства сами по себе не отрицают парадигму, смена парадигмы происходит лишь при наличии более перспективной альтернативы. Если теории или парадигмы не согласуются со всеми имеющимися данными, исследования все равно следует продолжать. Однако при отсутствии парадигмы систематические исследования немыслимы. Верность исследовательской традиции, упорное развитие ее потенциальных возможностей и расширение ее рамок плодотворны с научной точки зрения. Однако наблюдения, действительно, служат проверкой парадигм, и поэтому накопление специальных гипотез и необъяснимых аномалий может подорвать уверенность в них. Без постоянной заботы о точности данных наука становится произвольной и субъективной человеческой конструкцией.
3. Не существует правил для выбора парадигмы. Революционная смена парадигмы достигается, скорее, «убеждением» и «обращением», а не логическими доказательствами. Кун вначале настаивал на том, что сами критерии выбора зависят от парадигмы. Отвечая своим критикам, он говорил, что решение выбрать определенную парадигму не является произвольным или иррациональным, поскольку оно объясняется некоторыми основаниями. Он признает существование ценностей, общих для всех ученых, а также общих критериев простоты, согласованности и доказательности, однако считает, что способ приложения этих критериев и их относительный вес зависит от личной оценки, а не от общих правил. Этот выбор можно скорее сравнить с принятием судебного решения по сложному делу, а не с компьютерным расчетом. Высший суд здесь – оценка, которую делает сама научная общественность. Наличие общих ценностей и критериев облегчает общение и способствует постепенному складыванию научного консенсуса211. Таким образом Кун ограничивает свои наиболее крайние утверждения.
В последние десятилетия мы стали свидетелями появления того, что Гарольд Браун назвал «новой философией науки». Браун рассматривает движение от эмпиризма к более историчному взгляду на науку сменой парадигмы в философии науки. Он отмечает вклад Тулмина, Поляни и Куна в становление этого нового взгляда, который способствовал увеличению интереса к истории науки. Браун заключает:
Наш основной постулат состоит в том, что именно текущие исследования, а не установленные результаты, составляют живую кровь науки. Наука складывается из исследовательских проектов, структурированных принятыми предположениями о том, какого рода наблюдения необходимо произвести, как их следует интерпретировать, какие явления надо считать проблематичными и как решать эти проблемы212.
Браун приводит примеры «нормальной науки», работающей в рамках принятых структур, а также описывает несколько научных революций, в ходе которых принимались альтернативные предположения и происходили «кардинальные перемены наших представлений о действительности». Однако он утверждает, что эти революции демонстрировали не только перемены, но и преемственность:
В большинстве случаев сохраняются и прежние концепции, хотя и в измененной форме, и прежние наблюдения, хотя они и наполняются новым значением. Преемственность создает основу для рационального выбора между альтернативными фундаментальными теориями.... Таким образом, тезис о том, что научная революция требует всеобъемлющей реструктуризации опыта, вполне совместим с непрерывностью научной традиции и с рациональностью научных споров213.
Браун принимает обвинение, что этот новый взгляд представляет науку субъективной, иррациональной и исторически относительной. Действительно, наука не отвечает ни определению объективности, которое дают сторонники эмпиризма, так как она не опирается на строгие эмпирические доказательства, ни даваемому ими определению рациональности как применения безличных правил. Тем не менее, наука соответствует более умеренным определениям объективности и рациональности. Объективностью следует считать возможность проверки, не основанной на одном субъективном мнении, и квалифицированную оценку со стороны ученых. Рациональность же, в частности, состоит в том, чтобы принимать новую парадигму, если она может решить важные проблемы и способствовать дальнейшим исследованиям. Браун полагает, что «важнейшие решения, например, как уладить конфликт между теорией и наблюдением, или как следует оценивать новую теорию, должны приниматься не на основании механических правил, но на основании разумных суждений ученых и обсуждения научной общественностью»214.
Наши выводы относительно научных парадигм можно обобщить в трех утверждениях. В первой половине каждого из них содержатся субъективные и исторически относительные черты науки, которыми пренебрегали сторонники эмпиризма. Во второй половине каждого утверждения перечисляются новые формулировки объективных, эмпирических и рациональных черт науки, благодаря которым ее нельзя считать произвольной и чисто субъективной:
1. Все данные обусловлены парадигмой, однако существуют данные, относительно которых сторонники соперничающих парадигм могут прийти к согласию.
2. Парадигмы сопротивляются опровержению посредством данных, однако, совокупность их влияет на принятие парадигмы.
3. Не существует правил для выбора парадигмы, однако существуют общие критерии их оценки.
Таким образом, по сравнению со сторонниками эмпиризма, Кун отводит более значительную роль историческим и культурным факторам. Он утверждает, что оценка теории должна производиться в сравнении с другими теориями, и при этом необходимо принимать во внимание, на каких допущениях она основана и насколько успешно она решает проблемы в данном историческом контексте. В отличие от предшествовавших формалистов, Кун – сторонник контекстуального подхода, но я не думаю, что это делает его субъективистом или безоговорочным релятивистом, поскольку, с его точки зрения, данные, действительно, создают эмпирические ограничения, а наличие общих критериев представляет оправданную форму рациональности.
2. Парадигмы в религии
Как и в науке, в религии существуют совокупности метафизических и методологических допущений, которые мы называем парадигмами. Как и в науке, традиции в религии передаются в рамках определенных общин, в первую очередь, с помощью почитаемых исторических текстов и ключевых примеров. Люди, присоединяющиеся к той или иной традиции, проходят ознакомление с допущениями и практикой данной общины, и обычно действуют в рамках принятой в ней структуры мысли, которую можно назвать «нормальной религией», что соотносимо с «нормальной наукой».
Как и в науке, при глобальных исторических «революциях» и при выборе между соперничающими парадигмами сложно применять нормальные критерии. Давайте рассмотрим вначале, как соотносится выбор парадигм с религиозным опытом, а затем обратимся к роли предания и обряда, а также их передачи через писания. В случае религии еще яснее видны три вышеназванные субъективные и исторически относительные черты научных парадигм. Однако три соответствующие объективные, эмпирические и рациональные черты религии более проблематичны.
1. Религиозный опыт обусловлен парадигмой. Но существуют ли некоторые виды опыта, общего для сторонников соперничающих парадигм? Религиозный опыт кажется настолько четко обусловленным той формой интерпретации, которой придерживается верующий, что скептики вполне могут считать опыт исключительно продуктом предшествовавших ожиданий. Религиозный опыт не столь доступен, как научные данные, хотя и то, и другое несет теоретическую нагрузку. Однако в каждой религиозной общине есть общие черты опыта, которые ограничивают субъективность индивидуальных верований. Кроме того, по-видимому, действительно существуют некоторые особенности религиозного опыта в различных традициях, которые выходят за рамки культурного релятивизма и делают возможным общение между традициями.
2. Религиозные парадигмы очень сопротивляются опровержениям. Но может ли вообще совокупный опыт влиять на выбор парадигмы? Противоречия в данных, как мы уже сказали, не обязательно ведут к отбрасыванию парадигмы. Вместо этого вводятся специальные поправки, или же эти данные расцениваются как аномалии и откладываются в сторону. Тем не менее, люди могут в свете своего опыта постепенно усовершенствовать или отбрасывать даже наиболее фундаментальные религиозные представления, особенно, если они видят многообещающую альтернативную схему интерпретации.
3. В религии не существует правил для выбора парадигмы. Но есть ли общие критерии оценки религиозных парадигм? Выше мы предложили некоторые критерии оценки религиозных верований в рамках господствующей парадигмы. Применимы ли они к выбору между парадигмами? Или сами эти критерии тоже целиком зависят от парадигмы? Я полагаю, что, действительно, существуют критерии, выходящие за рамки общин сторонников определенной парадигмы, хотя применение этих критериев зависит от индивидуальной оценки в значительно большей степени, чем в науке.
Фредерик Стренг утверждает, что понятие парадигм приложимо к христианству, но не к буддизму. Он считает, что в центре любой религиозной традиции лежит опыт личного изменения и переориентации. Религия, кроме всего прочего, служит «жизненной стратегией». Религиозное обращение является сменой убеждений и образа жизни. Стренг уверен, что разговор о парадигмах позволяет нам рассматривать религиозные системы и доктрины, которые играют очень большую роль в христианстве, тогда как буддизм больше заботится о трансформации сознания в сторону менее эгоцентрических убеждений и придает меньшее значение доктринальному выражению и изменчивым интеллектуальным формам. Он использует различные виды духовной практики для достижения просветления сознания и освобождения от привязанностей, которые приводят к нашим страданиям215. Я мог бы ответить, что буддизм включает и систему характерных концепций и верований, в том числе, учение о нереальности «я», подразумевающее не только экзистенциальные выводы, но и онтологические утверждения. Кроме того, как в буддийской мысли, так и в практике, имели место серьезные исторические перемены, например, появление махаяны из буддизма тхеравады. Несмотря на то, что буддизм не очень привязан к доктринальным формам, он, тем не менее, не отбрасывает их совсем.
3. Парадигмы в христианстве
Ганс Кюнг применил концепцию смены парадигм к истории христианской мысли. Он перечисляет пять основных исторических парадигм: греко-александрийскую, римско-августинову, средневековую томистическую, реформационную и современную критическую. Каждая из этих парадигм формирует структуру для нормальной работы и накопительного развития (сравнимую с «нормальной наукой»), которая расширяет возможности парадигмы и сопротивляется существенным изменениям. Кюнг показывает, что, как и в случае науки, новые парадигмы возникают в периоды кризиса и неуверенности, и приводит в качестве примеров появление гностицизма в эллинистическом мире или развитие науки и библейской критики в современный период. В каждом случае обращение к новой парадигме происходило под влиянием как рациональных аргументов, так и субъективных факторов и личностных решений. Эти смены парадигм характеризовались как непрерывностью, так и разрывами216.
Кюнг рассматривает некоторые отличительные особенности смены парадигм в христианской мысли, сравнивая их с теми, которые происходят в науке. Центральное положение библейских свидетельств о Христе не находит параллелей в науке. В качестве нормы рассматривается «библейская весть», а не само Писание. Новые парадигмы возникают не только в результате институциональных кризисов и внешних вызовов, но и благодаря свежему переживанию изначальной вести. Поэтому «благая весть» порождает и преемственность, и изменения. Кроме того, в решении веры всегда присутствует и личное измерение, наряду с более интеллектуальной задачей – показать, что новая парадигма одновременно отвечает на христианскую весть и соотносится с современным опытом и уровнем знаний. Кюнг отмечает, что мы можем признавать отличительные черты религии, но вместе с тем и осознавать пользу ее сравнения с наукой для понимания процессов перемен в истории религиозной традиции. Сходным образом, Стефан Пфюртнер показывает, сколь плодотворно считать новой парадигмой лютерову идею оправдания верой, которая привела к реконструкции предшествовавших верований и к новой интерпретации более ранних данных в рамках новой структуры мысли217.
Теперь я хочу задать вопрос: насколько велика община сторонников парадигмы, и как определить ее границы? Как отличить эволюционные изменения в рамках парадигмы от революционной смены парадигм? В ранних работах Томаса Куна термин научная революция применялся к редким примерам всеобъемлющего изменения целой совокупности допущений и концепций. Его критики полагали, что он проводит слишком резкую границу между нормальной наукой и революционной наукой, оставляя в стороне перемены среднего масштаба. В своих более поздних работах Кун говорит о более скромных «микрореволюциях», полагая, что община сторонников парадигмы может ограничиваться и двадцатью пятью представителями одной субдисциплины.
В религии тоже существуют и общины, и субобщины, происходят и большие, и малые исторические перемены. Я считаю, что концепция смены парадигмы наиболее плодотворна для понимания исторических перемен, если мы будем обозначать данным термином относительно редкие всеобъемлющие концептуальные перемены. Несомненно, такой сменой парадигмы было появление раннего христианства из иудаизма, ибо, несмотря на преемственность, в вере и религиозной практике произошли резкие изменения. Ко времени написания писем Павла стало очевидно, что христианство не может быть сектой в рамках иудаизма или движением за реформирование иудаизма, и люди должны выбирать между двумя парадигмами, одна из которых сосредоточивает основное внимание на Иисусе, а другая – на Торе. Разрывы, сопровождавшие протестантскую Реформацию, были, быть может, не столь радикальны, но и здесь и в доктрине, и в практике, и в институциональной организации, имели место весьма значительные перемены.
Можно ли признавать все христианство единой парадигмой и толковать о «христианской парадигме»? В таком случае о «смене парадигмы» можно было бы говорить и тогда, когда речь идет об обращении отдельного человека к иной религиозной традиции (или к атеизму) и его присоединении к общине сторонников другой парадигмы. Здесь параллели с наукой были бы натянуты, так как количество данных и критериев, которые были бы общими для разных традиций, и к которым можно было бы обращаться за аргументами при выборе между ними, представляется весьма незначительным. Должны ли мы искать в наш глобальный век эти общие данные и критерии, или оценка верований может производиться лишь в рамках строго определенной религиозной традиции? В следующей главе мы вернемся к проблеме религиозного плюрализма.
IV. Сомнение и определенность
Согласно популярным стереотипам, научные теории представляют собой пробные гипотезы, которые постоянно подвергаются критике и пересматриваются, тогда как религиозные верования есть неизменные догмы, которые верующие принимают без вопросов. Ученый при такой точке зрения выглядит непредвзятым, в отличие от богослова. Разве вера – не вопрос безусловной верности? Разве христианские верования не восходят к божественному откровению, а не к человеческим открытиям? Не упустили ли мы из виду отличительные черты религии, проводя ограниченные параллели с наукой?
1. Традиция и критика
Давайте сначала ответим на вопрос: как научная и религиозная общины уравновешивают, с одной стороны, важность традиции, а с другой – ценность критики и перемен? Что имеет большее значение при глобальных исторических переменах – преемственность или разрывы?
В отличие от Поппера, который отождествляет рациональность и объективность в науке с приверженностью определенным правилам, Кун признает носителем авторитета саму научную общину. Решения принимаются на основании квалифицированного суждения общины, базирующегося на общих ценностях и критериях, оценками приложение которых, однако, не управляются логикой или правилами. Кун полагает, что авторитетная традиция, передаваемая посредством господствующей парадигмы, создает структуру для мысли и деятельности в «нормальной науке». При таком историческом и социальном взгляде на исследовательский процесс особое внимание уделяется роли общины218.
Как не существует частной науки, так не существует и частной религии. В обоих случаях человек присоединяется к определенной общине и принимает ее образ мысли и действия. Даже предающийся созерцанию мистик находится под влиянием традиции, в которой он живет. Парадигмы в религии, как и в науке, создаются путем примера и практики, а не в результате следования формальным правилам. Прозрения отдельных людей проверяются не только в собственной жизни, но и на основании опыта других. Здесь также исторический и социальный контексты влияют на все образы мысли и действия.
Кун изображает нормальную науку консервативной и контролируемой традицией. Работа в рамках преобладающей парадигмы – это эффективный путь решения определенных проблем, которые в ней возникают. Исследование ее возможностей и расширение ее области дает фокус для исследования. Внутри такой традиции личность получает пользу от работы других, что ведет к накопительному прогрессу. Согласно Куну, смены парадигм относительно редки и происходят лишь тогда, когда накопление аномалий приводит к настоящему кризису. Нельзя говорить о прогрессе при смене парадигм – Кун использует политическую метафору революции, которая подчеркивает разрыв и переворот установленного порядка.
Критики Куна отвечали, что даже в научных революциях сохраняются прежние данные (хотя они и подвергаются новому толкованию), а новые концепции и теории соотносятся со старыми (хотя и вытесняют их). Кроме того, общие ценности и критерии оценки сохраняются, несмотря на перемены. Большинство ученых знакомо с другими научными дисциплинами и сферами, что обеспечивает преемственность, когда их собственная область специализации претерпевает изменения. Ученый верен более широкой научной общине и ее ценностям, что превосходит верность определенной парадигме. Критики Куна считают науку эволюционной и подверженной непрерывному преобразованию, а не привязанной к традиции, за исключением периодов революций. Тем не менее, исторические исследования склонны поддерживать точку зрения, что теории нельзя оценивать по отдельности, но лишь как звенья в цепи допущений, которые иногда изменяются вместе весьма радикально219.
Нормальное богословие, конечно, действует в рамках традиции, полагая, что богослов должен развивать потенциальные возможности определенной парадигмы. Тем самым создается центр притяжения и поощряется возможность общения и накопления данных. Однако этот процесс может включать в себя и значительные новые интерпретации, новые формулировки и инновации. Писание неизменно, однако способы его понимания и освоения очень сильно изменились, особенно со времени возникновения историко-критических методов. Богословие, как мы уже сказали, представляет собой критическое отражение жизни и мысли религиозной общины, что подразумевает возможность усовершенствования идей. Протестантская Реформация была не единой революцией, а, скорее, видением церкви, в состоянии непрерывного изменения. Кардинал Ньюмен защищал развитие идей и эволюцию доктрин в рамках основополагающей и непрерывной католической традиции220.
Богословские революции, такие как протестантская Реформация или появление буддизма махаяны из тхеравады, действительно приводят к широкомасштабным и фундаментальным переменам. Но и здесь, наряду с разрывами, мы находим и преемственность. Мы видим здесь и верность лидеру-основателю, и общие писания, и общую первоначальную историю. В эпоху экуменизма католические и протестантские мыслители читают труды друг друга и оказывают влияние друг на друга, как и буддисты, принадлежащие к разным направлениям. Представители феминистического богословия критикуют гендерные уклоны христианской мысли и предлагают серьезную трансформацию традиционных доктрин, хотя в большинстве случаев они разделяют значительную часть общего наследия. Однако богослов, по-видимому, не в такой степени привержен глобальной универсальной религиозной общине с едиными критериями и ценностями, в какой это свойственно ученым. В век всеобщности такая приверженность более широкой традиции могла бы привести к пренебрежению отличиями отдельных религиозных традиций.
2. Основные и второстепенные верования
Поппер полагает, что научные теории надо принимать с осторожностью, а их основные допущения необходимо постоянно подвергать сомнению и критиковать. Кун, напротив, считает нормой стойкую приверженность доминирующей парадигме, которую надо ставить под вопрос лишь в редкие кризисные периоды. Имре Лакатос занимает промежуточную позицию и говорит о приверженности «твердому ядру» основных идей, которое защищается с помощью «предохранительного пояса», состоящего из корректируемых вспомогательных гипотез. Вместо конкурирующих отдельных теорий (Поппер) или последовательных парадигм (Кун) Лакатос рисует исследовательские программы, которые иногда конкурируют на протяжении длительного периода времени. Он не согласен с формальными критериями приемлемости теорий, предлагаемыми Поппером, однако его критерии более определенны и рациональны, чем те, которые признает Кун. Лакатос находит, что исследовательская программа определяется твердым ядром идей, которое считается истинным, так что его позитивные потенциальные возможности следует систематически развивать и исследовать. Аномалии сглаживаются с помощью внесения изменений во вспомогательные гипотезы, которыми при необходимости можно пожертвовать. Такая стратегия подразумевает, что приверженность основным идеям должна сохраняться, пока программа «прогрессивна» в предсказании «новых фактов» (под которыми следует понимать и новые явления, и уже известные факты, которые, однако, раньше не связывались с этой программой). Однако программа должна быть отброшена, когда она начинает буксовать и не развивается на протяжении значительного периода времени, тогда как альтернативы представляются многообещающими. При этом прежняя программа не признается ложной, а лишь замещается другой в рамках исследовательской стратегии. Лакатос считает, что его схема описывает наилучший образ действия и предписывает критерии оценки научных программ, заключающиеся в том, насколько они прогрессивны как исследовательские стратегии на протяжении некоторого периода времени221.
Анализ Лакатоса применим и к религиозным общинам, также создающим основное ядро, которое считается истинным, и предохраняющим его, корректируя с помощью второстепенных верований. Приверженность основной программе позволяет систематически исследовать ее, ни на что не отвлекаясь. Соперничающие программы могут конкурировать на протяжении длительного времени. Отдельные составные части веры нельзя подтверждать или опровергать поодиночке, поскольку они являются составными частями программы, которую можно сравнить с другими. Здесь критерием прогресса, видимо, должна быть способность принимать в расчет уже известные данные, на которые раньше не обращали внимания, а не предвидение совершенно новых явлений. Когда в результате исторических событий, нового опыта, или даже новых научных открытий, возникают аномалии, то прежде, чем отбрасывать ядро веры, необходимо попытаться скорректировать его с помощью вспомогательных гипотез222.
Для древнего Израиля ядром веры было существование всемогущего и справедливого Бога. Представление о том, что Бог карает нечестивцев, также было важным, но все же не настолько. Мне кажется, что при столкновении с такими аномалиями, как, например, незаслуженные страдания, мы видим попытки сохранить ядро веры, корректируя вспомогательные гипотезы. В Книге Иова друзья говорят протагонисту, что, видимо, он согрешил втайне и тем заслужил такие страдания. Однако Иов настаивает и на своей невиновности, и на существовании Бога, в ущерб гипотезе о том, что любое страдание заслужено. С такой же аномалией, но уже в национальном масштабе, Израиль сталкивается во время длительного вавилонского пленения. Некоторые находили пленение наказанием за то, что Израиль не сумел соблюсти строгие предписания Торы, и настаивали на более строгом их выполнении. Другие пытались по-новому понять деяния Бога в истории, считая, что Он допускает и незаслуженные страдания (в том числе и страдания за других; ср. мотив страдающего отрока в 53 главе Книги Исаии и др.). Но и более поздние «вспомогательные гипотезы» были поставлены под сомнение неимоверными размерами зла и страдания во время Холокоста. Некоторых это историческое событие заставило по-новому сформулировать концепцию могущества Бога, а кое-кто в результате отверг и теизм как таковой. С аномалией Холокоста лишь отчасти можно справиться в рамках традиционных верований, как еврейских, так и христианских.
Нэнси Мерфи предлагает использовать методологию Лакатоса в христианском богословии. В качестве первичных данных должна выступать практика христианской общины, в том числе ее опыт благочестия и использования Писания. Идея множественности конкурирующих программ богословского исследования может не только пролить свет на прошлую историю, но и предложить возможную модель нынешнего богословского исследования. В качестве примера она приводит три версии доктрины искупления, где смерть Христа понимается либо как победа над силами зла, либо как удовлетворение Божьей справедливости, либо как демонстрация Божьей любви. Первая из этих программ исторически была в значительной степени вытеснена двумя другими, однако сегодня ее можно воскресить с новой вспомогательной гипотезой, в которой силы зла получат новое истолкование с социальной и политической точки зрения223.
Насколько широко можно рассматривать набор идей как богословскую программу? Интерпретация единственной доктрины, например, только одна версия доктрины искупления, видимо, слишком ограничена, чтобы ее можно было признать «ядром веры», которого следует придерживаться на протяжении длительного времени. Быть может, такие направления христианской мысли, как новая ортодоксия, томизм или богословие процесса, можно обоснованно утверждать программами. С другой стороны, учитывая религиозный плюрализм, можно само христианство рассматривать как программу, ядро которой – вера в личного Бога и центральная роль Иисуса Христа, а все остальные верования провозглашать вспомогательными гипотезами, поддающимися корректировке для сохранения этого ядра. Гэри Гуттинг идет еще дальше, полагая, что уже вера в существование личного Бога составляет предлагаемое Лакатосом ядро, и именно на ней необходимо ставить ударение, однако мне представляется, что такое определение религиозной общины было бы слишком размытым224. В главе 12 я буду говорить о том, что богословие процесса можно рассматривать как богословскую программу, «твердое ядро» которой – вера в Бога как творческую любовь, явленную во Христе, а божественное всемогущество считается «вспомогательной гипотезой», которую можно корректировать для соотнесения ее с такими данными, как человеческая свобода, зло и страдание, эволюционная история.
Вообще, программы Лакатоса имеют много общего с парадигмами Куна, однако у них есть два преимущества, если мы хотим анализировать и науку, и религию. Во-первых, они позволяют провести разграничение между основным ядром, которому привержена община, и вспомогательными верованиями, которые значительно проще исправлять или опровергать (хотя Лакатос и понимает, что такое разделение не абсолютно и может подвергаться изменениям на протяжении исторического процесса). Во-вторых, соперничающие программы могут сосуществовать на протяжении длительного периода, что ведет к большему плюрализму. Мы должны в первую очередь интересоваться тем, насколько плодотворно функционирует в общине та или иная программа, а не оценивать определенную группу идей в некий определенный момент, не обращая при этом внимания на текущую жизнь общины.
3. Откровение, вера и разум
Хотя вспомогательные верования лишь предварительны и могут быть пересмотрены, основные верования религиозной общины должны оставаться абсолютными и безусловными. Иов мог отвергнуть идею о том, что всякое страдание заслужено, однако его фундаментальная вера в Бога осталась непоколебимой. Мы не видим никаких свидетельств обратного: «Вот, Он убивает меня; но я буду надеяться» (Иов.13:15). Св. Павел был уверен, что «ни смерть, ни жизнь, ... ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим.8:38–39). В четвертой главе мы рассматривали тезис экзистенциалистов о том, что вера – это результат пламенной преданности и решимости, а вовсе не беспристрастного анализа различных гипотез. Мы упоминали и убеждение неоортодоксов, что основа веры – откровение, которое было актом божественной инициативы, а не следствием человеческих открытий. Верно ли мы описываем значение веры и откровения в христианской традиции?
Бэйзил Митчелл сравнивает предварительные гипотезы науки и ту безусловную преданность, на которой основана религия. Далее он пытается определить это сравнение с обеих сторон. Митчелл отмечает упорство, с которым ученые придерживаются парадигм Куна. Он настаивает также, что, говоря о религиозной приверженности, надо в конечном счете иметь в виду преданность Богу, а не христианству или любой другой религиозной системе. И решающую роль здесь играет накопленный вес свидетельств. Все религиозные идеи, согласно Митчеллу, могут подвергаться изменениям. Должны существовать основания для принятия утверждения о божественном откровении в истории, даже если откровение показывает нам возможности, которых мы не могли предвидеть. Митчелл полагает, что познание Бога в религиозном опыте также не самоочевидно, поскольку не существует опыта, свободного от тех или иных интерпретаций, а любая определенная интерпретация подразумевает некие утверждения, претендующие на то, чтобы считаться более вероятными, чем другие. Поэтому существует непрерывная диалектическая связь между приверженностью и размышлением, или между верой и разумом225.
С библейской точки зрения, вера представляет собой личное доверие, убежденность и преданность. Подобно вере в друга или вере во врача, это не «слепая вера», поскольку она тесно связана с опытом. Однако в отсутствие логических доказательств она становится рискованной и уязвимой. Если вера – это принятие утверждений, явленных в откровении, то она несовместима с сомнениями. Однако если вера – это доверие и преданность, то определенная неуверенность относительно отдельных составляющих религии вполне допустима. Сомнения освобождают нас от иллюзии будто, зная символ веры, мы тем самым знаем и Бога. Ставя под сомнение любые религиозные символы, мы начинаем одновременно заниматься самокритикой, поскольку признаем, что ни церковь, ни книги, ни символы не являются непогрешимыми, а никакие формулировки – неизменными. Если мы не хотим абсолютизировать относительное, то притязания любых исторических институтов и богословских систем на истину в последней инстанции необходимо подвергать сомнению.
Религиозная вера, действительно, как справедливо отмечают экзистенциалисты, требует более полного личного участия, чем наука. Религиозные вопросы наиболее важны, поскольку они обращены к смыслу человеческого существования. Религия имеет дело с предельными объектами человеческой верности и преданности. Слишком отстраненное отношение может привести к тому, что человек не сможет постичь именно те виды опыта, которые наиболее значимы с религиозной точки зрения. Однако подобная религиозная приверженность может сочетаться и с критическим переосмыслением. Приверженность, не сопровождаемая исследованием, ведет к фанатизму и узкому догматизму. Однако и размышление, не сопровождаемое приверженностью, приводит лишь к умозрительным заключениям, не связанным с реальной жизнью. Видимо, личное участие должно чередоваться с размышлением, поскольку поклонение и критическое исследование не могут происходить одновременно.
Божественное откровение и человеческий отклик на него всегда неразделимо переплетены. Откровение не завершено, пока оно не получено людьми, а люди всегда существуют в рамках общины, склонной к определенным интерпретациям. Встреча с Богом была испытана, осмыслена и описана людьми, которые подвержены ошибкам. Наиболее важные события в истории Израиля воспринимались как откровение лишь тогда, когда они осмыслялись в свете пророческого опыта познания Бога. Мы уже говорили, что деяния Бога проявляются как в жизни отдельных людей, так и в жизни общин, а с особой силой они проявились в жизни Христа, но рассказ об этих событиях отражает определенные личные и культурные точки зрения. Не существует откровения, которое дошло бы до нас, не будучи тем или иным образом истолкованным.
Кроме того, мы узнаем откровение по тому, насколько оно способно осветить нынешний опыт. Откровение помогает понять нашу сегодняшнюю жизнь – и частную, и коллективную226. Особые события прошлого позволяют нам увидеть то, что происходило в другие эпохи, но, быть может, не привлекло соответствующего внимания. Крест раскрывает вселенскую любовь Бога, которая была выражена повсеместно, но не везде признана. Сила примирения в жизни Христа – это сила примирения во всей жизни227. Откровение ведет к новым взаимоотношениям с Христом в сегодняшней жизни, поэтому оно неотделимо от переориентации и примирения. Это не система божественных утверждений, сформулированная в прошлом, но приглашение к новому переживанию Бога сегодня. Поэтому откровение и опыт, как и вера и разум, не исключают друг друга.
Подводя итоги, отметим, что между наукой и религией существует много параллелей: взаимодействие данных и теории (или опыта и интерпретации), исторический характер общины, в рамках которой происходит интерпретация, использование моделей, влияние парадигм. В обеих сферах не существует доказательств, но могут быть веские основания для оценок, которые выносит община приверженцев парадигмы. Между наукой и религией существуют и заметные различия, но некоторые из них на поверку оказываются лишь по-разному расставленными акцентами или различной степенью одного и того же, а не абсолютной противоположностью, как это подчас представляется. Мы рассмотрели несколько противопоставлений, один элемент которых более важен в науке, а второй – в религии: объективность и субъективность, рациональность и личная оценка, универсальность и историческая обусловленность, критика и традиция, условность и обязательность. Однако некоторые черты религии, похоже, не имеют параллелей в науке: роль предания и обряда; те стороны религиозных моделей, которые не наделены познавательной функцией, но вызывают определенное отношение и способствуют изменению личности; характерный для религиозной веры тип личного участия; идея откровения, явленного в исторических событиях. В следующей главе, перед тем как делать окончательные выводы, мы проведем сравнение еще по нескольким параметрам.
Глава шестая. Сходства и различия
Мы описали общую структуру науки с точки зрения данных, теории, моделей и парадигм, а также предложили некоторое количество соответствующих параллелей в религии. Теперь мы сравним науку и религию еще по нескольким параметрам. Между ними существуют, конечно, поразительные сходства, но также и значительные различия. Если мы хотим адекватно представить эти две сферы человеческой жизни, то необходимо обсудить и сходства, и различия между ними. Сначала мы рассмотрим характер исторического исследования, поскольку и природа, и религиозные общины имеют свою историю. Во втором разделе обсуждается возможность объективности, если мы признаем, что любое знание обусловлено культурно и исторически; особенно значителен здесь вклад мыслителей феминистического направления. В третьем разделе мы рассмотрим вызов религиозного плюрализма, исследовав путь между абсолютизмом и релятивизмом. Эти три раздела посвящены различным, хотя и взаимосвязанным вопросам, поэтому читатель, в соответствии со своими интересами, может читать их избирательно. Глава заканчивается заключением и обсуждением выводов второй части.
I. История в науке и религии
Краткое описание природы исторического исследования может внести свой вклад в сравнение методов науки и религии. В учебные планы история входит обычно вместе с гуманитарными, а не с естественными науками, поскольку она имеет дело с человеческими идеями и деяниями, которые не повторяются. Однако сегодня мы по-новому признаем важность исторического аспекта в науке. Природа исследуется с точки зрения истории и эволюции, а сама наука признается исторически и культурно обусловленным предприятием. Кроме того, религиозные предания относятся к определенным событиям в истории, и поэтому нам необходимо рассмотреть соотношение предания и истории в религиозной мысли.
1. Историческое объяснение
Попытаемся сравнить историческое и естественнонаучное объяснения. Рассмотрим пять отличительных особенностей исторического исследования.
1. Интерпретационная точка зрения
На выбор из множества деталей, которые могут иметь отношение к историческому объяснению, в значительной мере влияют интересы и предпочтения историков. Изменение культурных предпосылок также оказывает воздействие на восприятие тех сторон социального мира, которые кажутся наиболее значительными. Историк Карл Беккер писал: «История любого события никогда не представляется двум разным людям совершенно одинаковой, и мы хорошо знаем, что каждое поколение переписывает одну и ту же историю по-разному и дает ей новое истолкование»228. Историческое повествование связано со значимыми моделями и едиными темами, которые отчасти зависят от точки зрения повествователя. Смысл всегда зависит от контекста, и исторические события представляют собой диалектическую связь между отдельными событиями и более широким целым. Например, гражданскую войну в США можно рассматривать либо в контексте истории рабства, либо истории федерации, либо прав штатов, либо региональной экономики, либо этических ценностей или демократических идеалов.
Однако, несмотря на существование различных интерпретаций, историк не может игнорировать требования объективности, под которой понимается возможность несубъективной проверки. Научная честность требует непредвзятости, самокритичности и верности доказательствам. Взаимодействие между историками приводит к внесению некоторых поправок в личные ограничения и склонности. Существуют некие общие стандарты, лежащие за пределами личных суждений. Историки несут ответственность перед своими коллегами и должны обосновывать свои выводы и заключения, цитируя исторические свидетельства. Мы можем учитывать такие ограничения, в то же время признавая, что стандарты и методологические допущения в истории, как и в любой другой области исследований, отражают интеллектуальные допущения, которые варьируются в разных культурах и в различные исторические периоды.
Субъективность и культурный релятивизм исторического исследования более очевидны, чем в естественнонаучном исследовании, однако, на мой взгляд, речь идет, скорее, об относительных, а не об абсолютных различиях. Научные данные обусловлены теорией, а исторические события – интерпретацией. Объективные оценки занимают все меньшее, а вариации личной и культурной интерпретации – все большее место, когда мы движемся по спектру дисциплин от естественных наук через общественные науки и историю к религии. В этой непрерывности мы можем наблюдать значительные различия, однако четкие границы провести невозможно.
2. Намерения действующих лиц
Иногда говорят, что человеческие действия определяются идеями и выбором действующих лиц. Для того, чтобы ответить на вопрос «Зачем Брут убил Цезаря?», необходимо изучить опыт, склонности, пристрастия и мотивы Брута. Философ Уильям Дрей пишет: «Считается, что объяснить действие можно лишь тогда, когда оно прослеживается в контексте рационального размышления, когда оно рассматривается с точки зрения действующих лиц»229. Р. Коллингвуд полагает, что лишь посредством образного отождествления с деятелями прошлого историк может постичь смысл и намерения, которые управляют их действиями. Такое сопереживание возможно, поскольку все мы люди. Самоанализ и самопознание создают основу для понимания других людей230. Однако сторонники лингвистического анализа напоминают нам, что мышление и язык всегда должны исследоваться в социальном контексте. Отдельные действия необходимо воспринимать в соотношении с правилами и ожиданиями того общества, в котором они происходят, а не в соотношении с нашими правилами и ожиданиями231.
Если бы историческое объяснение ограничивалось изучением намерений действующих лиц, то оно бы исключило любую историю природы. Некоторые историки, по сути, строго противопоставляли историю и науку, исходя именно из этого разграничения. Однако многие исторические работы не обращают особого внимания на человеческие намерения, а рассматривают общественные и экономические силы, о которых действующие лица и не подозревали. Даже в жизни отдельных людей решения принимаются зачастую, скорее, под влиянием бессознательных мотивов, а не рациональных идей. Если мы признаем, что в человеческой истории действуют различные факторы, то можно говорить и об истории природы. Сравнивая человеческую и естественную историю, мы можем видеть как сходства, так и отличия.
3. Особенность и закономерность
Типичное научное объяснение состоит в том, чтобы показать, что данное состояние системы можно вывести из известного нам предыдущего состояния с помощью общих законов. Гемпель признает, что и историческое событие можно считать объясненным лишь тогда, когда оно включено в рамки некоего закона: «Общие законы одинаково действуют и в истории, и в естественных науках. Ввиду структурного равенства объяснения и предсказания, можно сказать, что объяснение не является исчерпывающим, если оно не может служить одновременно и предсказанием»232. Он полагает, что историческое и научное объяснения принципиально не различаются, поскольку они используют одну и ту же методику.
Дрей и другие авторы отвечают на это, что историческое исследование неизбежно включает в себя единичные утверждения об особенных событиях. Каждое историческое событие уникально. Изучая Реформацию, историки не рассматривают ее как частный случай реформаций как таковых. Если мы занимаемся американской, французской или русской революцией, то в этом нам не очень сильно поможет представление о революциях вообще. В первую очередь нас будут интересовать именно особенности, скажем, роль Ленина в случае русской революции. Если историк сталкивается с проблемами, то он обращается не к законам, а ищет дополнительные детали в историческом повествовании. Историческое объяснение состоит в понимании соотношения частей в рамках единого целого. Историк, скорее, старается понять контекст данного события, а не вывести его из неких законов233.
Мне кажется, что обе стороны в данном споре несколько преувеличивают. Каждое событие в некоторых отношениях уникально. Даже в физической лаборатории ни одно событие никогда не повторяется во всех деталях. Однако это вовсе не отменяет существования регулярных и повторяющихся черт. С другой стороны, ни одно событие, в том числе и в истории, не является абсолютно уникальным. Использование языка предполагает некоторые общие характеристики, которые отражены, например, в словах революция, народ и т. п. Индивидуальность отдельных видов трав в ботаническом саду невелика, тогда как индивидуальность великих исторических событий крайне интересна и важна. Поэтому уникальность связана с целями исследования, а не является собственностью тех или иных событий.
Кроме того, даже если историки не обращаются к универсальным законам, они, тем не менее, используют сходные с законами обобщения в ограниченных временных и географических сферах. Они объясняют частные события в рамках обычаев и принципов, в соответствии с которыми люди того времени понимали и оправдывали свои действия, что требует обобщений, относящихся к культуре и к соответствующему периоду. Прослеживая связи между событиями, историки также обобщают мотивы, побуждающие человека к действию. Они руководствуются параллелями с другими историческими ситуациями, а также основанными на здравом смысле наблюдениями за человеческим поведением. Кроме того, они могут пользоваться социологическими, психологическими и экономическими теориями. Хотя историки, безусловно, заинтересованы в понимании отдельных событий, однако для этого необходимо рассматривать те взаимоотношения, которые известны из других исторических ситуаций234.
4. Непредсказуемость истории
Ограниченность модели со скрытыми законами еще сильнее подчеркивается тем, что история непредсказуема. Один из источников непредсказуемости – вторжение в ранее принятую структуру анализа неожиданных внешних факторов. К подобного рода иллюстрациям можно отнести, например, микроба, приведшего Александра Македонского к неожиданной смерти; рождение у Генриха VIII дочери вместо сына; бурю, способствовавшую поражению Корнуоллиса при Йорктауне; случайную пулю, от которой погиб Стоунволл Джексон. Другой источник непредсказуемости – человеческая свобода и творческая активность. Геттисбергская речь, Девятая симфония Бетховена, «Начала» Ньютона были плодом творческой активности определенных людей в определенное время и поэтому не могли быть предугаданы заранее.
Повествования о непредсказуемых событиях действительно кажутся характерными для человеческой истории, однако они имеют место и в истории природы. В части 3 мы покажем, что и в квантовой физике, и в термодинамике, и в генетических мутациях и сочетаниях существуют абсолютно непредсказуемые факты. Неповторимые события, которые происходят лишь однажды, являются предметом изучения и космологии, и геологии, и эволюционной биологии. Почему у индийских носорогов только один рог, а у африканских – два? Никто не утверждает, что такие детали эволюционной истории можно предвидеть. Законы механики позволяют предсказать состояние системы в определенный период времени, если мы знаем ее состояние в более ранний период, не обращаясь при этом к ее промежуточным изменениям. Однако у ДНК есть некая историческая память, представляющая собой накопление информации о множестве событий, случившихся на протяжении длительного периода времени. Даже в простой клетке заключен опыт миллиарда лет истории, закодированный в генах. Биологические теории могут помочь объяснить регулярные модели этих событий, однако история природы может быть изложена лишь в виде повествования235.
5. Различные способы объяснения
Вышеизложенные утверждения можно свести воедино, если допустить, что в рамках каждой дисциплины существуют различные способы объяснения. Историческое и естественнонаучное исследования не являются взаимоисключающими процессами. Гордон Грехем показывает, что в науке существует и теоретическое, и историческое объяснения. Первое опирается на общие теории и законы, тогда как второе – на изложение особенностей236. С другой стороны, обращаясь к человеческой истории, мы признаем существование самых разнообразных видов взаимосвязей между событиями. В одних случаях историк апеллирует к намерениям действующих лиц, в других – к ограниченным обобщениям, экономическим и общественным силам, или к теориям, опирающимся на общественные науки. В последующих главах мы уделим значительное внимание истории природы, не отбрасывая, однако, и отличительных особенностей человеческой истории.
Стивен Тулмин считает, что явление можно объяснить, лишь поместив его в некий контекст, придающий явлению смысл. В естественных науках события обычно помещаются в контекст закона, закон помещается в контекст теории, теория рассматривается в перспективе «идеального природного порядка». Тулмин говорит, что историческое событие может быть объяснено лишь в рамках серии событий. Отрывок текста можно объяснить, рассмотрев его в соотношении со всем текстом. Таким образом, каждый способ объяснения по–своему рационален237. Филипп Клейтон утверждает, что данную сферу опыта можно объяснить либо исходя из его составных частей и деталей, либо рассматривая его в более широком контексте, в рамках которого проясняется смысл и значение. Он считает, что в естественных науках, в общественных науках и в богословии применяются различные способы рациональной оценки, однако все они рациональны, поскольку в каждой дисциплине существуют критерии оценки, принятые всеми, кто занимается данной дисциплиной. Клейтон уверяет, что в богословии критерий внутренней согласованности более важен, чем критерий соответствия опыту. Он принимает утверждение Лакатоса, что речь должна идти не об оценке изолированных гипотез, а о текущих исследовательских программах, рассматриваемых в историческом контексте238.
В заключение, необходимо отметить, что описанный подход позволяет нам отдать должное историческому характеру науки. Вместо того, чтобы понимать науку как строго логическое предприятие, мы признаем, что она обусловлена культурно и исторически. Философия науки должна основываться на истории науки, а не на идеализированной рациональной реконструкции. Мы видели, что смену парадигм Куна необходимо рассматривать в исторической перспективе, и программы Лакатоса также надо оценивать в соответствии с тем, насколько они плодотворны на протяжении определенного периода. Тулмин применяет эволюционные понятия к самой науке. Научные теории эволюционируют, а новые идеи подобны мутациям, которые сохраняются лишь в том случае, если их отбирает научное сообщество. Хотя у подобной аналогии существует ряд ограничений, на которые я укажу позднее, тем не менее, она ярко демонстрирует нам исторический характер науки.
2. Предание и история христианстве
В предыдущей главе мы показали, что предания занимают центральное место в жизни религиозных общин. Современные сторонники нарративного богословия признают, что библейские предания следует отличать как от исторических описаний, так и от богословских утверждений. Они полагают, что христианские убеждения заключены лишь в самом библейском повествовании. Рассмотрим теперь соотношение предания и истории.
Один из источников нарративного богословия – работы литературоведов, которые считают, что смысл стихотворения или повествования заключен в его тексте и не может быть отделен от него. В ткань повествования входит взаимодействие персонажей и событий. Сюжет зачастую движется через конфликт к развязке. Поль Рикёр полагает, что именно сюжет делает повествование вразумительным целым, а не серией разрозненных событий. События выстраиваются определенным образом, даже если неожиданности и случайности не позволяют предсказать результат. Здесь мы снова видим диалектическую взаимосвязь между смыслом части и смыслом целого; каждое событие в повествовании необходимо рассматривать в контексте239.
Помимо этих общих характеристик повествования, богословы выделяют три черты библейского предания240.
1. Каноническое предание. В рамках общего библейского предания содержится значительное число более коротких повествований. Некоторые из них имеют очень большое значение, например, исход из Египта или пасхальные события в Евангелиях. Дэвид Трейси считает, что форма повествования крайне важна и наделена раскрывающей и трансформирующей силой241. Ганс Фрай полагает, что в библейском повествовании Бог предстает как персонаж многочисленных рассказов. Этот персонаж неотделим от повествования и не может быть исчерпывающе выражен в богословских понятиях. Фрай склонен думать, что евангельскую весть невозможно отделить от библейского повествования, которое занимает центральное место в проповеди и обряде242. Другие авторы указывали, что Христос использовал притчи – короткие рассказы, в которых зачастую происходила переоценка ценностей и которые требовали от слушателя ответа и решения243.
2. Общинное предание. Предания создают общины, а общины создают предания в процессе непрерывного взаимодействия. Религиозные общины передают предания и традиции их интерпретации и добавляют к ним новые предания, посвященные своей борьбе и опыту. Предания, сложившиеся в общине, отражают те принципы интерпретации, которыми она пользуется для понимания своего нынешнего опыта244. Предания служат средствами самопознания, но, кроме того, побуждают к действию, поскольку они воздействуют на эмоции и мотивы сильнее, чем концептуальные утверждения. Предания находят подтверждение в самой жизни, а не в философских аргументах. Как указывали сторонники лингвистического анализа, функции предания в религиозной общине сильно отличаются от функций, которые выполняют исторические источники для профессиональных историков.
3. Личное предание. Истории нашей жизни часто связаны с более широкими преданиями, в рамках которых мы себя рассматриваем. Кроме того, истории о жизни других раскрывают новые возможности для нашей жизни. В большинстве преданий нашей культуры доминирующую роль играли мужчины, и поэтому женщины теперь утверждают, что они должны рассказывать свои предания. Джеймс Мак-Клендон показывает, как наша жизнь стимулируется рассказами о других жизнях, которые, в свою очередь, вдохновлены преданиями, изложенными в Писании. Например, Мартин Лютер Кинг осознавал себя в свете исхода и распятия, и мы теперь понимаем эти мотивы освобождения и самопожертвования благодаря рассказу о жизни Кинга, а не богословским утверждениям245. Стэнли Хауервос считает, что предания изменяют наши позиции и действия. Христианская этика состоит не в том, чтобы обращаться к принципам в отдельные моменты принятия решений, но в непрерывном отклике, по образцу, данному в преданиях. Характер и видение воплощены, скорее, в преданиях, нежели в концепциях или принципах246.
Я согласен с этими авторами в вопросе о важности библейских преданий, однако полагаю, что мы должны также ответить на вопрос об истинности исторических утверждений. Если не было исхода, и если Христос не пошел добровольно на смерть, то сила преданий оказывается подорванной. Кроме того, интерпретация определенных библейских текстов не всегда очевидна; процесс интерпретации и переинтерпретации продолжается непрерывно. С XVIII в. признано, что богословы должны принимать во внимание историческую критику. Экзистенциалисты сводили к минимуму историчность и считали, что вера определяется индивидуальным решением и повиновением в настоящем. Однако таким образом отвергается и роль общины, и убеждение, что вера – это отклик на деяния Бога, совершенные в прошлом.
Библейские предания о творении, завете и Христе сильно различаются с точки зрения их историчности. В главе 8 я буду говорить о том, что предания о творении и грехопадении не должны рассматриваться как повествования об исторических событиях. Полагаю, что предания, изложенные в Книге Бытия, представляют собой символические утверждения о связи Бога с миром и о противоречивости человеческого существования. Моисей, однако, был исторической фигурой, и договор на Синае основан на исторических событиях. Однако предание, запечатленное в Книге Исхода, было записано много столетий спустя и отражало опыт существования Израиля на протяжении этого времени. Так, большинство ученых убеждены, что Десять заповедей могли быть сформулированы во времена Моисея, тогда как длинный перечень подробных наставлений, посвященных обрядам Иерусалимского храма, был создан позднее.
Иисус из Назарета был исторической фигурой, и в нашем распоряжении имеется больше информации о нем, чем о Моисее. Однако, когда мы называем Его Христом и свидетельствуем о Его искупительной роли, то речь идет о постулатах веры, которые не могут быть доказаны с исторической точки зрения, хотя они и связаны с историческими свидетельствами. Евангелия были написаны, по меньшей мере, через поколение после Его смерти, и они отражают опыт и богословские интерпретации раннехристианской общины. Задача богослова выходит за рамки задачи историка, однако богослов не может игнорировать исторические исследования, относящиеся к Библии и к описываемым ею событиям.
Помимо вопроса об истинности исторических утверждений, богослов должен также исследовать обоснованность онтологических утверждений, подразумеваемых библейским преданием. Библейский Бог также считается Богом природы и истории и Господом нашей жизни. Если Библия – это предание о деяниях Бога, то возникает вопрос, как мы должны сегодня, в век науки, понимать деяния Бога. Предания служат отправной точкой для философских и богословских размышлений. Богослов должен оценивать связность и обоснованность верований, равно как и практические последствия и трансформирующую силу преданий. Кроме того, если мы ограничимся одними только преданиями, то придем к полному релятивизму. Если у каждого человека или общины существует отдельное и нет общего предания, то какая бы то ни было связь невозможна. Использование одних только преданий мешает поискам общих элементов в религиозном опыте различных культур.
Ван Харвей думает, что нельзя отбросить исторически обусловленные категории интерпретирующей общины, однако можно отчасти преодолеть это ограничение, представив себе точку зрения других общин247. Майкл Голдберг полагает, что за строками предания может лежать рациональная сторона, показывающая нам «различные способы разумного представления о мире и делающая нас восприимчивыми к богатству и сложности различных потенциальных возможностей нашей жизни»248. Отталкиваясь от предания и переходя к истории, философии и богословию, мы не в состоянии избежать проблемы культурного релятивизма, однако можем вести диалог по-новому, что невозможно, останься мы исключительно в рамках предания.
II. Объективность и релятивизм
Мы уже видели, что парадигмы и теории влияют на научные данные. Но еще более значительную роль парадигмы и верования играют в интерпретации религиозного опыта и религиозных преданий. В недавних работах, посвященных социальному истолкованию науки, сходные вещи утверждались в еще более крайних формах. Авторы Третьего мира утверждают, что экономические и политические интересы влияют и на итоги научного исследования, и на результаты богословских размышлений. Авторы феминистического направления считают, что в обоих случаях широко распространены гендерные предпочтения. Все эти разнообразные движения критикуют претензии на объективность и отстаивают культурную относительность теорий и верований. Насколько справедлива столь радикальная критика?
1.Социальное истолкование науки
Поппер придерживался традиционных взглядов на науку как на независимое предприятие разума, состоящее в проверке гипотез надежными наблюдениями по принципам внутренней логики. Многие ученые разделяют подобные взгляды, но лишь как идеал, к которому надо стремиться и как описание типичной научной практики. Кун, действительно, пытается проследить некоторые внешние влияния (в том числе, более широкие метафизические культурные допущения), однако преимущественно он имеет дело с идеями, функционирующими в рамках научной общины. В 1970-х и 1980-х гг. с различных сторон были выдвинуты более радикальные идеи. Теперь склонны думать, что не только данные обусловлены теориями, а теории обусловлены парадигмами, но и парадигмы обусловлены культурой и системой ценностей. Контекстуализм, релятивизм и историзм Куна получил здесь новое развитие.
Одним из источников нового «экстерналистского» подхода стала социальная история науки, в том числе изучение науки как института в культурном контексте. Другим источником были работы по социологии знания, в первую очередь, труды Хабермаса и других представителей франкфуртской школы, которые доказывали, что идеологические пристрастия, интеллектуальные допущения и политические силы играют свою роль в любом исследовании. Еще одним источником стал марксистский тезис о том, что экономические и классовые интересы лежат в основе любой человеческой деятельности, включая науку. Наука как социальная реальность служит источником власти; власть над природой становится властью над людьми. Можно было бы предположить, что, если мы хотим узнать, как функционирует наука, то надо спросить ученого. Однако критики возражают, что ученые дадут лишь субъективную и избирательную реконструкцию, которая послужила бы рациональным оправданием их представлений об объективности и независимости. Миф о нейтралитете науки позволяет использовать ее тем, кто стремится к власти в обществе249.
Большинство ученых допускает, что правительство и промышленность контролируют технологию и прикладную науку, тем не менее они полагают, что фундаментальные исследования («чистая наука») независимы. Однако критики указывают, что такое разграничение становится все более и более сомнительным. Между научным открытием и его промышленным приложением часто проходит очень короткое время, как, например, в случаях физики твердого тела или молекулярной биологии, и поэтому промышленность играет роль в фундаментальных исследованиях. Многие области «большой науки» требуют больших капиталовложений, дорогостоящего оборудования и значительных коллективов исследователей. «Индустриализация науки» размывает ее автономию. Субсидирование фундаментальных исследований правительством и военно-промышленным комплексом также широко распространяется в академическом мире250.
Многие ученые идут дальше и допускают, что отбор исследуемых проблем, а также направление и скорость развития тех или иных отраслей науки обусловливаются политическими и экономическими силами. Установление приоритетов и распределение ограниченных фондов осуществляется государством и промышленностью в соответствии с общественными и институционными задачами. Одни проблемы при этом игнорируются, а другим отдается особый приоритет. Но даже если направление научного развития управляется социально, то разве действительные научные открытия объективно не определяются природой?
Нет, отвечают сторонники социального истолкования науки, особенно представители более крайних вариантов «сильной программы». Природа не дает нам схему исследования. И виды задаваемых нами вопросов, и типы объяснений, к которым мы стремимся, и даже критерии рациональности, которые мы используем, социально обусловлены. Модели зачастую возникают за пределами науки, как, например, в истории с Дарвином, случайно прочитавшим Мальтуса. Теории не определяются данными, с этими же данными могут согласовываться различные теории. Когнитивные и интеллектуальные интересы ученых влияют на модели их мышления. Личные мотивы, вроде профессионального признания или получения исследовательских грантов, способствуют тому, что ученые хотят работать в рамках господствующей парадигмы. Институты и отдельные исследователи могут предпочитать одну теорию другой. Быстрое принятие определенных теорий и сопротивление принятию других объясняется сложными социальными, политическими и экономическими причинами. Такой культурный релятивизм простирается значительно дальше того, о чем писал Кун251.
Сторонники этих взглядов представляют результаты многочисленных социологических исследований, зачастую основанных на тщательном историческом анализе. Так, ньютонова физика достаточно быстро получила признание, поскольку механистические взгляды на природу исключали пантеистическую и оккультную философию, связанную с алхимией и астрологией. Предложенная Максвеллом электромагнитная теория эфира была признана, поскольку она казалась противоядием от материалистической философии252. Один автор полагает, что неопределенность в квантовой теории в Веймарской республике отразила влияние романтизма и анархизма послевоенной Германии253. Изучение научных диспутов показывает, сколь сложными были причины, по которым одной теории оказывалось предпочтение перед другой, когда доказательства были двусмысленны. Одним из таких примеров может служить теория кварков в физике в 1974–1976 гг. после открытия J/Ψ частиц254.
Такие разнообразные описания внешних воздействий на науку служат ценными коррективами «внутренних» взглядов автономной и рациональной научной общины. Однако в истории идей причинная или пояснительная роль интересов зачастую весьма умозрительна и нелегко поддается документированию. Я полагаю, что эти авторы преувеличивают роль релятивизма и недооценивают ограничения, налагаемые на теорию данными, которые возникают из нашего взаимодействия с природой. Подобные интерпретации науки не могут объяснить ее успех в предсказании явлений и в практическом применении. Различные идеологии и интересы, действительно, зачастую имеют значение, однако их искажающее влияние можно уменьшить с помощью вышеописанных критериев, особенно посредством проверки теорий на основании данных. Влияние внешних факторов на науку вполне очевидно в процессе зарождения теорий, когда активно работает воображение, однако в процессе последующего подтверждения теорий это влияние менее очевидно. Наконец, сами представители крайнего релятивизма непоследовательны, утверждая, что их анализ приложим ко всем культурам. Их собственные построения выводятся за пределы культурного релятивизма, в котором они обвиняют всех остальных.
2. Критика со стороны представителей Третьего мира
Критика западной науки и «сильной программы» прозвучала со стороны нескольких делегатов, представлявших страны Третьего мира на конференции, проведенной Всемирным советом церквей в Массачусетском технологическом институте (США). Они указывали, что современная наука служит преимущественно интересам богатых государств, а не бедных и угнетенных. Распределение научных ресурсов в высшей степени неравномерно, и лишь 3–4 процента мировых исследовательских фондов, выделяются на решение проблем, характерных для развивающихся государств. Так, медицинские исследования направлены, в основном, на борьбу с болезнями, распространенными в обществе изобилия, тогда как тропическим болезням, от которых страдает неизмеримо большее число людей, уделяется намного меньше внимания. Технологии, поставляемые в развивающиеся страны, зачастую не подходят к их конкретной ситуации. Большинство выступавших говорили о выборе проблематики или технологическом применении, но некоторые обсуждали западные пристрастия в том, что касается научных концепций и теорий255.
Однако можно ли говорить о принципиальном отличии азиатской или африканской науки? Большинство ученых склонны не согласиться с этим тезисом. Они находят законы природы универсальными и полагают, что научные встречи и публикации носят международный характер. История не дает нам четкого ответа, поскольку современная наука возникла на Западе, и лишь затем была перенесена в другие культуры, в которых собственные формы научного исследования не успели развиться. Ученые стран, не относящихся к Западному миру, или их учителя в большинстве своем получили образование на Западе и публикуются они также преимущественно в западных журналах. Возможно, что в какой-то другой культуре математическая физика не стала бы первой наукой, несмотря на то, что изучаемые ею явления во многих отношениях проще, чем явления, изучаемые другими науками. Могли ли другие культуры избежать редукционизма и выработать более холистический подход к эксперименту и теории? А может быть они еще в состоянии сделать это в будущем? Именно так считают многие приверженцы восточных религий, и мы увидим это в следующей главе. Наука, действительно, вносит вклад в развитие наиболее общих категорий интерпретации, систематически исследуемых в метафизике, однако и культурные допущения метафизики также влияют на характер научных парадигм, что и признает Кун. Короче говоря, я полагаю, что культура, действительно, влияет на парадигмы всех отраслей науки, но мне не кажется, что это оправдывает крайности неограниченного культурного релятивизма.
Представители Третьего мира, особенно сторонники богословия освобождения, сходным образом критиковали пристрастия западной религиозной мысли. Они утверждают, что любое богословие зависит от социальных условий, которые влияют на восприятие и интерпретацию. То, что мы видим, зависит от нашей точки зрения. В прошлом богословие часто использовалось для обоснования существующих властных структур, и его претензии на политический нейтралитет способствовали сохранению существующего положения. Густаво Гутьеррес считает, что богословие должно основываться на взаимодействии теории и практики и критически отражать деятельность церкви в мире. Мы должны отталкиваться от Евангелия и от нашей собственной исторической ситуации. В Латинской Америке это ситуация нищеты, ставшей следствием долгой колониальной истории, деятельности репрессивных правительств, связанных с богатейшими слоями населения, и постоянной зависимости от международной экономики, основную выгоду от которой всегда получали богатые государства256.
Представители богословия освобождения склонны думать, что мы читаем Писание избирательно. С точки зрения представителей Третьего мира Бог – это, в первую очередь, Освободитель. Мотив исхода они считают наиболее важным. Бог освободил израильтян из египетского плена и по-прежнему остается на стороне бедных и притесненных, а не привилегированных. Для пророков «познать Бога – значит поступать справедливо». В своей первой проповеди Иисус цитировал Исаию: «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим,... отпустить измученных на свободу» (Лк.4:18). Сторонники богословия освобождения полагают, что христианин призван проявлять солидарность с бедняками и бороться за изменение несправедливых и бесчеловечных экономических и политических структур. Евангелие призывает к освобождению не только от индивидуального греха, но и от социальных грехов эксплуататорских институтов. Отдельный человек чувствует себя беспомощным, однако, людям помогает Бог, и они могут работать в рамках небольших религиозных групп («низовых общин») и политических движений. Большинство представителей богословия освобождения считает те или иные формы социализма единственно возможным в их исторической ситуации путем к социальной справедливости.
Богословие освобождения неоднократно критиковали за марксистские пристрастия и тенденцию оправдывать насилие и революции. Но в большинстве своем богословы, согласные с марксистским анализом экономической эксплуатации, не разделяют остальных догматов марксизма. Они также указывают на длительное скрытое насилие существующего порядка и дают разные определения обстоятельств, в которых революция может быть оправдана; многие из них признают, что революционные правительства могут вводить новые формы угнетения257. Однако нас интересует здесь, в первую очередь, утверждение представителей богословия освобождения, что всякое богословие культурно обусловлено и отражает политические и экономические интересы. Черные богословы в Соединенных Штатах настаивали на том, что христианское богословие отражает как расовые, так и экономические пристрастия258. Этот тезис о социальном понимании богословия весьма напоминает тезис о социальном понимании науки.
3. Критика со стороны феминизма
Представители феминизма сходным образом анализируют гендерные пристрастия как в науке, так и в религии. Они критикуют науку на нескольких уровнях. А также интересуются проблемой равного доступа женщин к образованию и работе в сфере науки, изучают явные и скрытые формы дискриминации в учебных заведениях и на работе. Кроме того, они критикуют гендерные пристрастия при отборе проблем для исследований, особенно в биологии и медицине. Более серьезные обвинения состоят в том, что мужские предпочтения влияют на научные теории и интерпретацию данных. В качестве одного из примеров приводится положение Дарвина и его последователей о том, что конкуренция и борьба являются основными движущими силами естественного отбора («выживание наиболее приспособленных»). Такое допущение отражает предпочтения культуры, в которой доминируют мужчины и в которой конкуренция ценится очень высоко. Лишь значительно позже было признано, что кооперация и симбиоз также зачастую играют крайне важную роль в процессе эволюционного выживания. Еще более яркие примеры гендерных пристрастий очевидны в изучении биологической основы различий между полами. Отметим, в первую очередь, утверждения о существовании разницы между полами в неврологическом строении полушарий мозга и то, что это дает врожденное превосходство мужчин в математике и пространственном представлении259.
Хелен Лонгино, философ науки, считает, что феминистский взгляд может способствовать объективности в науке, поскольку он облегчает критику вспомогательных гипотез и предполагает альтернативу. Например, часто говорят, что «мужчина-охотник» был ключевым звеном в эволюции человекообразных приматов к первому человеку. Охота будто бы способствовала использованию орудий, прямой походки и умственных способностей. Но разве женщины не делали то же, когда они собирали пищу или воспитывали детей? Лонгино утверждает, что в нашей культуре наука отражает гендерные пристрастия в выборе проблематики, моделей и концепций, которые влияют на содержание и приложение науки260.
Евелин Фокс Келлер рассказывает о работе Барбары Мак-Клинток (McClintock), связанной с перестановкой генов. Эти исследования ждали признания тридцать лет и в конце концов привели к получению Нобелевской премии. Мак-Клинток не могла найти работу в университете, да и после того, как она получила должность, ее идеи признавались неортодоксальными. «Основным догматом» молекулярной биологии считалась однонаправленность передачи информации: только из ДНК, но не наоборот (за исключением естественного отбора). Хотя исследования в основном концентрировались на генетических структурах, Мак-Клинток интересовалась функциями, организацией и связью генов с клетками, организмами и их развитием. Ее выводы о перестановках были в конечном итоге доказаны и идея о том, что окружающая среда может косвенно влиять на генетические изменения (хотя и не прямо, как полагал Ламарк), получила признание. Келлер пишет о пристальном внимании Мак-Клинток к небольшим вариациям и аномалиям (например, отличию некоторых зерен по цвету от других) и о том, как она «чувствует организм». Речь идет не о мистической интуиции, а, скорее, о чувстве смирения и способности «прислушиваться к материалу». Келлер не считает, что здесь надо говорить о «феминистической науке», однако она полагает, что роль «аутсайдера» и особый склад ума Мак-Клинток дали ей большую свободу в исследовании новых видов взаимоотношений261.
Все эти авторы стремятся к освобождению науки от гендерных предрассудков и к тому, чтобы основной нормой стала научная объективность. Мужские пристрастия необходимо отбросить не только из-за их патриархальности, но и потому, что это – «плохая наука», которую надо исправлять, проявляя приверженность объективности и открытость к доказательствам. Однако некоторые представители феминистического направления идут еще дальше и отстаивают новую «феминистическую науку», отвергая и саму объективность как якобы мужскую идеологию. Если наука не в состоянии быть действительно нейтральной, то человек может лишь стремиться к той или иной гендерной ориентации науки, признавая неизбежность релятивизма. Сандра Хардинг называет это «феминистическим постмодернизмом», который скептически относится к возможности нейтралитета, рациональности и объективности. Она пишет: «Существуют и должны быть моральные и политические убеждения, которые определяют развитие интеллектуальных и социальных структур науки. Проблематика, концепции, теории, методология, интерпретация экспериментов и способы использования их результатов отбираются и должны отбираться исходя не только из познавательных, но также моральных и политических соображений»262.
Эта более радикальная критика отчасти обосновывается различными формами дуализма, столь распространенного в западной мысли: дуализма разума и тела, рассудка и эмоций, объективности и субъективности, господства и подчинения, безличного и личного, силы и любви. В каждой из этих пар первая составляющая в нашей культуре считается мужской, а вторая – женской. Однако как раз все первые компоненты этих пар используются для характеристики науки: разум, рассудок, объективность, господство, безличность, сила. Существующие стереотипы описывают науку с помощью мужских, а природу – с помощью женских образов. Бэкон называл природу невестой разума: «Сделай ее своей рабыней, завоюй и покори ее». В патриархальном обществе эксплуатация женщины и эксплуатация природы имели одну и ту же идеологическую основу. Согласно этой интерпретации, ученые проявляют такое отчужденное и манипулистское отношение, когда они делают своей целью контроль и предсказание, а не понимание263. Еще один источник радикальной критики – теория психоанализа, которая утверждает, что личность растущей девочки формируется в ходе ее самоотождествления с матерью, а личность мальчика – в ходе его отделения от матери, что приводит к разделению ценностей, независимости, объективности и силе, типичным для современной науки264.
Я не могу согласиться с теми приверженцами феминистического постмодернизма, которые полагают, что мы должны отвергнуть объективность и принять релятивизм. Западная мысль, действительно, была дуалистической, и мужчины, похоже, более склонны к разложению опыта на противоположные составляющие. Но ответ, безусловно, состоит в том, чтобы попытаться избежать дихотомий, а не просто расценивать их как относительные. Мы не хотим и переворачивать их, отвергая первые компоненты и утверждая вторые компоненты каждой пары. Это было бы недальновидно даже как временная стратегия, если мы стремимся признать целостность жизни. Можно допустить, что наше исследование не свободно от различных ценностей и интересов, не прибегая, однако, к анархическому релятивизму. Как говорит Келлер, «наука – это и не зеркало природы, и не отражение культуры». Если мы утверждаем, что объективность – это продукт мужского сознания, то тем самым отрицаем возможность того, что в современной науке звучит и голос представителей феминизма. Кроме того, пока не выявлено никаких четких предложений относительно альтернативной феминистической науки.
Необходимо также спросить, что именно люди понимают под объективностью, и решить, какую из этих идей можно поддержать в качестве идеала для науки, независимо от того, придерживаются ли его в нынешней практике. Я склонен защищать два значения термина «объективность»: (1) данные должны объективно воспроизводиться, даже если они обусловлены теорией; (2) критерии должны быть беспристрастными и общими для широкой исследовательской общины, даже если их приложение затруднительно. Однако две другие идеи представляются мне сомнительными. Во-первых, объективность не означает, что теории определяются только объектом, поскольку мы неоднократно отмечали, что данные обусловлены теорией, и что мы не можем разделить субъект и объект при эксперименте. Исследование подразумевает участие наблюдателя и взаимодействие субъекта с объектом, а не отстраненность. Во-вторых, объективность не означает редукционизм, при котором физико-химические законы составных частей считаются более подходящими для объяснения, нежели попытки описать явления, происходящие на высших уровнях единого целого. Холистическое мышление не ограничено женщинами, хотя возможно, что в нашей культуре женщины оказываются более чувствительными к взаимосвязям, контекстам и взаимозависимостям и более приспособленными к развитию, кооперации и симбиозу. Под некоторыми из этих гендерных различий может лежать биологическая основа, однако в большинстве своем они объясняются культурными моделями социального характера.
В религии феминистическая критика также проявляется на различных уровнях. Некоторых авторов интересуют проблемы равных возможностей при получении образования и приеме на работу, в том числе, проблема рукоположения женщин. Однако более фундаментальная критика касается гендерных пристрастий в концепциях и верованиях. Реформисты пытаются освободить иудаизм и христианство от гендерных пристрастий, тогда как радикалы полагают, что унаследованные традиции настолько патриархальны в своей основе, что их необходимо отвергнуть.
Представители реформистского феминизма считают, что христианство и иудаизм были весьма патриархальны как на практике, так и в теории. Религиозные лидеры всегда были мужчинами, и Бог изображался в образе мужчины. Все это поддерживало мужское господство в обществе. Однако реформисты полагают, что сама библейская весть по сути своей не была патриархальной. В Библии появляются и женские образы Бога, хотя и нечасто. Когда Исаия утверждает, что Бог не забудет Израиль, он говорит: «Забудет ли женщина грудное дитя свое?» (Ис.49:15). Отдельные женщины играли большую роль в библейском повествовании: Девора, Есфирь, Руфь и, конечно, Мария, равно как и такие более поздние фигуры святых, как св. Тереза Авильская или Юлиания Норвичская. Иисус не был сексистом; Он демонстрировал ряд качеств, которые обычно расцениваются как «женские», например, любовь и эмоции, наряду с такими «мужскими» качествами, как смелость и лидерство265. Представители современного феминизма пытаются разработать всеобъемлющий язык, который бы включал не только братьев и сестер в церкви, но и Бога, являющегося не только Отцом, но и Матерью. Такие идеи мы видим, например, в работах Салли Мак-Фаг.
Богослов Розмари Рютер остро критикует патриархальные положения католической традиции, однако она полагает, что суть церковной вести может быть переформулирована так, чтобы исключить из нее сексизм. Так, дуализм разума и тела появился в христианстве не столько из библейских, столько из неоплатонических источников, и на его место можно поставить в большей мере соответствующие Библии представления о цельной личности в рамках общины. Рютер собирает воедино основные положения феминистического богословия, богословия освобождения и экологического движения. Она находит, что все они противостоят дуализму, иерархии и господству, и выступает за эпистемологию участия и за всеобъемлющее и справедливое общественное устройство, сочетающее социальную справедливость с заботой о природе и о формах жизни, отличных от человеческой. Рютер критикует традиционное христианство, однако не отвергает его266.
С другой стороны, представители радикального феминизма считают библейскую традицию неисправимо патриархальной, и полагают, что необходимо искать новые формы религии за рамками церкви. Стартовыми точками здесь должны стать образ женщины как сестры и такие свойственные женщине формы опыта, как беременность и материнство, а также ряд форм опыта, которые расценивались достаточно низко в патриархальной культуре: интуиция, эмоциональность, телесность, гармония с природой. Кроме того, новый подход должен основываться на освобождении, которое становится возможным в ходе самоопределения и самовыражения женщины, создания групп поддержки, солидарности с другими угнетенными группами (хотя феминизм довольно медленно выходит за пределы белых представителей среднего класса). Некоторые представители радикального феминизма разрабатывают для женщин новые религиозные ритуалы. Другие пытаются на основе мифов о богинях и о Матери-Земле разработать женские символы божественного. Еще одной альтернативой выступает восприятие беспредельного как безличного, например, как Основания Бытия, которое не нуждается в атрибутах пола267.
Как и в случае феминизма в науке, я не согласен с теми радикалами, которые лишь способствуют сохранению дуалистического мышления, попросту переворачивая существующие формы культурного дуализма. В обоих случаях, попытки отказаться от необоснованных положений традиции, приводят к тому, что отбрасывается и то ценное, что в них есть. Абсолютизация женского начала представляется столь же необоснованной, как и абсолютизация мужского. Цель каждого из нас – как мужчин, так и женщин, – реализация всех наших разнообразных способностей, независимо от того, признаются они в нашей культуре мужскими или женскими, и символическое выражение этого многообразий в творческих характеристиках наших моделей Бога.
III. Религиозным плюрализм
Несмотря на то, что культурные допущения влияют на научные парадигмы, среди ученых во всем мире, тем не менее, существует принципиальное согласие относительно теорий и данных. Религиозный плюрализм в глобальный век представляет собой более серьезную проблему. К согласию здесь прийти значительно сложнее, а последствия несогласия могут быть намного более губительны. Что же нам делать со всем разнообразием интерпретаций религиозного опыта? Можно ли найти золотую середину между абсолютизмом религиозных утверждений и полным релятивизмом? Существуют ли общие для разных культур критерии оценки религиозных традиций?
1.Интерпретация религиозного опыта
Как мы должны относиться к культурному релятивизму в интерпретации религиозного опыта? Кто-то находит эту проблему не слишком важной. Ричард Свинбурн полагает, что мы обычно склонны принимать сообщения людей об испытанном ими религиозном опыте, за исключением тех случаев, когда есть основания считать их свидетельства ненадежными, а утверждения неправдоподобными. Сходным образом, по мнению Свинбурна, когда человек говорит, что он что-то знает о Боге, люди склонны верить этому, если у них нет серьезных оснований для сомнений. «Из всего этого следует, что если я испытал нирвану или увидел Бога, то я имею основания полагать, что это действительно так. И, более того, факт религиозного переживания является для всех достаточным основанием поверить в то, что, якобы, было пережито»268. Он склонен думать, что опыт бывает и обманчив, и, кроме того, для его описания мы пользуемся культурными концепциями; в частности, религиозные свидетельства влекут за собой противоречивые утверждения. Однако основные виды религиозного опыта довольно сходны, и поэтому бремя доказательств ложится на скептиков. Свинбурн заключает, что «утверждения о религиозном восприятии заслуживают того, чтобы их принимали всерьез, как и любые другие утверждения о восприятии».
Уильям Алстон полагает, что мы признаем чувственный опыт свидетельством независимо существующего объекта, если (1) переживание опыта происходит при благоприятных обстоятельствах, и (2) интерпретация согласуется с другими убеждениями. Однако данные восприятия могут быть отброшены, если они не согласуются с другими убеждениями (так, мы ставим под сомнение наше впечатление о том, что при приближении к горизонту луна увеличивается). Алстон считает, что и при интерпретации религиозного опыта должны соблюдаться те же условия. Мы должны признать, что благоприятные обстоятельства складываются в ходе духовного обучения под руководством опытных в религиозной жизни людей. А выводы мы можем проверять, опираясь на более широкую структуру веры. Однако Алстон полагает, что культурные вариации в религиозном опыте более значительны, чем в том чувственном опыте, о котором сообщают антропологи269.
Стивен Кац, напротив, утверждает, что сообщения о религиозном опыте определенно формируются под влиянием понятий, которые человек в него привносит. Он рассматривает мистические писания различных традиций и поражается их многообразию. Например, в еврейской мистике при переживании опыта единения не происходит потери индивидуальности, но сохраняется чувство отличия от Бога. Вера в личного Бога и в важную роль ритуальных и этических действий просто принимается. «Мистик привносит в свой опыт целый мир понятий, образов, символов и ценностей, которые придают форму и цвет тому опыту, который он в конечном итоге переживает»270. Предварительные ожидания определяют как форму, так и содержание опыта; мы не можем говорить о существовании универсального опыта, который лишь затем по-разному интерпретируется с помощью тех или иных культурных концепций. Символика религиозной общины имеет значение и до, и во время, и после переживания опыта. Буддисты считают, что основные проблемы человека – страдание и непостоянство, и поэтому стремятся освободиться от страданий. Христиане полагают, что наша основная проблема – грех, и стараются достичь прощения и единения с Богом.
Питер Донован занимает промежуточную позицию. Он отстаивает, что в религии, как и в науке, не существует нейтральных описаний, независимых от интерпретации. «Вся эта теоретическая основа не содержится в самом опыте, а привносится в него путем интерпретации, в результате чего опыт становится именно таким»271. Опыт, конечно, может поддерживать общую теоретическую схему, однако «оценка того или иного опыта зависит от оценки общей системы веры, в рамках которой этот опыт приобретает значение»272. Донован полагает, что любой опыт, даже тот, который приводит к изменению жизни, должен систематически связываться с соответствующей концептуальной структурой, которая оценивается в целом.
Сходным образом, Ниниан Смарт указывает на общие элементы в рассказах мистиков, однако признает, что они расходятся в доктринальной интерпретации:
Из того, что мистицизм в различных культурах и традициях остается, по сути, одним и тем же, не следует существование некой «вечной философии», общей для всех мистиков. Их доктрины отчасти определяются фактами, отличными от самого мистического опыта.... Между опытом и интерпретацией нет четко выраженной границы. Это объясняется тем, что концепции, используемые для описания и объяснения опыта, разнятся по степени разветвленности. То есть, если концепция является частью доктринальной схемы, то она приобретает значение отчасти из тех доктринальных утверждений, которые считаются истинными273.
Смарт рекомендует использовать описательные термины, лежащие на низком уровне, с минимальным доктринальным разветвлением, для того, чтобы попытаться сформулировать более феноменологическое описание, которое было бы понятно не только мистику, но и другим людям. Мне тоже представляется, что разграничение между опытом и интерпретацией, так же, как между теорией и данными, никогда не бывает абсолютным. В обоих случаях оно относительно, и проводится из разных точек, в разное время и с определенными целями.
Если не существует опыта, который не подвергается интерпретации, то не может быть ни непосредственного религиозного знания, ни «достоверного» знания о Боге, ни безошибочной интуиции, которой можно приписать окончательность. Ибо при любой интерпретации существует возможность ошибки, особенно если хочется извлечь из опыта больше, чем он на самом деле содержит. Из опыта нельзя сделать никаких определенных выводов о Существе, которое является его независимой причиной. Даже ощущения противостояния и встречи не гарантируют, что их источник лежит вне нас274.
Ключевой вопрос состоит в том, контролируется ли каким-то образом интерпретация самим религиозным опытом. Основные верования обычно создают опыт, который можно использовать для их поддержки, и таким образом поддерживают сами себя. Человек, поддающийся внушению, может испытать именно то, что он ожидает испытать. Однако порой люди могут испытать и неожиданный опыт, который ставит под сомнение их предварительные допущения и ведет к переформулированию тех или иных верований.
Мы можем отрицать то, что Бога можно познать непосредственно и независимо от интерпретации, не прибегая при этом к противоположной крайности, к представлениям о том, что Бог постижим лишь путем умозаключений, но не опыта. Если мы будем считать Бога лишь гипотезой, которую необходимо проверить, или выводом из того или иного доказательства (например, доказательства от замысла), то мы утратим эмпирическое основание религии. С моей точки зрения, Бог познаваем, исходя из интерпретированного опыта275. Наши знания о Боге подобны нашим знаниям о другой личности, которые не являются ни прямыми данными, ни результатами умозаключений. Мы не можем непосредственно познать эту личность; она должна выразить себя с помощью различных средств языка и деятельности, которые мы интерпретируем. Однако мы не просто делаем вывод о существовании другой личности. В качестве предварительного условия для восприятия слов и жестов как выражения целей и намерений, мы должны уже понимать, что имеем дело с иной личностью276. Члены религиозных общин сходным образом понимают, что они имеют дело с Богом. Такое понимание является настолько основополагающим, что может представляться почти столь же значительной частью интерпретированного опыта, как и встреча с иной человеческой личностью.
Я считаю, что вера, с одной стороны, способствует появлению религиозного опыта, а с другой – произрастает из него. В религии в еще большей мере, чем в науке, парадигмы влияют на верования, с помощью которых осуществляется интерпретация, и которые, в свою очередь, воздействуют на опыт. Однако и религиозный опыт влияет на верования и парадигмы. Хотя и не существует нейтрального описательного языка, есть, однако, различные степени интерпретации. Поэтому представители различных религиозных традиций могут общаться друг с другом, несмотря на то, что они зависят от языка, сформировавшегося в той или иной культуре.
2. Между абсолютизмом и релятивизмом
Отношение различных религиозных общин к другим религиям сильно варьируется. Мы можем выделить пять видов такого отношения277.
1. Абсолютизм
Эта точка зрения состоит в том, что существует лишь одна истинная религия, а все остальные религии ложны. Существует лишь одна дорожка к спасению. Иудаизм всегда балансировал между партикуляризмом договора с Израилем и идеи избранного народа, с одной стороны, и универсализмом договора с Ноем – с другой; спасение никогда не считалось исключительно прерогативой евреев. В христианстве уникальность воплощения была основанием для традиционного утверждения о том, что спасение возможно только во Христе. Классическим выражением этого убеждения был постулат католицизма, что «вне церкви нет спасения». У протестантских фундаменталистов исключительность основывается на идее уникальности боговдохновенной книги. Критики этой позиции полагают, что она абсолютизирует конечные выражения бесконечного, будь то институции, книги или доктрины. Они указывают также, что подобные взгляды приводили к нетерпимости, крестовым походам, инквизиции, религиозным войнам, обоснованию колониализма. Одним из последствий подобного абсолютизма стала мрачная история преследования христианами евреев. Религиозный империализм особенно опасен в ядерный век.
2. Приближения к истине
С этой точки зрения, в других религиях содержатся элементы истины, которые, однако, более полно представлены в собственной традиции. Христианство считается выполнением того, что другие религии понимают не до конца. Бог присутствует и в других традициях, представляющих собой истинные отклики Богу и реальные пути к спасению, несмотря на все их ограничения. Прообразы Христа существуют не только в Ветхом Завете (еврейском Писании), но и во всех основных религиозных традициях. Подобных взглядов придерживается христианский либерализм. Католические авторы после Второго ватиканского собора склонны говорить, что в других традициях присутствует «скрытый Христос» (Раймонд Паниккар), «анонимное христианство» (Карл Ранер) или (в более старой терминологии) «скрытая церковь», поэтому спасение, достигаемое во Христе, возможно для всего человечества. Как пишет Ранер, «есть много путей, но лишь одна норма». Такие взгляды значительно мягче той нетерпимости, которая свойственна первой позиции. Однако в них присутствует некоторая снисходительность по отношению к прочим традициям. Диалог для сторонников таких взглядов существует лишь для того, чтобы убедить другую сторону в своей правоте. Нам нечему учиться, если наша собственная традиция уже обладает всей полнотой истины, которая иным доступна лишь отчасти.
3. Единство сути
Эта точка зрения состоит в том, что все религии представляют собой, по сути, одно и то же, хотя выражены они в различных культурных формах. Для некоторых авторов главным религиозным опытом служит мистицизм, основанный на уверенности в единстве всех вещей (в качестве примера можно привести «вечную философию» Олдоса Хаксли). Для других авторов суть религии состоит в абсолютной зависимости (Шлейермахер) или в чувстве священного (Отто). Доктрины считаются здесь символическими утверждениями, отражающими внутренний опыт, важный с религиозной точки зрения. Сторонники такого подхода полагают, что мы все должны прийти к согласию относительно общего ядра, не утверждая при этом, что одна группа доктрин обладает преимуществом над прочими. Это должно подтолкнуть нас к попыткам создания всеобщей религии, в рамках которой ни одна группа не может навязывать свои взгляды другим. Однако здесь мы сталкиваемся со сложной проблемой: не существует согласия в вопросе о том, что именно является общим ядром. Кроме того, существует величайшее многообразие как среди различных традиций, так и в рамках каждой традиции. Такая «разбавленная» всеобщая религия будет полагаться лишь на индивидуальный опыт и абстрактные идеи, отбросив историческую память, общие предания и обряды, определенные модели поведения, выработанные в тех или иных религиозных общинах.
4. Культурный релятивизм
Антропологи изучают культуры во всей их целостности и признают религию формой выражения культуры. Каждая религия функционирует в рамках определенного культурного окружения. Сторонники лингвистического анализа считают, что религиозные символы и понятия служат оформлением нашего опыта. Поскольку культурные и лингвистические формы сильно отличаются друг от друга, то неудивительно, что и религиозный опыт весьма разнообразен. Формы жизни и связанные с ними «языковые игры» независимы, относительны с точки зрения культуры и несоизмеримы друг с другом. Первичный язык религии – «молитва, хвала и проповедь», тогда как доктрина и опыт представляют собой вторичный язык (Линдбек). Определенные предания и обряды в богослужении и практике занимают здесь важное место.
Сильная сторона лингвистического анализа состоит в признании многообразия функций религии как образа жизни. Кроме того, релятивистский подход избегает проблем, возникающих в результате утверждений о приоритете или единстве. Он признает особое место каждой традиции, равно как и их внутреннее многообразие. Однако при таком подходе изучение других религий имеет ограниченную ценность, поскольку они представляются лишь составными частями культурной системы. Из нашего культурного окружения можно узнать не так много того, что пролило бы свет на нашу жизнь. В этом случае любые верования не могли бы считаться истинными, и нет причин пытаться выйти за ограничения и слепые пятна нашей собственной культуры. Нет и основания для критики собственной культуры. Признание традиции должно господствовать над критическим размышлением и переформулированием.
5. Плюралистами диалог
Отправная точка этого подхода – признание того, что Бог присутствует в вере и в жизни людей, относящихся к другим традициям. Мы можем быть открыты к различным путям человеческого бытия и признавать существование различных возможностей для нашей собственной жизни. Мы можем чувствовать людей, принадлежащих к другим культурам, и пытаться смотреть на мир с их точки зрения, несмотря на то, что мы не в состоянии полностью отрешиться от наших культурных представлений. Мы можем обсуждать нашу собственную жизнь в рамках конфессионального подхода, однако не должны распространять его на других. Приверженность собственной традиции может сочетаться с уважением к иным традициям. Такая точка зрения создает более твердую основу для истинного диалога и взаимного обучения, нежели любая другая из вышеописанных альтернатив.
В качестве примера такой позиции рассмотрим работы Джона Хика, который полагает, что «у Бога есть много имен». Божественную реальность можно по-разному воспринимать, осмысливать и откликаться на нее. «Эти разнообразные виды знания о Вечном Существе отражают различные культурно обусловленные способы восприятия одной и той же бесконечной божественной реальности»278. Хик полагает, что религиозные традиции подобны сообщениям людей, исследующих Гималайские горы, высочайшие вершины которых всегда скрыты за облаками. Исследователи проходят всевозможными маршрутами и получают разнообразные впечатления от гор с разных точек зрения, но не достигают вершины. Однако Хик выходит за рамки этой аналогии и предполагает, что божественная инициатива раскрывается во многих традициях, в рамках культурных представлений каждой из них. Многообразие традиций отражает не только различия форм человеческого восприятия, но и разнообразие форм откровения.
Кроме того, говорит Хик, спасение возможно в рамках многих традиций. Он имеет в виду не вечную жизнь, а трансформацию личного существования в этой жизни, «трансформацию эгоцентризма в сосредоточенность на Реальности», по-разному воспринимаемую как спасение, исполнение, освобождение или просветление. Духовные и нравственные плоды таких изменений не ограничены рамками какой-то одной религии. Каждая традиция может эффективно воздействовать на жизнь людей, духовно сформированных этой традицией. Каждый из нас должен быть верен своему наследию:
Мы можем считать, что обретем спасение именно через Христа, однако не должны при этом отрицать, что существуют и другие способы контакта между Богом и человеком. Можно придерживаться пути христианской веры, не порицая при этом иные пути веры. Можно утверждать спасение во Христе, не говоря при этом, что не существует спасения вне Христа279.
Подобно сторонникам позиции единства сути, Хик полагает, что во всех религиях существует один и тот же объект поклонения. Однако он иначе описывает влияние культурных традиций на опыт и на доктринальную интерпретацию. Хик также приветствует многообразие и приверженность определенной традиции, а не поиски единой мировой религии. Подобно сторонникам культурного релятивизма, он признает определяющее влияние культуры и языка, а также настаивает на том, что сердце религии – личная трансформация, а не доктрина. Хик не считает неизбежным конфликт между различными средствами трансформации в разных культурах, тогда как доктрины порой взаимно исключают друг друга. Однако он избегает полного релятивизма, поскольку утверждает, что трансцендентная реальность не подвержена культурным вариациям, и защищает эпистемологический подход, при котором в религиозном языке содержатся познавательные утверждения, пусть частичные, символические и обусловленные традицией.
В вопросе о Христе, Хик начинает с точки зрения, сходной с позицией приближения к истине, однако затем отходит от нее. Можем ли мы сравнить Христа с еврейскими пророками, христианскими святыми или основателями и ключевыми фигурами остальных мировых религий? Хик цитирует нескольких авторов, отстаивающих уникальность Христа, но понимающих эту уникальность как разницу в уровне и в способе взаимоотношений с Богом, а не как абсолютное качественное отличие в метафизической сущности и природе. Для себя как христианина он признает Христа абсолютным выражением Бога. Однако он допускает, что представители других традиций могут находить для себя иное абсолютное выражение280.
Таким образом, эта пятая точка зрения выходит за рамки терпимости остальных позиций и защищает диалог, который приводит к взаимному обогащению. Если мы открыты к новому пониманию, то не исключено, что мы можем научиться у других религий каким-то новым аспектам божественного и потенциальным возможностям для человеческой жизни, которые мы ранее игнорировали. Так, Хик полагает, что христианство благотворно воздействовало на индуизм, поскольку способствовало увеличению интереса к проблемам социальной справедливости, тогда как нынешний интерес некоторых христиан к медитации отчасти обусловлен влиянием индуизма. Что касается буддизма, то он реже ассоциируется с империализмом и войной, нежели христианство, и, кроме того, он с большим уважением относится к природе. Однако христианство дает более мощный импульс к материальному прогрессу и общественным переменам. Знакомство с иными религиями может также привести нас к новому открытию тех составляющих нашего собственного наследия, которыми до этого мы пренебрегали281.
Сходные взгляды демонстрирует Пол Книттер, который уверен, что можно признать возможность существования других спасителей, не отказываясь от приверженности Христу. Христос – откровение Бога, но не единственное. Книттер полагает, что для нас самих христианская точка зрения может играть решающую роль, однако мы не должны осуждать прочие точки зрения. В рамках различных религиозных традиций абсолютная реальность воспринимается по-разному и интерпретируется в различных символах. Книттер считает, что люди должны стремиться к более глубокому переживанию опыта в рамках собственной традиции, и в то же время оставаться открытыми к диалогу с другими традициями. В таком случае религия, вместо того, чтобы быть источником конфликта и раздробленности, может стать могущественной силой достижения всеобщего единства282.
3. Выводы
Религия – это, безусловно, образ жизни. Религиозный язык выполняет разнообразные функции, многие из которых не имеют параллелей в науке. Он способствует становлению этического отношения и поведения. Он воздействует на чувства и эмоции. Наиболее типичные формы религиозного языка – богослужение и медитация. Кроме того, его основная задача состоит в том, чтобы вызвать личную трансформацию и переориентацию (спасение, исполнение, освобождение или просветление). Все эти аспекты религии требуют более полной личной вовлеченности, чем научная деятельность, и влияют на различные аспекты личности. Религия выполняет также психологические задачи, включая воссоединение личности и создание общей структуры смысла и цели. Эти задачи выполняются, преимущественно, с помощью религиозного опыта, предания и обряда.
Все эти функции языка не являются познавательными и не связаны с какими–либо определенными утверждениями относительно действительности. Однако каждая функция предполагает познавательные верования и утверждения. Надлежащий образ жизни, этические нормы, модели богослужения, то или иное понимание спасения, смысловые структуры – все это зависит от представлений о характере абсолютной реальности.
Рассмотрим еще раз четыре критерия, к которым мы обращались в прошлой главе, и их использование в рамках религиозной традиции или общины приверженцев парадигмы.
1. Согласованность с данными. Иногда уверяют, что отличительная черта науки – способность делать на основании теорий предсказания, которые могут быть проверены с помощью контрольных экспериментов. Однако не во всех отраслях науки возможны предсказания и эксперименты. Геология и астрономия основаны, скорее, на наблюдениях, а не на экспериментах; в геологии, кроме того, немыслимы предсказания (хотя какие-то аспекты настоящего или будущего состояния можно предсказать на основании предыдущих состояний). Мы уже отмечали, что эволюционную историю немыслимо предвидеть в деталях, и лишь определенные части эволюционной теории можно экспериментально проверить. Поэтому в науке следует говорить об объективной проверке на основании различных видов данных, с учетом ранее сделанной оговорки о том, что данные обусловлены теориями, теории обусловлены парадигмами, а парадигмы обусловлены культурно. Кроме того, мы видели, что, поскольку обычно можно ввести дополнительные гипотезы, то проверка становится не столь очевидной.
В религии объективная проверка верований осуществляется в рамках религиозной общины, что предохраняет их от произвольности и индивидуальной субъективности. Интерпретация изначальных событий, основополагающего опыта и последующего личного и общинного опыта осуществляется посредством длительного процесса испытания, фильтрации и публичной проверки на протяжении истории общины. Какие-то виды опыта повторяются и принимаются в качестве нормы, другие переосмысляются, игнорируются или отбрасываются. Однако процесс проверки здесь, безусловно, менее строг, чем в науке, и, кроме того, религиозные общины в большей мере, чем научные, ограничены рамками данной культуры.
2.Согласованность. Наука стремится к достижению согласованности с принятыми теориями и внутренней связности. Мы видели у Лакатоса, что преемственность исследовательской программы достигается приверженностью ее основному ядру, которое защищается посредством модификации вспомогательных гипотез. Религиозные верования также оцениваются по принципу согласованности с центральным ядром традиции, однако здесь это ядро соотносится с преданием и обрядом. Интерпретация предания и обряда включает вспомогательные гипотезы, которые могут измениться. Аномалии могут быть терпимы на протяжении определенного времени, однако способность творчески откликаться на их появление, не затрагивая при этом центральное ядро, служит признаком жизненной силы программы. Богословские формулировки способны корректироваться и значительно изменяются на протяжении исторического процесса. Для современного периода характерны новые принципы интерпретации Писания и новые концепции Бога. В последнее время авторы феминистического направления и представители Третьего мира помогли нам понять некоторые тенденции классической традиции. Богословие, будучи критическим размышлением, также заботится о согласованности и систематической взаимосвязи верований.
3. Охват. Научная теория более надежна, если она широкомасштабна, и если ее можно распространить на новые виды явлений, отличные от тех, для которых она изначально была разработана. Религиозные верования также следует оценивать с точки зрения их всесторонности и возможности охватить различные виды опыта, помимо тех, из которых эти верования возникли. Религиозные верования должны согласовываться с научными открытиями, и это порой требует переосмысления вспомогательных богословских гипотез, как мы увидим в последующих главах. Религиозные верования также могут вносить вклад во всеобъемлющую метафизику, хотя они и не являются единственным источником этой широчайшей объединяющей структуры, которая шире как науки, так и религии. Метафизические допущения, в свою очередь, влияют на религиозные парадигмы, как и на научные.
4. Плодотворность. Научные теории оцениваются в соответствии с их достижениями и предполагаемым вкладом в устойчивость текущей программы на протяжении периода времени. В соответствии с целями науки, научная плодотворность оценивается на основании способности стимулировать теоретическое развитие и экспериментальные исследования. Цели религии более многообразны, поэтому плодотворность здесь также значительно многограннее. Она зависит не только от умения стимулировать творческое богословское размышление, но и от возможности питать религиозный опыт, и от способности вызывать личную трансформацию. Кроме того, плодотворность определяется и тем, насколько благотворно влияние религии на человеческий характер и какова ее способность стимулировать этические действия. Апостол Павел говорил: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал.5:22–23). Философ Уильям Джеймс считает одним из критериев святость. Кроме того, нас интересует, насколько религия практически приложима к наиболее насущным проблемам нашего времени, таким как экологический кризис и мир во всем мире. Критерии оценки таких индивидуальных и социальных последствий, конечно, в значительной мере зависят от парадигмы.
Короче говоря, религия не должна претендовать на научность или соответствие научным стандартам. Поскольку богословие – это критическое отражение жизни и мысли религиозной общины, то оно всегда может подвергаться пересмотру и исправлениям. В нем отсутствуют контрольные эксперименты, однако в рамках жизни общины происходит процесс проверки, и необходимо, чтобы наши концепции и верования были постоянно тесно связаны с тем, что мы пережили. Здесь нет доказательств, однако существует совокупность различных аргументов. Рациональные аргументы в богословии – это не единственная последовательность идей, подобная цепи, прочность которой определяется ее самым слабым звеном. Напротив, они сотканы из множества нитей, словно канат, который во много раз крепче своей самой крепкой нити283. Или, если использовать введенную ранее аналогию, религиозные верования сходны с сетью, которая не свободна, а связана во многих точках с опытом общины.
Приложимы ли эти же критерии к сравнительной оценке религиозных традиций? Ниниан Смарт называет мировые религии «экспериментами в жизни»284. Можно ли говорить о том, насколько один из этих экспериментов успешнее других? С точки зрения первого из вышеизложенных критериев, представляется, что каждая группа религиозных верований согласуется с опытом, однако все они избирательно концентрируются на различных его составляющих. Далее, в каждой из них существуют разработанные связные верования, согласующиеся со своим наследием и выражаемые в своих преданиях и обрядах. Кроме того, в каждой традиции мыслители разработали ряд всеобъемлющих и широкомасштабных концептуальных систем. Во всех основных религиозных традициях в той или иной мере происходит и трансформация индивидуальной жизни.
Что касается этических последствий, то во всем мире существует как святость, так и лицемерие. Во всех традициях превозносятся идеалы любви, однако реализуются они лишь редкими людьми или монашескими орденами и относительно небольшими общинами – хотя этот идеал может влиять на жизнь миллионов. В реальной истории каждой общины мы видим как насилие, жестокость и жадность, так и сострадание, примирение и приверженность справедливости. В наследии каждой из них присутствуют свои сильные и слабые стороны, свои добродетели и искушения. Можно, конечно, пытаться сравнивать их в контексте идеалов. Однако такие оценки неизбежно оказываются неоднозначны и отражают нормы, принятые в нашей собственной традиции285.
Я полагаю, что христианская традиция, в принципе, может соответствовать этим критериям лучше, чем другие традиции, однако должен признать, что она редко использовала этот потенциал. Я способен учиться у других традиций, высоко ценить их этическую чувствительность, медитативные практики, модели Бога, которые могут стать частью моей жизни. Но даже пытаясь учиться у них, я остаюсь аутсайдером, чье понимание фрагментарно, и поэтому я не в силах их оценивать. С конфессиональной позиции я в состоянии высказать суждение лишь о своей собственной жизни и жизни христианской общины, а моя основная задача состоит в том, чтобы откликаться на глубочайшие озарения моего собственного наследия286.
Различия между религиями слишком велики, чтобы мы могли принять тезис о единстве сути, несмотря на стремление к универсализму в глобальный век. Позиций приближения к истине также представляется достаточно проблематичной, поскольку верования и критерии сильно зависят от парадигмы. Конечно, ее можно отстаивать, опираясь на откровение, которое не имеет параллелей в науке. Опасности абсолютизма можно избежать, если не отождествлять откровение с непогрешимыми писаниями, богоданными доктринами и авторитетными институтами. Если откровение проявляется в жизни отдельных людей, то необходимо признать, что богословие является продуктом человеческого разума, и что церковь подвержена ошибкам, свойственным человеку.
Плюралистский диалог позволяет нам признавать исключительность откровения и спасения во Христе, не отрицая при этом возможности откровения и спасения в других традициях. Он отличается от позиции приближения к истине своей большей готовностью признать возможность определенной божественной инициативы в иных традициях. Он также идет дальше в признании исторической обусловленности категорий, с помощью которых мы осуществляем интерпретацию. Однако, с другой стороны, он отличается от культурного релятивизма тем, что настаивает на существовании неких критериев оценки, в силу чего дает меньше оснований для скептицизма.
В частности, первые три критерия, действительно, в некоторых отношениях сходны с научными, даже если их приложение более неоднозначно и в большей мере обусловлено парадигмами. Если рассматривать лишь непознавательные функции религиозного языка, такие как личная трансформация или литургическая служба, то можно прийти к полному релятивизму, поскольку здесь невозможны никакие истинные утверждения относительно действительности. Но если религиозный язык, на самом деле, способен на скрытые и явные утверждения относительно действительности, пусть временные и неполные, то мы не можем отказаться от использования критериев оценки концепций и верований. Критическое размышление на основании таких критериев мотивируется, в первую очередь, нашим стремлением к истине, а не желанием доказать свое превосходство над другими. Однако оно подразумевает и то, что терпимость, все же, ограничена. Мы не можем отбросить необходимость оценивать такие вещи, как каннибализм, сатанизм или нацизм, а также ставить под сомнение то, что представляется нам неправильным в других религиозных традициях.
Быть может, плюралистский диалог ближе к релятивизму, чем к абсолютизму, однако его необходимо отличать и от того, и от другого. Он освобождает от поиска определенности, который является одной из мотиваций абсолютизма. Мы уже говорили, что определенность невозможна даже в науке и что любое понимание обусловлено исторически. Однако у нас нет необходимости прибегать и к скептицизму, к которому ведет крайний релятивизм в интерпретации как науки, так и религии. Такой скептицизм в конечном итоге разрушил бы баланс теоретических построений и опыта как в научной, так и в религиозной общине. Из всех прочих альтернатив этот путь открывает наилучшие перспективы для религиозного сотрудничества в глобальный век.
Плюралистский диалог между религиями можно сравнить с диалогом между наукой и религией, имея в виду проблематику и методологические параллели (глава 4). Однако он сопоставим и с более тесной интеграцией между наукой и религией (которую предлагают естественное богословие, богословие природы и систематический синтез). Критический реализм способствует такой интеграции, поскольку он полагает, что ряд положений обеих дисциплин применим к общему для них миру. Инструменталисты считают, что разноплановые идеи выполняют различные функции в жизни; сторонники лингвистического анализа настаивают на существовании независимых языковых игр, имеющих между собой мало общего. Однако приверженцы критического реализма утверждают, что и теории в науке, и верования в богословии способны делать определенные уверения относительно действительности, и что хотя бы в некоторых точках эти утверждения связаны друг с другом. Некоторые из этих взаимосвязей я исследую в третьей части книги.
* * *
John Haught в книге Science and Religion: From Conflict to Conversation (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1995) иначе выстраивает темы двух моих последних категорий и использует следующие термины: «конфликт», «противопоставление», «контакт» и «подтверждение».
Carl Sagan, Cosmos (New York: Random House, 1980), p. 4. См. также: Thomas W. Ross, «The Implicit Theology of Carl Sagan», Pacific Theological Review 18 (Spring I985): 24–32.
Francis Crick, Of Molecules and Men (Seattle: Univ, of Washington Press, 1966), p. 10. См. также: The Astonishing Hypothesis; The Scientific Search for the Soul (New York: Charles Scribner’s Sons, 1994).
Jacques Monod, Chance and Necessity (New York: Vintage Books, 1972), p. 180.
Выступления Моно на ВВС, цит. по: Beyond Chance and Necessity, ed. John Lewis (London: Garnstone Press, 1974), p. ix.
Arthur Peacocke, Creation and the World of Science (Oxford: Clarendon Press, 1979), chap. 3.
Edward O. Wilson, Sociobiology: The New Synthesis (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1975). p. 4.
Edward O. Wilson, On Human Nature (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1978), chaps. 8, 9.
См. эссе Маршалла Салинса (Marshall Sahlins), Рут Маттерн (Ruth Mattern), Ричарда Бюриана (Richard Burian) и других в книге: The Sociobiology Debate, ed. Arthur Caplan (New York: Harper & Row, 1978).
Daniel Dennett, Consciousness Explained (New York: Little Brown, 1991), p. 33; Dennett, Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life (New York: Simon & Schuster, 1995).
См.: Haught, Science and Religion, chap. 4.
Henry Morris, ed. Scientific Creationism, 2d ed. (El Cajun, CA: Master Books, 1985).Текст решения по делу «Мак–Лин против Арканзаса», а также статьи нескольких участников процесса опубликованы в: Science,Technology & Human Values 7 (Summer 1982).
См. Langdon Gilkey, Creationism on Trial (Minneapolis: Winston Press, 1985); Roland Frye, ed., is God a Creatianist The Religious Case Against Creation–Science (New York: Charles Scribner’s Sons, 1983).
См. Philip Kitcher, Abusing Science: The Case Against Creationism (Cambridge: МГТ Press, 1982); Michael Ruse, Darwinism Defended: A Guide to the Evolution Controversies (Reading, MA: Addison–Wesley, 1982).
Phillip Johnson, Darwinism on Trial (Downer's Grove, IL: Intervarsity Press, 1991), and Reason in the Balance. The Case Against Naturalism in Science, Law and Education (Downer's Grove, IL InterVarsity Press, 1995).
Richard Н. Bube, Putting It All Together: Seven Patterns for Relating Science and the Christian Faith (Lanham. NY: University Press of America, 1995); Howard van Til, The Fourth Day: What The Bible and the Heavens Are Telling Us About the Creation (Grand Rapids: Eerdmans, 1986).
Хорошим введением служит книга: Karl Barth, Dogmatics in Outline (New York: Harper & Row, 1949). См. также: W.А. Whitehouse, Christian Faith and the Scientific Attitude (New York: Philosophical Library, 1952).
Rudolf Bultmann, Jesus Christ and Mythology (New York: Charles Scribner's Sons, 1958).
Gilkey, Creationism on Trial, pp. 108–116. См. также его книгу: Maker of Heaven and Earth (Garden City, NY: Doubleday, 1959).
Langdon Gilkey, Religion and the Scientific Future (New York: Harper & Row, 1970), chap. 2; Nature, Reality and the Sacred: The Nexus of Science and Religion (Minneapolis: Fortress Press, 1993).
Thomas Torrance, Theological Science (Oxford: Oxford Univ. Press, 1969), p. 281.
Полезные обзоры даны в: Frederick Ferre, Language, Logic, and Cod (New York: Harper and Brothers, 1961) и William H. Austin, The Relevance of Natural Science to Theology (London: Macmillan, 1976). См. также: Stephen Toulmin, The Return to Cosmology (Berkeley and Los Angeles: Univ, of California Press, 1982), part I.
Frederick Streng, Understanding Religious Life, 3d ed. (Belmont, CA: Wadsworth, 1985).
George Lindbeck, The Nature of Doctrine: Religion and Theology in a Postliberal Age (Philadelphia: Westminster Press, 1984), p. 22.
Arthur Eddington, The Nature of the Physical World (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1928), p. 16.
Alfred North Whitehead, Science and the Modern World (NewYork: Macmillan, 1925), chap. 1; Stanley L. Jaki, The Road of Science and the Ways to Cod (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1978).
Christopher Kaiser, Creation and the History of Science (Grand Rapids: Eerdmans, 1991); «Scientific Work in its Theological Dimensions: Toward a Theology of Natural Science», in Facets of Faith and Science, vol. 1, ed. Jitse van der Meer (Lanham, MD: University Press of America, 1996).
Thomas Torrance, «God and the Contingent World», Zygon 14 (I979): 347. См. также его книгу: Divine and Contingent Order (Oxford: Oxford Univ. Press, 1981).
Wolfhart Pannenberg, Theology and the Philosophy of Science (PhiladelphiaPress, I976).
Ernan McMullin, «Natural Science and Christian Theology», in Religion, Science and the Search for Wisdom, ed. David Byers (Washington. DC: National Conference of Catholic Bishops, 1987). См. также его работу: «Introduction: Evolution and Creation», in Evolution and Creation, ed. Ernan McMullin (Notre Dame: Univ, of Notre Dame Press, 1985).
Ernan McMullin, «How Should Cosmology Relate to Theology?», in The Sciences and Theology in the Twentieth Century, ed. Arthur Peacocke (Notre Dame: Univ. of Notre Dame Press, 1981), p. 39.
Karl Rahner, Foundations of Christian Faith (New York: Seabury, 1978); Gerald McCool, ed., A Rahner Reader (New York Seabury, 1975); Leo ÓDonovan, ed., A World of Croce: An Introduction to the Themes and Foundations of Karl Rahner's Theology (New York: Seabury, 1980).
Karl Rahner, «Christology within an Evolutionary View of the World», Theological Investigations. vol. 5 (Baltimore: Helicon Press, 1966). См. также: Hominization: The Evolutionary Origin of Man as a Theological Problem (New York: Herder and Herder, 1965).
David Tracy, Blessed Rage for Order (New York: Seabury. 1975). См. также: Plurality and Ambiguity (San Francisco: Harper & Row, 1987).
Ian G. Barbour, Myths. Models, and Paradigms (New York: Harper & Row, 1974); Sallie McFague, Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language (Philadelphia: Fortress Press, 1982); Janet Soskice, Metaphor and Religious Language (Oxford: Clarendon Press, 1985); Mary Gerhart and Allan Russell, Metaphorical Process (Fort Worth: Texas Christian Univ. Press, 1984).
Thomas S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2d ed. (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1970). [Рус. перевод: «Структура научных революций», 1977].
Toulmin, Return to Cosmology, part III.
Michael Polanyi, Personal Knowledge (Chicago: Univ. of Chicago Press, 1958).
Polanyi, «Faith and Reason», Journal of Religion 41 (1961): 244.
John Polklnghorne, One World: The Interaction of Science and Theology (Princeton: Princeton Univ. Press, 1987), p. 64. См. также его книгу: Science and Creation (London: SPCK, 1988).
Holmes Rolston, Science and Religion: A Critical Survey (New York: Random House, 1987).
Loren Eiseley, The Immense Journey (New York: Random House, 1946), p. 210.
Aldo Leopold, A Sand County Almanac (New York: Oxford Univ. Press, 1949).
Annie Dillard, Pilgrim at Tinker Creek (New York: Harper & Row, 1974), p. 146.
Matthew Fox, Original Blessing (Santa Fe: Bear & Co, 1983) и Creation Spirituality (San Francisco: Harper San Francisco, 1991).
Brian Swimme and Thomai Berry, The Universe Story (San Francisco: Harper San Francisco, 1990).
Charlene Spretnak, «Ecofeminism: Our Roots and Flowering», и Starhawk, «Power, Authority, and Mystery: Ecofeminism and Earth–based Spirituality», in Reweaving the World: The Emergence of Ecofeminism, ed. Irene Diamond and Gloria Feman Orenstein (San Francisco: Sierra Club Books, 1990); Judith Plant, ed., Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism (Philadelphia: New Society Publishers, 1989); Carol Adams, ed., Ecofeminism end the Sacred (New York: Continuum, 1995).
David Bohm, Wholeness and the Implicate Order (Boston: Routledge & Kegan Paul, 1980).
Fritjof Capra, The Tao of Physics (New York: Bantam Books, 1977).
Marilyn Ferguson, The Aquarian Conspiracy (Los Angeles: J.P. Tarcher, 1980); Ted Peters, The Cosmic Self: A Penetrating Look at Today's New Age Movements (San Francisco: HarperSanFrancisco, 1991); Ted Schultz, ed., The Fringes of Reason: A Whole Earth Catalog (New York: Harmony Books, 1989).
F. R. Tennant, Philosophical Theology, vol. 2 (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1930).
См., напр.: W. N. Clarke, S.J., «Is Natural Theology Still Possible Today?» in Physics, Philosophy, and Theology: A Common Quest For Understanding, ed. Robert J. Russell, William R. Stoeger, S.J., and George V. Coyne, S.J. (The Vatican: Vatican Observatory, and Notre Dame: Univ, of Notre Dame Press, 1988).
Richard Swinburne, The Existence of God (Oxford: Clarendon Press, 1979), p. 291.
Stephen W. Hawking, A Brief History of Time (New York: Bantam Books, 1988), p. 291.
Freeman Dyson, Disturbing the Universe (New York: Harper & Row, 1979). См. также: Paul Davies, The Mind of Cod: The Scientific Basis for a Rational World (New York: Simon & Schuster, 1992).
John Barrow and Frank Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (Oxford and New York: Oxford Univ. Press, 1986).
John Leslie, Universes (London and New York: Routledge, 1989).
Hugh Montefiore, The Probability of Cod (London: SCM Press, 1985).
Arthur Peacocke, Theology for a Scientific Age, enlarged edition (Minneapolis: Fortress Press, 1993).
Pierre Teilhard de Chardin, The Phenomenon of Man (New York: Harper & Row, 1959). [Рус перевод: П. Тейяр де Шарден, Феномен человека (М., 1994)]. Я писал о работах Тейяра в статьях: «Five Ways of Reading Teilhard», Soundings 51 (1968): 115–145 и «Teilhard’s Process Metaphysics», Journal of Religion 49 (1969): 136–159.
См., напр., James А. Nash, Loving Nature: Ecological Integrity and Christian Responsibility (Nashville: Abingdon Press, 1991).
Ian G. Barbour, cd., Earth Might Be Fair: Reflections on Ethics, Religion and Ecology (Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1972); Technology, Environment and Human Values (New York: Praeger, 1980), chap. 3; Ethics in an Age of Technology (San Francisco: Harper San Francisco, 1993), chap. 3; «The Church in an Environmental Ages, in Creation as Beloved of Cod, ed. Rodney Petersen and Donald Conroy (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press, 1997).
Charles Hartshorne, The Divine Relativity (New Haven: Title Univ. Press, 1948).
Charles Birch and John B. Cobb, Jr., The Liberation of Life (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1981).
John B. Cobb, Jr. and David Ray Griffin, Process Theology: An Introduction (Philadelphia: Westminster Press, 1976), p. 94. См. также: L Charles Birch, Nature and God (London: SCM Press, 1965).
Несколько разделов этой главы представляют собой переработанные части моих предыдущих книг: Ian G. Barbour, Issues in Science and Religion (Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1966) и Myths, Models, and Paradigms (New York: Harper & Row, 1974). Вновь написанные отрывки обозначены в примечаниях.
Carl G. Hempel, Philosophy of Natural Science (Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1966); Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery (London: Hutchinson’s Univ. Library, 1956).
W.V. Quine, «Two Dogmas of Empiricism», в его книге: From a Logical Point of View, 2d ed. (New York: Harper Torchbooks, 1963).
N.R. Hanson, Patterns of Discovery (Cambridge: Cambridge Univ. Press. 1958); Michael Polanyl, Personal Knowledge (Chicago: Univ, of Chicago Press, 1958).
Thomas 5. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2d ed. (Chicago: Univ, of Chicago Press, 1970).
См., напр.: Frederick J. Streng. Understanding Religious Life (Belmont, CA: Dickenson, 1976); Ninian Smart, Worldviews (New York: Charles Scribner's Sons, 1983).
Мирча Элиаде, Священное и мирское. Пар. с французского Н.К. Гарбовского (Москва, 1994).
Bhagavad Gita, trans. Swami Prabhavananda and Christopher Isherwood (New York: New American Library, 1972); David Kinsley, Hinduism (Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall, 1982).
В главе 3 книги Myths, Models, and Paradigms, я обсуждаю работы Мэри Хессе (Hesse), Макса Блэка (Black), Ричарда Брэйтуэйта (Braithwaite), Петера Ахинштайна (Achinstein) и других авторов, посвященные научным моделям. См. также: W.H. Leatherdale, The Role of Analogy, Model and Metaphor in Science (New York: American Elsevier, 1974).
Niels Bohr, Atomic Theory and the Description of Nature (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1934), p.96.
См. Barbour, Issues in Science and Religion, pp. 162–174; см. также Myths, Models, and Paradigms, pp. 34–38.
Larry Laudan, «А Confutation of Convergent Realism», in Scientific Realism, ed. Jarret Leplin (Berkeley and Los Angeles: Univ, of California Press, 1984).
Ian Hacking, Representing and Intervening (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1983); Michael Devitt, Realism and Truth (Princeton: Princeton Univ. Press, I984); James T. Cushing, C.F. Delaney, and Gary Gutting, eds., Science and Reality (Notre Dame: Univ, of Notre Dame Press, 1984); Ron Harré, Varieties of Realism (Oxford: Basil Blackwell, 1986); and Hilary Putnam, The Many Faces of Realism (LaSalle, IL Open Court, 1987).
Ernan McMullin, «А Casa for Scientific Realism», in Scientific Realism, ed. Leplin, p. 39.
В главе 4 книги Myths, Models, and Paradigms, я обсуждаю работу Яна Рэмси (Ramsey) и Фредерика Ферре (Ferré), посвященные моделям в религии, а также развиваю теорию религиозных моделей. Кроме того, тема моделей обсуждается в книге: Earl MacCormac, Metaphor and Myth in Science and Religion (Durham, NC: Duke Univ. Press, 1976).
Richard Braithwaite, Аn Empiricist's View of the Nature of Religious Belief (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1955); см. также William H. Austin, The Relevance of Natural Science to Theology (London: Macmillan, 1976), chap. 3.
Janet Soskice, Metaphor and Religious Language (Oxford: Clarendon Press, 1985).
Frank Brown, «Transfiguration: Poetic Metaphor and Theological Reflection», Journal of Religion 62 (1982): 39–56; см. также его книгу: Transfiguration: Poetic Metaphor and the Language of Religious Belief (Chapel Hill: Univ. of North Carolina Press, 1983).
Barbour, Myths, Models, and Paradigms, pp. 56–60.
Ninian Smart, The Concept of Worship (London: Macmillan, 1972), и Worldviews, chap. 3.
Winston King, Introduction to Religion: A Phenomenological Approach (New York: Harper & Row, 1968). p. 165.
Ninian Smart, Reasons and Faiths (London: Routledge & Kegan Paul, 1958).
Sallie McFague, Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language (Philadelphia: Fortress Press, 1982).
Sallie McFague. Models of God: Theology for an Ecological, Nuclear Age (Philadelphia: Fortress Press, 1987).
Kuhn, Structure of Scientific Revolutions, p. 147.
См. Barbour, Myths, Models, and Paradigms, chap. 6.
См. также Polanyi, Personal Knowledge.
Harold Brown, Perception, Theory and Commitment The New Philosophy of Science (Chicago: Univ, of Chicago Press, 1977).
Brown, Perception, Theory and Commitment, p. 167.
Brown, Perception, Theory and Commitment, p. 167.
Frederick Streng, «Lens and insight: Paradigm Changes and Different Kinds of Religious Consciousness» (Plenary address to Second Conference on East–West Religions In Encounter, «Paradigm Shifts In Buddhism and Christianity», Hawaii Loa College, Oahu, Hawaii, Jan. 4, 1984).
Hans Küng, «Paradigm Change in Theology», in Paradigm Change in Theology, ed. Hans Küng and David Tracy (Edinburgh: T. & T. Clark. 1989).
Stephan Pfürtner, «The Paradigms of Thomas Aquinas and Martin Luther: Did Luther's Message of Justification Mean a Paradigm Shift?» in Paradigm Change In Theology, ed. Küng and Tracy.
Kuhn, Structure of Scientific Revolutions; Polanyi, Personal Knowledge; W. D. King, «Reason, Tradition, and the Progressiveness of Science», in Paradigms and Revolutions, ed. Gary Gutting (Notre Dame: Univ, of Notre Dame Press, 1980).
Mark Blaug, «Kuhn versus Lakatos, or Paradigms versus Research Programs in the History of Economics», in Paradigms and Revolutions, ed. Gutting.
Richard Vernon, «Politics as Metaphor: Cardinal Newman and Professor Kuhn», in Paradigms and Revolutions, ed. Gutting.
Imre Lakatos, «Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes», in Criticism and the Growth of Knowledge, ed. I. Lakatos and A. Musgrave (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1970). См. также: Lakatos, Philosophical Papers, vol. 1, ed. John Worall and Gregory Currie (Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1978).
См. William Austin, «Religious Commitment and the Logical Status of Doctrines», Religious Studies 9 (1973): 39–48.
Nancey Murphy, Theology in the Age of Scientific Reasoning (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1990); «Acceptability Criteria for Work in Theology and Science», Zygon 22 (1987): 279–297.
Gary Gutting, Religious Belief and Religious Skepticism (Notre Dame: Univ, of Notre Dame Press, 1982), chap. 5.
Basil Mitchell, The Justification of Religious Belief (London: Macmillan, 1973), chaps. 5–8.
Н. Richard Niebuhr, The Meaning of Revelation (New York: Macmillan, 1941).
Paul Tillich, Systematic Theology (Chicago: Univ, of Chicago Press, 1957), 2:165–168.
Carl Becker. «What Are Historical Facts?», in The Philosophy of History in Our Time. ed. H. Meyerhoff (New York: Doubleday, 1959) p. 132.
William Dray, Laws and Explanation in History (Oxford: Oxford Univ. Press, 1957), p. 150.
R. G. Collingwood, The Idea of History (London: Oxford Univ. Press, 1946), part V.
Peter Winch, The idea of a Social Science (London: Routledge & Kegan Paul, 1958).
C. G. Hempel, «The Function of General Laws in History», in Readings in Philosophical Analysis, ed. H. Feigl and W. Sellars (New York: Appleton–Century–Crofts, 1949), p. 459.
William Dray, Philosophy of History (Englewood Cliffs, NJ: Prentice–Hall. 1964); Patrick Gardiner, ed., Theories of History (Glencoe, IL: Free Press, 1959).
Terence Bell, «On Historical Explanations, Philosophy of Social Science 2 (1972): 182ff.
Holmes Rolston, Science and Religion: A Critical Survey (New York: Random House, 1987), chap. 6.
Gordon Graham, Historical Explanation Reconsidered (Aberdeen, Scotland: Aberdeen Univ. Press. 1983).
Stephen Toulmin, Human Understanding: The Collective Use and Evolution of Concepts (Princeton: Princeton Univ. Press. 1972). chaps. 2 and 6.
Phillip Clayton, Explanation from Physics to Theology (New Haven: Yale Univ. Press, 1989).
Paul Ricoeur, Time and Narrative, vol. 1 (Chicago: Univ, of Chicago Press, 1984).
См. James B. Wiggins, ed., Religion as Story (New York: Harper & Row, 1975); Michael Goldberg, Theology and Narrative: A Critical Introduction (Nashville: Abingdon Press, 1982); Gary Comstock, «Two Types of Narrative Theology», Journal of the American Academy of Religion 55 (1987): 687–720.
David Tracy, The Analogical Imagination: Christian Theology and the Culture of Pluralism (New York: Crossroad Press, 1981).
Hans Frei, The Eclipse of Biblical Narrative (New Haven: Yale Univ. Press, 1974).
Sallie McFague TeSelle, Speaking in Parables: A Study in Metaphor and Theology (Philadelphia: Fortress Press, 1975); John Dominic Crossan, in Parables: The Challenge of the Historical Jesus (New York: Harper & Row, 1973).
H. Richard Niebuhr, The Meaning of Revelation (New York: Macmillan, 1981).
James McClendon, Biography as Theology: How Life Stories Can Remake Today's Theology (Nashville: Abingdon, 1974).
Stanley Hauerwas, A Community of Character (Notre Dame: Univ, of Notre Dame Press, 1981).
Van Harvey, The Historian and the Believer (New York: Macmillan, 1966).
Goldberg, Theology and Narrative, p. 240.
Roy MacLeod, «Changing Perspectives in the Social History of Science», in Science, Technology, and Society, ed. Ina Splegel–Rosslng and Derek Price (Beverly Hills: Sage Publications, I977); Sal Restivo, «Some Perspectives in Contemporary Sociology of Science», Science, Technology & Human Values 35 (Spring 1981): 22–30.
J. R. Ravetz, Science and Its Social Problems (Oxford: Oxford Univ. Press. 1971).
Barry Barnes, Interests and the Growth of Knowledge (London: Routledge & Kegan Paul, 1977); David Bloor, Knowledge and Social Imagery (London: Routledge & Kegan Paul, 1966); Karin Knorr–Cetlina, The Manufacture of Knowledge (Oxford: Pergamon, 1981); Karin Knorr–Cetina and Michael Mulkay, eds., Science Observed (Beverly Hills: Sage, 1989).
Магу Hesse, «Cosmology as Myth», in Cosmology and Theology, ed. David Tracy and Nicholas Lash (New York: Seabury, 1983); Idem, Revolutions and Reconstructions in the Philosophy of Science (Bloomington: Indiana Univ. Press, 1980), chap. 2.
Paul Forman, «Weimar Culture, Causality and Quantum Theory, 1918–1927», Historical Studies In Physical Science 3 (1971): I.
Andrew Pickering, Constructing Quarks (Chicago: Univ, of Chicago Press, 1984).
Rubem Alves, «Оп the Eating Habits of Science»; «Biblical Faith and the Poor of the World», in Faith and Science in an Unjust World, ed. Roger Shinn (Geneva: World Council of Churches, 1980).
Gustavo Gutiérrez, A Theology of Liberation (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1975); José Miguez–Bonino, Doing Theology In a Revolutionary Situation (Philadelphia: Fortress Press, 1975).
См. Robert McAfee Brown, Theology in a New Key (Philadelphia: Westminster Press, 1978).
Haпp., James H. Cone, God of the Oppressed (New York: Seabury, 1975).
Ruth Bleler, Science and Cender: A Critique of Biology and Its Theories of Women (New York: Pergamon Press, 1984).
Helen Longino, «Scientific Objectivity and Feminist Theorizing», Liberal Education 67 (1981): 187–195. См. также: Ruth Hubbard, «Have Only Men Evolved?» in Biological Woman: The Convenient Myth, ed. R. Hubbard, M. Henifin, and B. Fried (Cambridge, MA: Schenkman, 1982).
Evelyn Fox Keller, A Feeling for the Organism (San Francisco: Freeman, 1985); Reflections on Gender and Science (New Haven: Yale Univ. Press. 1984).
Sandra Harding, The Science Question in Feminism (Ithaca: Cornell Univ. Press, 1986), p. 250.
Carolyn Merchant, The Death of Nature: Women, Ecology, and the Scientific Revolution (New York: Harper & Row, 1980).
Nancy Chodorow, The Reproduction of Mothering (Berkeley and Los Angeles: Univ, of California Press. 1978); см. также Keller, Reflections on Gender and Science, chaps. 4, 5, and. 6.
Напр., Letty Russell, Feminist Interpretations of the Bible (Philadelphia: Westminster, 1985).
Rosemary Radford Ruether, New Woman/New Earth (New York: Seabury Press, 1975); Sexism and God–Talk (Boston: Beacon Press, 1983).
Mary Daly, Beyond God the Father (Boston: Beacon Press, 1973); Carol Christ and Judith Plaskow, eds., Womanspirit Rising (San Francisco: Harper & Row, 1979).
Richard Swlnbum, «The Evidential Wlue of Religious Experience», in The Sciences and Theology in the Twentieth Century, ed. Arthur Peacocke (Notre Dame: Univ, of Notre Dame Press. 1981), p. 190. См. также его книгу: The Existence of God (Oxford: Oxford Univ. Press, 1979), chap. 13.
William Alston, «Christian Experience and Christian Belief», in Faith and Rationality, ed. A. Plantings and N. Wolsterhoff (Notre Dame: Univ, of Notre Dame Press, 1983).
Steven Katz, «Language, Epistemology, and Mysticisms, in Mysticism and Philosophical Analysis, ed. S. Katz (Oxford: Oxford Univ. Press, 1978), p. 46. См. также: Richard Jones, «Experience and Conceptualization in Mystical Knowledges, Zygon 18 (1983): 159–165.
Peter Donovan, Interpreting Religious Experience (London: Sheldon Press, 1979), p. 35.
Donovan, Interpreting Religious Experience, p. 72.
Ninlan Smart, «Interpretation and Mystical Experiences, Religious Studies 1 (1965): 75, 79. См. также его работу «Understanding Religious Experiences, in Mysticism and Philosophical Analysis, ed. Katz.
Barbour, Myths, Models, and Paradigms, chap. 7.
См. критику a pa6oтax: William Rottschaefer, «Religious Cognition as Interpreted Experience: An Examination of Ian Barbour's Comparison of Epistemic Structures of Science and Religion», Zygon 20 (1985): 265–281
John E. Smith, Experience and God (Oxford: Oxford Univ. Press, 1969), pp. 52, 84.
О религиозном плюрализме см.: Owen Thomas, ad., Attitudes Toward Other Religions (New York University Press of America, 1986); John Hick end Brian Hebblethwaite, eds., Christianity and Other Religions (Philadelphia: Fortress Press, 1980).
John Hick, God Hos Many Names (Philadelphia: Westminster Press, 1982), p. 52.
Hick, God Hos Many Names, p. 75.
John Hick, Problems of Religious Pluralism (New York: St. Martin's Press, 1985), chap. 3.
John Cobb, Beyond Dialogue (Philadelphia: Fortress Press, 1982) – исследование вопроса о том, как христианство и буддизм могут учиться друг у друга и способствовать взаимному усовершенствованию.
Paul F. Knitter, No Other Name? A Critical Survey of Christian Attitudes Toward the World Religions (Maryknoll, NY: Orbis Books, 1986); John Hick and Paul F. Knitter, eds., The Myth of Christian Uniqueness: Toward a Pluralistic Theology of Religions (Maryknoll, NY; Orbis Books, 1987).
О метафоре цепи и каната см.: Charles Sanders Peirce, Collected Papers of Charles Sanders Peirce, ed. Charles Hartshorne and Paul Weiss (Cambridge: Harvard Univ. Press, 1931–1935) 5:264.
Ninian Smart, Worldviews (New York: Charles Scribner's Sons, 1983), p. 170.
См. Hick, Problems of Religious Pluralism, chap. 5.
О конфессионализме и опасностях, связанных с попытками доказать превосходство, см.: Н. R. Niebuhr, The Meaning of Revelation, chap, I.
