Церковно-религиозная жизнь и богословская мысль в России по запискам Пальмера
Сороковые годы составляют замечательный период в истории умственного развития русского народа. Это было время богатого расцвета самобытной русской мысли, которая, свободная еще от мертвящих оков иноземщины, вольно питалась соками родной почвы и выразилась в целой плеяде талантов, немногие представители которой до сих пор служат лучшими и высшими выразителями самобытного русского гения. Если не наука, имеющая общечеловеческий характер, то наша литература, в которой естественно находит высшее выражение народный гений, может с гордостью указывать на этот период, и при сравнении с ним теперешнего переживаемого нами времени почти невероятного оскудения русской литературы – нашей критике следовало бы не предаваться бесплодным сетованиям о самом факте оскудения, а смело взглянуть на те причины, благодаря которым оскудела и измельчала русская мысль. Самый факт оскудения не подлежит сомнению. Он признан всеми и на все лады повторяется в бесчисленных иеремиадах искренних и наемных плакальщиков нашей литературной критики. Но причины еще далеко не выяснены и относительно их существует такая путаница понятий, что в большинстве их ищут в том, что составляет нашу национальную силу, и врачевание от зла в том, что служит источником зла. Мы разумеем ту, к сожалению преобладающую в настоящее время, литературную партию, в устах которой самое понятие самобытности, на почве которой только и может развиваться здоровый национальный гений, превращено в плоско-ироническое прозвище «самобытников». Между тем в самобытности только и может быть найдено целебное средство против захудалости современной русской мысли, томящейся под гнетом иноземщины. В последнее время, по видимому, наступает поворот в сознании лучшей части нашего интеллигентного общества и, можно надеяться, в недалеком будущем мы опять войдем в норму нашего естественного развития, русская мысль оправится от худосочия и общественное сознание прояснится настолько, что уже невозможны будут такие факты безумного самооплевания, свидетелями которого мы недавно были по случаю столетнего юбилея одного из великанов русской самобытной мысли, типического гения сороковых годов, митрополита Филарета Московского. Образ великого митрополита, величаво живущий в здоровом сознании русского народа, но расплывающийся в призрачную тень в недомыслии нашей либеральничающей интеллигенции, тем и велик, что он складывается из высших элементов народного духа, беспрепятственно выразившегося в период сороковых годов.
В виду изложенного этот период, несомненно, имеет высокий исторический интерес и всякий материал, который может служить к лучшему ознакомлению с ним, составляет ценный вклад в сокровищницу нашего самопознания. Но интерес материала еще более возвышается, когда последний дается человеком, стоящим вне сферы обычных отношений, часто накладывающих слишком заурядную печать на самые видные явления. Такой материал дан в недавно вышедшей книге англичанина Пальмера, о которой уже вкратце говорилось в нашем журнале. Эта книга, составляющая дневник Пальмера во время его пребывания в России в начале сороковых годов, вводит нас во внутреннее святилище тогдашних богословских идей и религиозных воззрений как представителей Церкви, так и лиц светского общества. Как в общем литературном, так и в богословском отношении сороковые годы составляют также период замечательной работы самобытной русской богословской мысли. К этому периоду принадлежат наши лучшие богословские мыслители, оставившие нам поучительный и вместе утешительный памятник, что православно-богословская мысль у нас может быть вполне самостоятельной и может развиваться из самобытных православных русских начал, и чем больше из них, тем лучше, так как рабская зависимость, в которую в последнее время наша богословская наука стала от иноземного и по преимуществу немецкого богословия, убивает нашу собственную богословскую мысль. Материал, данный в книге Пальмера, тем более интересен, что он имеет дело с таким важным вопросом, который всегда способен вызывать наибольшую энергию богословствующей мысли, именно с великим вопросом о соединении церквей. В записках нашего автора высказываются по этому вопросу все лучшие представители нашей богословской мысли тогдашнего времени, с Филаретом Московским во главе, и мы прямо переходим теперь к самой книге, извиняясь перед читателями в неумышленном отвлечении их от книги случайно навеянными мыслями о путях нашего умственного развития.
Книга Пальмера представляет собой простой дневник автора в его сношениях с современными ему представителями русской Церкви и общества, и потому отличается всею безыскусственностью и вместе непосредственностью подобного рода произведений. Тем она ценнее для нас, и при изложении её мы будем держаться той же непосредственности, следя просто за дневником автора и сообщая из него все наиболее выдающееся и характерное. Изложение это, впрочем, мы будем сопровождать своими замечаниями, необходимыми для лучшего уяснения руководящих воззрений самого автора, обусловливавшихся известным течением современной ему богословской мысли в Англии.
§ I
Религиозное движение в Англии. Направление богословской мысли в Оксфордском университете. Теория ветвей единой кафолической Церкви. Пальмер и его мысль о ближайшем ознакомлении с православным востоком. Петиция покойному Государю Александру II. Поездка в Россию.
В тридцатых годах текущего столетия в Англии происходило знаменательное религиозное движение. Англиканская церковь, развиваясь постепенно в направлении протестантизма, наконец довела процесс протестантизирования до такой степени, что невольно содрогнулись все лучшие её друзья, желавшие видеть в ней не какую-либо из заурядных протестантских сект, а одну из ветвей кафолической или вселенской Церкви. Вследствие такого сознания естественно началась реакция, и она выразилась в известном так называемом «Оксфордском» движении. Движение это зародилось в классическом седалище английской учености, в Оксфордском университете, не только тогда, но и до сих пор, можно сказать, владеющем исключительной монополией инициативы умственных движений английского народа. В среде его профессоров, между которыми, благодаря своеобразной системе их избрания советом попечителей, только и могут быть серьезные и потому самому консервативные мыслители, прежде всего осознаны были ненормальные условия, в которые становилась англиканская церковь благодаря неумеренному допущению элементов протестантизма. Действительно, достаточно было простого, невооруженного взора, для того чтобы видеть, насколько англиканская церковь начала нынешнего столетия уклонилась не только от римско-католической церкви, от которой она только два столетия отделилась пред тем, но и от того типа независимой «кафолической» церкви, какой она по идее должна бы быть по освобождении от церковной монополии Рима. Это встревожило серьезных, консервативных ученых Оксфорда. Чтобы насколько возможно остановить дальнейшее развитие протестантских начал в англиканской церкви, профессоры университета образовали между собой общество, целью которого было распространение в народе здравых церковных начал. Но где было искать этих здравых церковных начал? Как серьезные люди, оксфордские ученые обратились за ними к неисчерпаемому источнику вселенских начал, к творениям отцов и учителей неразделенной Церкви. Началось тщательное изучение этих творений, подвергшихся значительному забвению под влиянием преобладающих идей протестантизма. И труд оказался весьма плодотворным. Лишь только оксфордские ученые прикоснулись к этому живому источнику истинных церковных начал, как их очи, можно сказать, прозрели, и они уже не чрез зерцало гадания увидели ненормальное положение англиканской церкви, а воочию и притом с факелом авторитетного указания. Пред оксфордскими учеными открылся необъятный кругозор вселенской Церкви, и её начала, столь возвышенные и великие в сравнении с сектантской узостью тогдашнего англиканизма, произвели на них обаятельное впечатление и решили окончательный характер всего движения. Все движение превратилось в искание вселенской Церкви, и чем дальше оксфордские богословы углублялись в святоотеческую литературу, тем обаятельнее становилась для них идея кафолической Церкви, в точном символическом значении этого слова. Это вполне отразилось на тех трактатах1, чрез посредство которых оксфордские ученые делились результатами своих исследований с обществом. Первые из этих трактатов носят на себе следы нерешительности и традиционной привязанности к форме современного англиканизма, но чем дальше, тем сильнее выступает в них отвлеченный кафолический элемент, и наконец, последние трактаты выражают полную симпатию англиканских богословов к искомой ими кафоличности, в жертву которой они готовы были принести символические члены англиканской церкви.
Итак, движение богословской мысли в Оксфордском университете привело к решительному кризису. Современный англиканизм оказался несоответствующим идеалу кафолической Церкви, вытекающему из творений отцов и учителей вселенской неразделенной Церкви. Что же было делать? Найденная в святоотеческой литературе истинная идея кафолической Церкви была слишком отвлеченна, чтобы можно было окончательно остановиться на ней. Если эта идея истинна, то она должна быть реальна, и потому необходимо должно существовать на земле действительное воплощение этой идеи, отсутствие которого было бы нарушением великого обетования о непрекращаемости Церкви на земле. Такой путь логического мышления естественно привел к исканию действительно кафолической Церкви на земле, вполне соответствующей началам истинной Церкви Христовой. И вот тут образовалось два течения богословской мысли, которые поделили между собой оксфордских и других мыслителей, интересовавшихся движением. По мнению одних причина зла, удручавшего англиканскую церковь и ввергнувшего ее в омут протестантизма, заключалась в самом корне реформационного движения. По их мнению, сама реформация, давшая толчок к отделению англиканской церкви от римского католицизма, была роковой исторической ошибкой, и потому чем скорее возвратиться к прежней alma mater, римско-католической церкви, тем лучше, так как она доселе представляет собой наиболее совершенный тип Церкви вселенской или кафолической. Как, по-видимому, ни несообразно было такое заключение из тщательного изучения святоотеческой литературы, но оно вместе с тем было и самое естественное при данном состоянии вещей. Римско-католическая церковь со своей стройной организацией, выработанностью формы и иерархии, со своей всемирной распространенностью и обаятельной силой своего исторического прошлого, при искании действительно вселенской Церкви скорее всего могла представиться воображению оксфордских ученых. Если к этому прибавить общность латинской цивилизации, по необходимости связывавшей Англию с римско-католическим континентом, и историческую разобщенность с малоизвестным и малокультурным востоком, то наклонение части оксфордских ученых в пользу римско-католической церкви становится естественным и понятным. Но между ними были также люди, слишком дорожившие благами национальной и религиозной свободы и глубже понимавшие процесс исторического развития, чтобы остановиться на этой мысли. Для них также обаятелен был идеал единой истинной кафолической Церкви, и они желали найти осуществление его на земле, но, будучи в то же время более строги в рассмотрении наличных церквей, не могли сразу отдать монополию истинности какой-либо одной из существующих церквей. Они видели, что действительному идеалу апостольской, кафолической церкви не соответствует ни одна из существующих наличных церквей; тем не менее, он должен же существовать в действительности, по обетованию Спасителя. Идя таким путем логического развития, эти ученые пришли к тому выводу, что истинная кафолическая церковь не представляется отдельно никакой из наличных трех главных церквей, взятых в отдельности, но всеми ими вместе. Кафолическая церковь подобна дереву, которое, имея один корень и ствол, с развитием и ростом разветвляется, так что каждая ветвь, при поверхностном наблюдении, представляется не имеющей ничего общего с другими ветвями, но на самом деле все они имеют один и тот же основной ствол, питаются одними и теми же соками и имеют один и тот же жизненный корень. Три главные церкви – Грековосточная, Римско-католическая и Англиканская, благодаря историческому развитию обособившиеся в отдельные общины, суть только ветви одной кафолической Церкви. Каждая из них, взятая в отдельности, не составляет кафолической Церкви в собственном смысле и есть только часть ее и притом нарушившая чистоту своего первообраза под влиянием разных исторических и национальных элементов. Но если взять их все вместе и посредством известного логического процесса отвлечения низвести их на общие начала, с отвлечением частных национальных элементов, то эти общие начала и будут тем кафолическим деревом, на котором находятся отдельные церкви как отдельные ветви одного и того же дерева.
Как ни искусственна эта теория, но она нашла многих приверженцев, которые видели в ней единственный исход из противоречия между идеалом кафолической Церкви и несоответствием ему наличных отдельно взятых церквей2. К этой партии принадлежал и Пальмер. Это был, выражаясь словами издателя его книги кардинала Ньюмана, бывшего также горячим участником оксфордского движения, «один из тех серьезных и благочестивых людей, которые, – будучи глубоко убеждены в великой истине, что Господь основал, и доселе признает и поддерживает видимую церковь – единую, индивидуальную и интегральную – кафолическую как распространенную по вселенной, апостольскую как современную апостолам и святую как раздаятельницу Его слова и таинств, – думали, что эта церковь в настоящее время существует в трех главных ветвях или скорее в троякой форме – латинской, греческой и англиканской, причем эти формы составляют одну и ту же церковь, отличаются одна от другой только второстепенными, случайными и местными, хотя и важными, чертами. И так как вся церковь в своей полноте, по их мнению, в одно и то же время и отдельно является англиканской, греческой и латинской, то в свою очередь каждая из них есть целая церковь. Отсюда следовало, что когда одна из них трех на лицо, то другие две, по существу дела, отсутствуют, и поэтому все три не могут иметь прямых отношений одна к другой, как если бы они были тремя самостоятельными телами, так как между ними нет действительного отличия, кроме внешнего признака пространственного расположения. Затем, так как, по их мнению, на данной территории не могло быть церквей более как одной из трех, то отсюда следовало, что христиане вообще, где бы они ни были, обязаны признавать и имеют право быть признаваемы такой церковью, в территории которой они в данный момент находятся, так что, будучи в Риме, они должны перестать принадлежать к Англиканской церкви, и должны отвергать Рим, когда они находятся в Москве. Наконец, не признавать этого неизбежного вывода из основной идеи церкви, именно что она как повсеместна, так и едина, по их мнению, значило бы обнаруживать худую логику, а противодействовать ему значило бы восстанавливать алтарь против алтаря, то есть было бы темным грехом раскола и святотатства»3. – «Таково по моему мнению, – прибавляет кардинал Ньюман, – формальное учение англиканизма; такого-то учения мы держались и проповедовали его в Оксфорде сорок лет тому назад и в такое-то учение глубоко веровал Пальмер и энергически ратовал за него, когда он ездил в Россию. Оно-то было для него побудительной причиной отправиться туда, потому что он надеялся получить от святейшего синода (imperial Synod) такое признание своего права на таинства грекороссийской церкви, которое было бы неопровержимым доказательством того, что учение англиканских богословов не простая теория и что англиканин ipso facto есть в то же время православный»4.
Таким образом вот с какими воззрениями и целями отправился Пальмер в Россию. Его поездка была, так сказать, попыткой смелого приложения идей оксфордского движения к действительности, которая должна была произнести тот или другой приговор самой теории. Так как этой действительностью была православная русская церковь, то книга Пальмера представляет для нас первостепенный интерес в том отношении, как эта церковь в лице своих лучших представителей, с которыми встречался Пальмер в России, отнеслась к оксфордской доктрине, несомненно составляющей важный шаг в сознании западно-европейского мира в направлении к истинным церковным началам. Вся книга автора состоит из передачи его богословских бесед с разными представителями русской богословской мысли, но она в тоже время пересыпана замечаниями автора о наших церковно-бытовых порядках, как они представлялись его непосредственному взгляду. И самое издание его книги со стороны кардинала Ньюмана предпринято, по собственному сознанию кардинала, не ради дела англиканской доктрины, которая для Ньюмана с переходом его в римский католицизм сделалась мертвым фактом, а ради «той живой картины, которую рисует эта книга, к лучшему или худшему, о русской церкви и которая произведена автором без всяких усилий, благодаря его сношению с духовенством и мирянами и с населением вообще»5.
Первым поводом к ознакомлению Пальмера с православной Россией послужил совершенно исключительный случай. Когда оксфордское движение уже, можно сказать, дошло до своего решительного пункта, когда уже назрела мысль о ближайшем ознакомлении с другими ветвями вселенской Церкви для уяснения их взглядов на оксфордскую доктрину и когда взоры оксфордских богословов с этой же целью направлены были к православному востоку, который, несмотря на свою отсталость в культурном отношении, тем не менее продолжал сохранять какое-то таинственное обаяние для всех ищущих церковной правды на западе, в это время, именно в мае 1839 года, в Оксфорд прибыл покойный Государь Император Александр II, бывший в то время еще наследником престола. Этим случаем поспешили воспользоваться в Оксфорде для своих целей, и когда высокий русский гость посетил университет, то Пальмер, которому было поручено встретить его, представил ему петицию следующего, в главных чертах, содержания:
«Хотя может показаться дерзновенным, тем не менее, я осмеливаюсь представить петицию Вашему Императорскому Высочеству.
Она состоит в том, чтобы сюда был прислан какой-либо русский богослов, способный исследовать богословие наших церквей. Он мог бы жить в магдаленской коллегии (о чем я уполномочен заявить) и я сам стал бы учить его английскому языку, так что при его посредстве содержание наших лучших книг могло бы стать известным Его Императорскому Величеству и епископам восточной общины. И если бы, со временем, мне пришлось отправиться в Россию для изучения там богословия и обрядности русской церкви, то, надеюсь, я мог бы получить благоволение и покровительство Вашего Императорскаго Высочества. Несомненно, если вся кафолическая церковь должна жаждать единения, ничто не может быть более достойным благочестия великого принца, чем старание содействовать воссоединению двух общин, разделенных только вследствие недоразумений и недостатка сношений.
В то время как церковь Англии постоянно защищает права христианских государей, угрожаемых одинаково честолюбием римского первосвященника и демократической распущенностью, она сама в настоящее время находится в великой опасности, будучи изолирована в угле запада и угрожаема ненавистью всех сект, вступивших в союз со схизматическими папистами для ее ниспровержения.
Если бы Ваше Императорское Высочество соизволили благосклонно отнестись к нашей просьбе и проникнуться участием к бедственному состоянию наших церквей, то это было бы благодеянием для дела общественного порядка, подчинения и смирения на западе; и в то же самое время, содействуя единению церквей, Ваше Императорское Высочество возрадовали бы всех, кои молятся о мире христианскаго мира.
Да благословит Всевышний престол Императора России и да повинуются ему как отцу все подчиненные ему народы. Пусть он никогда не видит нашествия анархических начал еретического протестантизма для возмущения его империи и его церквей, и да будет ему дано, при благоприятном случае, освободить Восток от ига неверных»6.
Надо заметить, что петиция эта, прежде представления, подверглась тщательному просмотру президента или ректора магдаленской коллегии, престарелого Рута, который рекомендовал исключить из нее все выражения, так или иначе не соответствовавшие достоинству англиканской церкви, и, между прочим, подверглось замечанию с его стороны последнее выражение петиции, которое он нашел «неанглийским». Петиция, по-видимому, произвела благоприятное впечатление на покойного Государя Императора, благородной и гуманной душе которого была симпатична всякая идея, способствующая водворению мира и единения на земле, и спустя несколько лет после подачи петиции, в Оксфорде носился слух, что Император Николай I предполагал основать там при университете кафедру русского языка; но дело затормозилось от того, что он желал оставить за собой право назначения на нее профессора, что, видимо, расходилось с традиционным взглядом английских университетов на их самостоятельность и с известной политической подозрительностью англичан в делах этого рода. Так дело и осталось ни при чем, несмотря на, несомненно, важное значение его идеи. Идея эта, впрочем, вскоре нашла довольно счастливое приложение, когда под влиянием сильных религиозных движений на западе, вызывавших необходимость в ознакомлении с ними, по мысли обер-прокурора графа Протасова открыты были в главных центрах европейского мира русские православные церкви, в настоятели которых приглашены были лица солидной богословской учености. Эти лица, среди которых действительно было много достойных и, можно сказать, отборных лиц, пользуясь содействием и поощрением обер-прокурора, оказали незаменимую услугу в деле ознакомления с состоянием западно-европейского христианского мира, и нельзя не пожалеть только, что эта миссия наших заграничных церквей скоро потеряла свой первоначальный характер, и они, с отливом первой фаланги деятелей, превратились в обычные требоисправительные приходские церкви, с заурядными требоисправительными настоятелями, в каковом положении они, к сожалению, находятся и теперь.
Но если не пришлось осуществиться мысли Пальмера относительно введения англиканского богословия в сознание представителей русской богословской мысли, то он постарался вознаградить это упущение восполнением противоположной стороны схемы и решился сам ознакомиться с началами русской богословской мысли и церковно-религиозной жизни. С этой целью он начал приготовляться к поездке в Россию. Его мысль нашла сочувствие у большинства членов профессорской корпорации магдаленской коллегии, профессором которой он состоял; образовалось особое общество для осуществления его идеи. Наибольшую поддержку Пальмеру оказал президент коллегии Рут, по мнению которого англиканская церковь, в сущности, никогда никаким открытым или соборным актом не отвергала общения с восточной церковью, точно так же как и она сама никогда не была отлучаема со стороны восточной. Тем не менее, дело не осталось без возражений со стороны отдельных членов. Оно было в сущности так ново и так неподготовлено исторически, что сама идея его для некоторых казалась химерической и даже несколько обидной для достоинства англиканской церкви, особенно в виду господствовавшего в то время предубеждения против восточной церкви, как бездушного тела. В этом смысле один из членов корпорации коллегии, Сибторп, когда на заседании зашла речь о выдаче рекомендательной грамоты Пальмеру при отправлении в Россию, заявил резкий протест. «Я протестую, г. президент, – возбужденным голосом сказал он, – против того, чтобы это общество оказывало какое бы то ни было поощрение идее взаимообщения с идолопоклоннической (idolatrous) греческой церковью». Тем не менее, грамота была дана Пальмеру и именно следующего содержания, от имени президента коллегии:
«Всем верным во Христе, кого достигнет эта грамота, – благодать, здравие и спасение. Так как мне было заявлено, что один из наших членов, Вильям Пальмер, магистр наук и специалист богословия, диакон по рукоположению, желает отправиться в Россию для церковных исследований, то я, одобряя и поощряя его желание, этой настоящей грамотой санкционирую его предприятие. Я желаю, чтобы он, испросив позволение могущественнейшего и благочестивейшего Императора, если благочестие Императора соизволит на его просьбу, со всяким почтением представился русским епископам и особенно святейшему духовному Синоду, чтобы при их соизволении и содействии он мог ознакомиться с учением, формами и обрядами русской церкви, и изучил бы русский язык – в какой-либо духовной академии или где-либо в другом месте, как будет признано наиболее удобным.
Затем я прошу и даже заклинаю именем Христовым всех преосвященнейших архиепископов и епископов и особенно самый святейший Синод, чтобы они испытали его касательно православия его веры с духом человеколюбия, и чтобы, если они найдут в нем все, что необходимо для целостности истинной и спасающей веры, допустили его также к общению в таинствах.
Я желаю, чтобы он подчинялся и сообразовался во всем с внушениями и наставлениями русских епископов, только не утверждая и не делая ничего такого, что было бы противно вере и учению британских церквей.
К сей грамоте я охотно подписую мое имя и прилагаю печать в 4 день августа, в год Христа 1840.
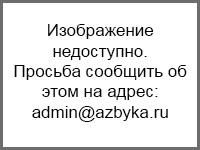
Мартин Джозеф Рут, президент коллегии св. Марии Магдалины в Оксфордском университете»7.
Заручившись, после некоторых формальных затруднений, одобрением со стороны примата англиканской церкви, архиепископа кэнтерберийского, Пальмер отправился в Россию. Английский посланник при русском дворе, лорд Чанрикард, будучи в то время в Лондоне, дал ему несколько рекомендательных писем к разным высокопоставленным лицам в Петербурге и прежде всего к обер-прокурору св. Синода графу Протасову, о котором он между прочим заметил Пальмеру: «Вы удивитесь, когда увидите гусарского генерала, в своей форме, адъютанта Императора, председательствующим в Синоде, распоряжающимся епископами и управляющим церковью»8.
§ II
Прибытие в Петербург и первые впечатления. – Черты церковно-религиозной жизни. – Богатство внешних форм и их значение для религиозной жизни. – Характер русского народа и положение духовенства. – Испытующий англичанин и богословствующий генерал от гусар. – Письмо Пальмера к графу Протасову.
Несколько дней спустя, Пальмер с любопытством иностранца уже прохаживался по улицам Петербурга и вникал в своеобразные черты русской жизни. Надо сказать, что русская жизнь вообще так своеобразна и притом так малоизвестна в западно-европейском мире, что всякий иностранец невольно поражается богатством и разнообразием ее самобытных черт, действительно представляющих для наблюдательного взора неисчерпаемый материал этнографического изучения. Когда вы переезжаете в западной Европе из одного государства в другое, вы едва можете заметить какой-либо этнографический или культурный переход. Все подернуто однообразным колоритом романо-германской культуры. Россия же сразу поражает типичностью своей этнографической и культурной самобытности, и всякий иностранец с чувством необычайного интереса всматривается во все ее отдельные черты – от «синих кафтанов и великолепных, – как выражается Пальмер, – бород» русских мужиков, от своеобразной упряжи и громоносно-музыкального звона и перезвона русских колоколов до сложнейших проявлений нашей общественной и государственной жизни. Для Пальмера первенствующий интерес имели, конечно, проявления нашей церковно-религиозной жизни и он с любопытством останавливается на всех ее выдающихся особенностях. Он посещал церкви, всматривался в их внешние и внутренние черты, и на первый раз они производили на него смешанное впечатление внешнего величия и внутренней материализации религиозного духа. Избыток внешних форм нашей церковности, видимо, смущал его совесть, так как на первый раз он не мог разглядеть под ними того богатого внутреннего содержания, которое наполняет их. Вынесенное им впечатление от посещения Казанского собора он передает в таких чертах: «Там был избыток благочестивых жестикуляций, народ кланялся и крестился, целовал иконы, опускался на землю и прикасался к полу своими лбами (иногда с внятным стуком), кланялся и крестился опять и опять – мужчины и женщины, старые и малые. Маленькие свечи раскупались при дверях на особой конторке, зажигались и ставились для сожжения (как бы во имя тех, кто ставил их) на больших канделябрах пред иконостасом. Внутри и вне церкви было много бедных, и в дверях стояло много нищих, которым проходящие щедро раздавали копейки. – Общее впечатление, произведенное этою церковью, было впечатлением великого блеска и великолепия, а также и изящества. Впечатление, произведенное на меня (при моем первом посещении) внешним благочестием народа, было впечатлением изумления, любопытства, подозрительности и известного смущения (так все было непохоже на английские обычаи, и так далеко шло даже в сравнении с обычаями римско-католическими), которое, однако же, в то же время смешано было с почтением к той простоте, благоговейности и щедрости в милостыне, которыми это народное благочестие сопровождалось»9. Внешняя сторона религиозности русского народа, которая, в сущности, составляет естественное следствие богатства его внутреннего духа, стремящегося к внешнему соответствующему обнаружению, наверно долго останется загадочной для иностранцев, привыкших к тощим формам скудного истинно-религиозным духом протестантства. Вследствие этого само собой понятно, что Пальмеру весьма курьезным показался занесенный им в свою книгу случай, когда его извозчик, привезший его к Казанскому собору, получая со своего седока деньги, возвратил ему обратно копеечку со словами: «на свечку в церковь». «То есть, – объясняет недоумевающий англичанин, – так как извозчик сам не мог оставить своей лошади, чтобы зайти в церковь помолиться, то его молитва могла быть представляема в церкви его свечкой». От поверхностного взора иностранца, очевидно, ускользнул весь внутренний нравственно-религиозный смысл этого факта, и он сохранился в его памяти как простой бытовой курьез.
Тем не менее, русская церковно-религиозная жизнь так богата, что от обаяния ее в известные моменты не может освободиться даже предубежденное чувство иностранца. Такое обаяние испытал и Пальмер при посещении церкви Вознесения. «Я не мог, – говорит он, – проникнуть далеко внутрь церкви, так как она была переполнена народом; но для меня было столько нового и поразительного в пении, сладостном и отчетливом, не сопровождаемом инструментами, и в самом одушевлении и чувстве, с которыми народ присоединялся к пению часто повторявшегося возглашения: Господи помилуй, что я целый час или больше оставался в состоянии очарованного внимания, хотя я ничего не понимал. Картины (иконы) были блестящи и все освещены. Резкие трепещущие голоса мальчиков, соединяясь с низкими тонами старших певцов, были очень приятны. Колокола на башнях гудели по временам. Служащие священники были невидимы для меня, так как я стоял позади. Никогда прежде я не слышал ничего столь поразительного и столь общественного в богослужении»10. Те из англичан и вообще из иностранцев, которые подольше побудут в России и поближе вглядятся в нашу церковно-религиозную жизнь, значительно привыкают к ней и сами усваивают некоторые черты ее. Так Пальмер рассказывает про одну даму англиканку, которая не смущалась делать крестное знамение, будучи за русским столом, и про одного даже пастора, в других отношениях очень строгого протестанта, который не находил ничего суеверного в этом, вопреки общему протестантскому воззрению считал крестное знамение совершенно безвредным и назидательным, и сознавался, что «он сам часто делал крестное знамение, только тайком, под платьем, – ради страха иудейского»11. В действительности сами англичане часто сознают, какого важного преимущества лишилась их церковь, когда она, под влиянием крайнего протестантского направления, потеряла свои богатые внешние формы. На вопрос одного русского, действительно ли англиканская церковь отличается от лютеранской и ближе подходит к русской церкви, английский посланник, лорд Кланрикард, заметил: «Если вы исследуете наши уставы и сочинения некоторых из наших прежних епископов и богословов, вы в них найдете много такого, что оправдает это представление об англиканской церкви. Но если вы войдете в наши церкви, вы совсем не увидите там ничего такого. В действительности там все сделалось таким тощим и заурядным, что религия стала у нас противной высшим классам народа»12.
Наблюдения Пальмера простирались на все стороны жизни и характера нашего народа. Находя наш народ очень религиозным, он в то же время не упускает из вида и уродливые черты его понятий и жизни. Так, ему бросилась в глаза печальная слабость нашего народа ознаменовывать свои праздники неумеренным употреблением спиртных напитков. Обычай этот так укоренился в сознании русского народа, что напр. слуга князя Голицына на праздник Пасхи просил у своего барина позволения пойти «выпить подобно другим христианам». Крестьяне наши, по наблюдению Пальмера, с необыкновенной строгостью соблюдают клятву, совершенную на иконе или кресте. Поэтому когда один англичанин хотел заставить своего русского слугу поклясться на кресте, что он не будет пить, то тот отказался от этого, но так клялся вволю. От своих соотечественников-англичан Пальмер слышал многочисленные жалобы на то, что русская прислуга отказывается по постам пользоваться вместе с ними обыкновенным скоромным столом и требует себе постной пищи, почему содержание прислуги обходится гораздо дороже. Русский народ строго соблюдает посты, но зато «пощение у него производит реакцию и переходит с прекращением поста в излишество, даже среди высших классов и духовенства». Что касается самого состояния и положения духовенства, то наблюдения Пальмера не имеют уже интереса, так как указывают по преимуществу на такие черты, которые составляют уже достояние прошлого, как напр. система поступлений на места со взятием. Между прочим он с любопытством отмечает такой факт. Дочь священника, получившая лучшее образование, чем какое обычно было среди духовенства, принуждена была выйти замуж за молодого человека, который должен был поступить на место ее отца, несмотря на то, что она желала выйти за военного или вообще светского человека. «Тем не менее, она продолжает ходить на танцевальные и другие вечера, что необычно для жены священника, и некоторые из офицеров любят дразнить ее, когда, болтая с ней или приглашая ее танцевать, называют ее matuschka». Общественное положение нашего духовенства в то время, как известно, было далеко не завидным, и Пальмер отмечает случаи, как даже епископы принуждены были смиренно ждать приема у высокопоставленных лиц в передних.
Осмотревшись в Петербурге, Пальмер решился наконец приступить к осуществлению своей главной миссии и с этой целью отправился к обер-прокурору Св. Синода графу Протасову и представил ему свои рекомендательные письма, а вместе и грамоту от президента магдаленской коллегии. Граф Протасов любезно принял Пальмера, который развил перед ним свою теорию вселенской Церкви и отношения теперешних трех главных общин как к ней, так и между собой. Теория эта послужила предметом довольно длинного разговора, в котором граф Протасов обнаружил довольно значительную для «генерала от гусар» наслышанность в церковных и богословских предметах. «Я не богослов, а солдат, – сказал он Пальмеру, – но, постоянно вращаясь среди духовенства, я не могу не знать кой-чего о делах этого рода. Если бы я был епископом, то, прежде всего, спросил бы вас касательно вашего учения и символа; и если бы вы стали говорить о соединении с нами на тех же основаниях, как это могло бы быть 1000 или 800 лет тому назад, то, ввиду того, что с того времени на западе совершилось много разделений и возникло много вопросов, которые никогда формально не доходили до нас, я попросил бы дальнейшего исследования и соглашения».
– Это вполне основательно, – ответил Пальмер.
– В таком случае, – продолжал граф, – что вы скажете о таинствах?
– О Евхаристии я скажу, что хлеб применяется, становится и есть самое тело Христово духовно и сверхъестественно, не переставая физически, в порядке природы, быть хлебом. Этим мы отрицаем римское учение о пресуществлении. И я заметил, что в русском переводе XVIII членов Вифлеемского собора 1672 года устранено допущение этих двух соотносительных терминов – «сущность» и «признаки»; последнее слово не допускается также в русском катехизисе, так что ни один из этих двух русских документов не находится в противоречии с православной доктриной.
Чтобы яснее понять эту тираду в речи Пальмера, не излишня одна историческая справка, именно касательно судьбы постановлений упомянутого «Вифлеемского» собора 1672 года. Собор этот, известный у нас под названием иерусалимского, происходил при патриархе Досифее, который, ревнуя о православии, старался определить на нем точные начала православия в противовес прежнему собору, бывшему при Кирилле Лукарисе, обвинявшемся в явной наклонности к кальвинизму. Собор 1672 года действительно осудил постановления прежнего собора; но если Кирилл Лукарис наклонялся к кальвинству, то Досифей, в ревностном противодействии ему, впал в другую, противоположную крайность, и в изложении православной веры слишком неосторожно поддался влиянию учения римско-католической церкви. Так он переступил пределы Православия в изложении учения православной Церкви о таинстве Евхаристии, приняв вполне латинскую терминологию касательно пресуществления, допустил канон Св. Писания вполне по определению Тридентского собора и некоторые другие римско-католические воззрения, как напр. ограничение чтения Св. Писания мирянами. Определения этого собора были присланы в Россию греческими патриархами в 1723 году вместе с грамотой патриарха Иеремии, в которой выражалось братское признание со стороны восточных патриархов церковно-административного достоинства вновь учрежденного тогда в России органа Церковного управления, Св. Синода, и вследствие этого они получили особенное значение для русской церкви. Важность их требовала соответствующего распространения, и потому определения или так называемые ХVIII членов Иерусалимского собора были переведены на русский язык для распространения их в качестве символического документа истинно-православной Церкви13. Но когда приступлено было к их изданию на русском языке, то зоркий глаз строгого блюстителя православия (митрополита Филарета) тотчас же усмотрел вкравшиеся в эти члены догматические неточности, и потому найдено было необходимым в русском издании их сделать некоторые изменения и исправления. Именно исправлены были положения касательно канона Св. Писания и смягчены крайности римско-католического воззрения на таинство Евхаристии. В этом факте, несомненно, выразилось некоторое раздвоение греко-русской богословской мысли, и вместе с тем обнаружилась некоторая неопределенность и неустойчивость в положительных догматических воззрениях православной Церкви, так что иноверцам разных вероисповеданий легко отыскивать в православной Церкви те или другие церковно-догматические начала, которые только в данный момент имеют для них интерес. Этим раздвоением воспользовался и Пальмер, о чем он и заметил в разговоре с графом Протасовым. Как известно, англиканская церковь отрицает в таинстве Евхаристии пресуществление в его крайнем римско-католическом смысле, допуская, однако же, его, так сказать, в ограниченном духовном смысле как это видно из приведенного выше определения, сделанного Пальмером. Представителям ее поэтому весьма важно было найти подтверждение своего воззрения в учении православной Церкви, но подлинник постановлений Иерусалимского собора, которые между прочим были посланы британским епископам, завязавшим в 1716 году сношения с восточными патриархами о соединении церквей, как самое точное изложение православного учения, очевидно отнимал всякую возможность этого. Отсюда понятен интерес, с которым Пальмер указывает на произведенные в русском издании этих определений изменения против подлинника и именно в смысле очищения их от римско-католического влияния.
Граф Протасов, по-видимому, удивился, что Пальмер знал о произведенных в определениях Иерусалимского собора изменениях, но подтвердил этот факт, и со своей стороны заметил: «Возможно, что между этими церквами (православной и римско-католической) есть оттенки различия в предмете, стоящем выше нашего разумения; но что касается меня, то, не претендуя говорить положительно, я думаю, что греческая церковь соглашается (то есть соглашается безограничительно) с римским учением. Различие замечается в том, что греки делают призывание Св. Духа, а не простое повторение слов Христовых, для совершения освящения даров». Затем граф перешел к вопросу о почитании икон и нашел Пальмера довольно либеральным в том, что он не называл его идолопоклонником. «Ведь это, – прибавил граф, – обыкновенная на нас клевета (со стороны иноверцев), хотя они не называют нас идолопоклонниками за то, что мы кланяемся Государю или даже изображению Государя». Выслушав затем изложение англиканского учения вообще, граф Протасов немало подивился ему; оно было так для него ново, что он не удовольствовался беседой об англиканской церкви с Пальмером, а порешил поговорить об этом также с гувернанткой своей жены, англичанкой родом. «У моей жены, – сказал граф, – есть английская бонна или компаньонка, довольно хорошая женщина. Я с ними еще потолкую об этом – так все это ново для меня»14. В течение всего разговора с Пальмером граф Протасов старался строго держаться почвы православной Церкви и не преминул выразить сожаление, что у нас легко сходят с этой почвы даже лучшие из наших иерархов, которым бы следовало знать православную догматику основательнее генерала от гусар. Указывая на кальвинистические симпатии англичан, граф Протасов заметил: «У нас тоже было появился кальвинский или протестантский душок, который повеял с Платона митрополита. Филарет Московский тоже был наклонен в этом роде, и особенно Михаил, покойный митрополит Киевский. Но все это было исправлено, и теперь началась православная реакция. Мы сказали митрополиту Московскому, что если он хочет показать себя добрым и смиренным христианином, то он должен, с помощью своих собратий, пересмотреть и исправить свой прежний катехизис; и он сделал так, исправив его и восполнив его прежние упущения»15.
Что подумал Пальмер об этой тираде генерала от гусар, ревнующего о православии и обвиняющего в уклонении от него лучших иерархов Русской Церкви, – он скромно умалчивает, и передает только дальнейшее богословствование графа Протасова.
В заключение граф выразил желание, чтобы Пальмер письменно изложил ему свои планы и свою миссию. «Я переведу вашу бумагу, – сказал он. – Двор скоро возвратится сюда, и тогда я покажу ее Государю, когда буду делать свой ближайший доклад, или вообще упомяну о ней и обращу его внимание. Между тем, так как ваши намерения, по-видимому, благие и ваше предприятие необычно, мы сделаем все для содействия вам. Что касается выраженного вами желания поселиться в духовной академии, то я несколько сомневаюсь в этом отношении, хотя, конечно, белое или мирское духовенство менее связано инструкцией, чем черное. Но мы посмотрим. Если вы придете завтра в час пополудни в Синод, то я представлю вас моему товарищу, Муравьеву, который, хотя и светский человек, обладает большими сведениями в церковных делах. Мы почтем своим долгом сделать для вас все, что от нас зависит, так как единство есть долг церкви, и мы все молимся о нем».
Согласно желанию графа Протасова, Пальмер в тот же день написал ему на латинском языке письмо, в котором говорилось следующее: «Ваше превосходительство, Вы спрашиваете, зачем я прибыл в Россию и чего я стараюсь достигнуть от милости Государя. Я отвечаю: сделавшись членом магдаленской коллегии в оксфордском университете, я думал, что нельзя было лучше повиноваться статутам основателя нашей коллегии, или приготовиться к церковной и академической жизни, которая предстояла мне, или лучше послужить нуждам британской церкви, в которой я был крещен, чем как заграничным путешествием, пока я еще молод, и тщательным исследованием тех богословских вопросов, которые послужили причиной столь злосчастных и долгих разделений между апостольскими церквами. Так как я знал, что я крещен был не в английскую, или римскую, или западную, или восточную, но в кафолическую или вселенскую веру, религию и церковь, и в то же время видел, что эта кафолическая и апостольская церковь, согласно тому определению ее, которое я получил от непосредственной моей матери-церкви британской, разделена на различные и (о чем страшно подумать) даже враждебные общины, то мне казалось желательным точно узнать истину касательно делаемых против нас со стороны иностранцев обвинений, и не только вычитать ее из полемических сочинений наших собственных писателей, но и услышать собственными ушами от враждебных сторон, и затем приобрести насколько возможно точное знание богословия других апостольских церквей, так чтобы впоследствии, при своих ученых занятиях, мне с помощью Божией было больше возможности трактовать об ученых вопросах, поднимаемых в оксфордском университете, и все это с той надеждой и целью, чтобы с более точным уяснением причин различия и враждебности легче было ограничивать и устранять взаимные подозрения и может быть даже ошибки, мнения о несущественных предметах (ведь я говорю не о необходимости самой веры), одним словом, чтобы стало возможным лучшее отношение к тем вопросам, с разъяснением которых, в наше ли время или во времена наших потомков, могло бы быть восстановлено вожделеннейшее единство церкви.
Начиная с 1833 года, я с этой целью посещал сначала церкви латинян на континенте и познакомился с их богословием (т. е. с учением папы римского, которому они подчинены), и затем изучал мнения кальвинистов и лютеран. Теперь, с одобрения президента своей коллегии, я прибыл для ознакомления с восточной и, в частности, с русской церковью.
Я смиренно прошу у Государя милостивого внимания к моему предприятию, дабы он соизволил рекомендовать меня почитаемому духовенству своей империи с тем, чтобы, живя в духовной академии, или в каком-нибудь монастыре, или у епископа, или как-нибудь еще иначе, по благоусмотрению, я мог с помощью и в обществе духовных лиц изучить русский язык и исследовать учение, дисциплину и обрядность церкви. Если будет дано мне соизволение на эту просьбу, я надеюсь впоследствии, посредством перевода русских книг на английский язык, содействовать несколько в Англии и, в частности, в оксфордском университете к более полному и точному познанию апостольских церквей Востока, к укреплению чрез ознакомление с восточной кафоличностью нашей собственной церкви, которая теперь подвергается нападению сразу от папистов и от еретических протестантов, и более уже не защищается государством, как это было прежде, и, наконец, чрез смягчение предубеждений и антипатий, к исцелению теперешнего местного расчленения кафолической церкви и к воссоединению всего тела во взаимной любви…
Узнав, что в духовной академии в Петербурге есть лица, читающие по-английски, я привез с собой несколько избранных книг, сочинений наших лучших богословов, в дар академической библиотеке. Некоторые из них даны были с этой целью их авторами и членами оксфордского университета, которые, зная о моем намерении, желали этим показать, что они трудятся и молятся не только для своего народа, или только западного мира, но и для своих восточных братьев, так же как и для всей вселенской церкви.
Что касается меня лично, то я считаю нужным прибавить, что со времени вступления моего в пределы епархии русских епископов, я не признаю никакой иной церкви истинной и законной в этих странах, кроме русской, и не подлежу, по крайней мере в пределах моей воли, никакой другой юрисдикции, кроме юрисдикции русских епископов. Это не значит, будто я прибыл от какой-нибудь ереси или раскола искать воссоединения с церковью Божией в России, но сам, будучи кафолическим православным христианином, как я верую, и приходя от кафолической православной апостольской церкви, я добиваюсь от законных и канонических епископов страны, в какой бы стране я ни был, и от каждого из них отдельно в его собственной епархии, обычного права общения.
Такой ответ я имел сделать вашему превосходительству; и вашему благоусмотрению и милостивой благосклонности Государя я препоручаю мою просьбу, моля Господа нашего Иисуса Христа ни о чем ином, как только о том, что приводит к миру и согласию не только все церкви, но и все христианские государства. Имею честь быть и пр.
«С.-Петербург, 27 августа, 1840 г.»
Это письмо довольно полно излагает собственные воззрения Пальмера на отношение между собой трех главных христианских церквей. Как встречены были эти воззрения представителями нашей богословской мысли, будет показано в следующий раз.
§ III
Встреча Пальмера с A. H. Муравьевым и богословская беседа с ним. Отношение церквей и препятствия к их соединению. Армянская ересь. Связь религиозного движения в Англии с политическим переворотом. Богословская беседа с протоиереем Кутневичем. Английская теория и православная действительность. Два направления русской богословской мысли.
В назначенное графом Протасовым время Пальмер явился в Св. Синод или, по его выражению, в синодальную палату, и там представлен был товарищу обер-прокурора А. Н. Муравьеву. После встречи с графом Протасовым и благодаря обязательному предупреждению английского посланника, Пальмер уже не удивился, когда и в товарище обер-прокурора встретил также кавалерийского офицера, и Муравьев поэтому поразил его не отношением своего военного звания к церковному положению, а «только своим исполинским ростом, требовавшим крепкой лошади, чтобы носить такого кавалериста»16. Как бы то ни было, А. Н. Муравьев, несомненно, является одним из замечательных людей своего времени. Если граф Протасов, занимая высокое церковно-административное положение, тем не менее был не богословом, а – как он сам выразился – солдатом, то его товарищ был не только богословом в хорошем смысле этого слова, но и человеком в полном смысле церковным. Это был один из немногих и, к сожалению, все более редеющих у нас представителей того типа образованных светских людей, которые умеют отыскать под сухими, по-видимому, схоластическими формами нашей церковно-религиозной жизни родник живой воды и освежить им все свое нравственное существо. В западных вероисповеданиях, где религиозная жизнь, по известным историческим причинам, дает более простора личному религиозному сознанию, такие люди составляют обыкновенное явление, и этот факт служит одним из наиболее ярких доказательств живого взаимодействия между жизнью и церковью. У нас, напротив, богословские вопросы составляют почти исключительное достояние духовных или профессиональных богословов, которые по самому существу своему не могут часто выходить из пределов сухих тонкостей, недоступных сознанию обыкновенного среднеобразованного общества. Поэтому светское образованное общество у нас живет, можно сказать, вне влияния церковно-религиозных идей, как можно судить даже по тому известному факту, что наши духовные периодические издания обращаются почти исключительно среди духовенства и тщетно борются с непреклонным равнодушием к себе светского общества. Не распространяясь в массе этого общества, православная богословская мысль тем с большей энергией иногда сосредоточивается в немногих личностях, отличающихся обыкновенно сильной даровитостью и философским складом ума, и благодаря им наша богословская мысль не только находит соответственный проводник для проникновения в общественное сознание, но и делает, так сказать, историю своего развития. В значительной степени все это относится и к Муравьеву, которому представился теперь англиканский богослов.
При первой встрече беседа, естественно, не могла быть продолжительной и ограничилась несколькими замечаниями с той и другой стороны. Как человек строгого, можно сказать, исключительного православного духа, Муравьев несколько недоверчиво отнесся к Пальмеру, имея в виду вторжение в англиканскую церковь крайних протестантских идей. Пальмер быстро понял его мысль и отвечал: «Какие бы опасности ни угрожали англиканской церкви, но протестантизм не принадлежит к их числу: это чудовище мертво. И тут мы можем даже оказать некоторую услугу русским и грекам. Они теперь слишком часто пользуются папистскими, лютеранскими и кальвинскими книгами, – и желание их быть более духовными, чем формальными или суеверными в вопросах религии породило протестантские тенденции, опасности которых они не знают. Мы же знаем эту опасность по долгому и печальному опыту, и теперь, наконец, умеем находить даже в свободном употреблении Библии противодействие злоупотреблению Библией»17.
Это предостережение Пальмера об опасности протестантизма, имея свое безотносительное основание, было уже едва ли применимо к тому времени, когда он был в России. Период мистических увлечений тогда уже прошел и, как реакция, наступил противоположный ему период увлечения романского, неумеренным представителем которого являлся граф Протасов, и на высоком церковно-административном посте не освободившийся от следов воспитания в иезуитской коллегии18.
Как богословски начитанный и образованный человек, А. Н. Муравьев мог произвести только благоприятное впечатление на Пальмера, и англиканский богослов воспользовался первым удобным случаем, чтобы серьезнее поговорить с ним о своем деле. 21 сентября Пальмер отправился к Муравьеву на дом, и там у них завязалась продолжительная богословская беседа. Прежде всего, коснулись они вопроса об отношениях церкви и государства, и тут с обеих сторон обнаружилось недоразумение, которое существует, впрочем, и теперь. Муравьев утверждал, что англиканская церковь имеет своим главой светского государя, но что сказать то же самое о русской церкви было бы в высшей степени нелепой клеветой. Насколько независим и высок церковный авторитет в православной церкви, можно видеть из того, – говорил Муравьев, – что даже Петр Великий, государь с непреклонной, железной волей, подчинился авторитету восточных патриархов и соблюл все должные формы при учреждении Св. Синода. И в настоящее время посвящение в епископа производится не от имени императора, а во имя Христа; император же только избирает одного из трех представляемых ему кандидатов и ничего не может решать в духовных делах, между тем как в Англии все зависит от королевской власти. «Я заметил, – пишет Пальмер, – что мы, англичане, часто говорим об отношении церкви и государства в России точно так же, как он (Муравьев) говорил об отношении церкви и государства в Англии, – истина же одинакова на той и другой стороне: государство, несомненно, нарушило права церкви»19. Когда со своей стороны англичанин стал ограничивать крайности русского взгляда на положение англиканской церкви в отношении к государству, то Муравьев воскликнул: «А! Вы начинаете отрицать это теперь, когда не только в Англии, но и везде начинают rentrer dans l'ordre, се torrent du protestantisme est passe (входить в обычный порядок, с отливом потока протестантизма). То же ведь самое и у нас в России».
Пальмер вручил потом своему русскому собеседнику несколько сочинений английских богословов, англиканский служебник (Common Prayer Book) и обещал доставить изложение шотландской литургии, желая, чтобы Муравьев не только основательно познакомился с догматическим учением англиканской церкви, но и убедился, насколько распространенное мнение о ней, как о чисто-протестантской общине, не находит для себя оправдания в ее символических и литургических книгах, которые (напр. шотландская литургия) явно допускают пресуществление в близком к православному смысле этого слова.
Когда затем речь зашла о началах соединения церквей и Пальмер предложил свой известный принцип: in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas (в существенно-необходимом единство, в сомнительном свобода и во всем снисходительность и любовь), ставший с легкой руки трактарианистов девизом всех последующих попыток к единению церквей20, и когда он к этому прибавил, что принцип этот соответствует духу церкви первобытной, апостольской, то Муравьев ответил ему: «В настоящее время церковь уже не то, чем она была в первые века. Тогда в ней было столько жизненности и силы, что все оставалось без точного определения; а теперь уже все распределено, классифицировано и введено в известные границы, и мы уже не должны изменять этих границ. Я знаю, продолжал он, что за границей, и, между прочим, в Англии и, особенно, в Оксфорде, замечается теперь тенденция к распространению очень широких начал кафоличности, но думаю, что греческая церковь в некоторых отношениях менее способна отвечать вашим началам и приспособлениям, чем латинская. Латинская церковь имеет центральную власть в папе, которому все должно повиноваться, и он легко может входить в переговоры и объяснения, может даже делать известные уступки; для греков это невозможно, – они необразованны, и духовенство и миряне, и слепо привязаны ко всему, что у них принято, даже к мельчайшим частностям своих обрядов. Если бы, при таком положении вещей, русские вошли в какие-либо соглашения с англиканами, то единственным следствием этого было бы то, что они потеряли бы общение восточных патриархов».
– «Если дело вести не опрометчиво, – заметил Пальмер, – а привести доказательства на каждый пункт соглашения с обеих сторон, из св. отцов, признаваемых обеими сторонами, то греческие патриархи, можно надеяться, не будут так неосновательны».
Но Муравьев покачал головой и сказал: «Вы не имеете и понятия о том, до какой степени невежественно и нецивилизованно греческое духовенство; и у нас, впрочем, в России немало невежества, но, как бы то ни было, а тот, кто хочет входить в общение с восточной церковью, должен брать ее как она есть». Иллюстрируя свою мысль, Муравьев рассказал такой случай. Однажды он спросил константинопольского патриарха, в чем собственно заключается ересь армян, которая казалась Муравьеву совсем неуловимой. «Армяне, – объяснял он Пальмеру, – в действительности почти то же, что и мы, и теперь, когда Эчмиадзин принадлежит России, они легко могли бы быть соединены с православной церковью, так как они ни мало не держатся действительной евтихианской ереси». Но патриарх такой ответ дал на вопрос Муравьева: «О, не спрашивай меня об этом, сын мой! Знай только, что все ереси мира, что ни на есть пагубные и злые, соединены в ереси армян»21. Указывая Пальмеру преграды, стоящие на пути к соединению церквей, Муравьев продолжал: «Такое общение, какого вы ищете теперь, было бы невозможным. Если бы русское духовенство допустило вас к общению (в таинствах), то сами англикане, считающие русских и греков варварами и идолопоклонниками, подняли бы против вас крики за то, что вы приняли обряды греческой церкви, все равно как греки подняли бы крики против нас, русских, если бы мы вошли в соглашение с армянами. На этот предмет вы смотрите особым образом. Вы видите, каковы тут предубеждения, и желали бы согласить обе стороны путем объяснения. Для вас ясно, что некоторые предметы тут не особенно важны, другие могут быть соглашены, а иные и истинны и нет – при различных точках зрения. Но народ-то вообще этого не видит ни на той, ни на другой стороне»22.
Через несколько дней Пальмер встретился в Синоде с графом Протасовым, и сообщил ему, что занимается переводом на английский язык «Православного исповедания» Петра Могилы. Граф заметил, что ему лучше бы перевести катехизис митрополита Филарета. Но у Пальмера была своя идея. «Мы имеем в виду, – сказал он, – издать все существенные документы, чтобы дать полное понятие о действительном состоянии богословия в России. Но в этих документах оказывается некоторое несоответствие. Не только в своем катехизисе вы избегаете определения пресуществления посредством «сущности» и «признаков», но даже и в недавно изданном переводе XVIII членов иерусалимского собора изменили текст подлинника, чтобы избегнуть упоминания о «признаках» (accidents), находящегося в греческом тексте23. Между тем в русском переводе Православного исповедания, из которого XVIII членов заимствовали этот термин…». «Мы удержали термин, который в XVIII членах устранили, – это правда», – поспешно договорил граф мысль Пальмера, и затем, перейдя к характеристике общего состояния востока, продолжал: «Мы стараемся насколько можно поднять образование и здравое учение, но велико господствующее невежество, особенно в Греции и Леванте, – народ не размышляет, а слепо держится всего того, к чему привык. И в самой Греции тоже началось такое движение. Со своей стороны мы предпринимаем издания как на славянском, так и на греческом языках и даром рассылаем по церквям Леванта, чем и надеемся укрепить тамошнее православное население от натиска латинян и методистов. Мы издали таким образом церковные каноны на славянском и греческом языках, в два столбца, «Православное исповедание», пространный и краткий «Катехизисы» – на греческом языке. Если бы вы могли содействовать нам в этом отношении, то было бы тем лучше», – добавил граф. Пальмер отвечал: «Мы должны бы со своей стороны быть готовы к этому, потому что желаем только истины и единства церкви; но у нас нет другой силы и помощи, кроме той, какую может дать нам молитва и благодать Божия, так как гражданское правительство Англии теперь, скорее, на стороне папистов и протестантских сектантов»24.
Сведя разговор на вопрос о церковно-религиозном состоянии Англии, граф Протасов спросил Пальмера, какой из англиканских элементов наиболее кафоличен (most catholic)? Пальмер на это заметил, что для него легче было бы указать тех, которые наименее кафоличны. «Пока наша церковь, – говорил он, – находилась под исключительным покровительством государства, то даже благонамеренные церковники называли церковь, и устно и письменно, главным образом «священным установлением», хотя иногда можно было услышать и название «апостольской церкви». Но когда в 1828 и 1829 годах совершилась перемена – протестанты и диссентеры допущены были к политической власти, и особенно когда билль о реформе 1832 года предоставил торжество поддерживавшей их партии вигов, то в самой церкви началось возрождение тех кафолических и апостольских идей, которые наши протестанствующие политиканы в течение полутора столетий постоянно старались истребить, призывая на престол сначала голландского кальвиниста, затем немецкого лютеранина». Эта политическая перемена, выразившаяся в отнятии у англиканской церкви исключительного преимущества и права на государственное покровительство, благодетельным образом подействовала на церковно-религиозное сознание англичан, в представлении которых, при полном подавлении церкви государством, затемнилось было самое понятие о церкви и затерялось даже и самое название церкви, превратившейся в простое «учреждение», в роде одного из департаментов или министерств королевского правительства. «Люди последнего поколения, – продолжал Пальмер, – все или почти все еще называют свою церковь протестантской или установленной церковью, или просто установлением (estab. listment); но возрастающее поколение духовенства все более и более оставляет употребление этих самоубийственных и двусмысленных названий и находит, что ему следует называть свою церковь просто православной, кафолической, апостольской и никак иначе, что во всех своих мыслях, словах и действиях оно должно заботиться о единстве целого, а не просто трактовать о национальной церкви, в местном, сектарном смысле этого слова»25. Граф Протасов намекнул было, что это кафолическое движение есть дело ученого кружка в оксфордском университете и потому не может иметь больших шансов на будущее, но Пальмер поспешил уверить его, что это движение имеет гораздо более глубокий источник и независимо от Оксфорда распространяется по всей Англии.
Светские представители русской богословской мысли, как бы ни высоко было церковное их положение, не могли, конечно, вполне удовлетворить английского богослова, и потому он старался войти в соприкосновение с действительными представителями русской церкви. Первым таким представителем, с которым пришлось Пальмеру встретиться и обменяться богословскими воззрениями, был член св. Синода, протоиерей В. Кутневич, главный священник армии и флота. Это был солидно образованный в богословском отношении человек, с интересом вступивший в объяснение с Пальмером. Разговор происходил на латинском языке. В прежнее время неуменье изъясняться на новых языках находило счастливый противовес в том прекрасном знании латыни, которая давалась нашей старой духовной школой. На западе латынь и до сих пор пользуется правом гражданства в ученых кругах, и на различных ученых съездах, где собираются ученые различных национальностей, сплошь и рядом речи говорятся на латинском языке как международном и, так сказать, нейтральном языке ученого мира. У нас же, по изгнании латыни, под влиянием ложно понятого реализма, образовалась в этом отношении очень неудобная пустота, и представители нашей богословской мысли старого времени, благодаря своей латыни, имели, можно сказать, больше средств к умственному обмену с западно-европейским богословским миром. Если бы не эта латынь, то Пальмер, которому не удалось приобрести основательного знания русского языка, не имел бы никаких средств проникнуть во внутреннее святилище русской богословской мысли, как она выражалась в лице самобытных представителей ее. На латинском языке и повел он, как мы сказали, продолжительную беседу с протоиереем Кутневичем, которому был представлен в св. Синоде. Кутневич сказал, что он уже читал рекомендательную грамоту от магдаленской коллегии и письмо Пальмера к графу Протасову, вообще знаком с намерениями Пальмера, и на счет его желания получить общение в таинствах русской церкви сряду заметил ему, что это возможно только при том условии, если желающий общения исповедует полную веру во все, чему учит православная восточная Церковь. Протоиерей подчеркнул название восточная, и это сразу затронуло кафолическую идею Пальмера.
– «Все, – возразил он, – чему учит кафолическая или вселенская церковь, а не то, что требует признавать какая-либо отдельная, западная или восточная или другая какая-либо местная церковь».
– «Он должен исповедывать, – повторил протоиерей, – ту же самую веру, которую исповедует восточная Церковь».
– «Я исповедую, по моему убеждению, одну и ту же веру с восточной церковью, – сказал Пальмер, – потому что кафолическая вера едина, на западе ли или на востоке. Если же между восточной и западной церквами нет согласия в существенных началах веры, то одна из двух сторон должна быть еретической. Но я верую, что церковь, от которой я прибыл, и сам я, православны и кафоличны, и церковь восточную мы считаем также православной и кафолической. Следовательно, британская церковь находит, что между ней и восточной церковью нет разногласия в отношении к существу веры»26.
По этому поводу между протоиереем Кутневичем и Пальмером завязалась продолжительная богословская беседа, затронувшая все тонкости догматической науки, но нам нет надобности следовать за ней во всех ее подробностях. Наиболее оживленный характер беседа приняла в вопросе о пресуществлении, к которому Пальмер с особенным постоянством возвращался, стараясь, на основании открытой им разницы с подлинником в русском переводе XVIII-ти членов иерусалимского собора 1672 года, доказать различие учения Православной Церкви в этом пункте от учения римской церкви и тем сблизить с ним свое англиканское учение. Но попытка Пальмера как прежде, так и теперь оставалась тщетной. Протоиерей Кутневич отстаивал полное сходство православного учения в этом отношении с римским, и так как Пальмер не соглашался с этим, то и самый вопрос о допущении его к таинству Евхаристии в православной Церкви протоиерей Кутневич решал отрицательно. И трудно сказать, чтоб он был неправ в этом отношении. Вопрос о пресуществлении имеет гораздо более важное значение в системе Церкви, чем как это может показаться на первый взгляд. Тем или другим взглядом на таинство Евхаристии определяется один из существеннейших принципов церкви, – оно, можно сказать, составляет жизненный нерв ее, которым оживотворяется весь организм церковный. Протестантизм, отвергший пресуществление в таинстве Евхаристии, тем самым подорвал этот нерв истинно органической церковной жизни, и в протестантстве прекратилась церковная жизнь в собственном смысле этого слова и началась просто жизнь общественная, предоставленная всем условиям обычной жизни. Как проницательный богослов, Пальмер понимал важность этого вопроса в предпринятом им деле, и потому понятна та настойчивость, с какой он возвращался при каждом удобном случае к точному уяснению воззрений русской богословской мысли на этот предмет. И, надо сказать, представители русской богословской мысли постоянно оказывали при этом прочную обоснованность убеждения и, несмотря на все уверения Пальмера, твердо стояли на почве учения о пресуществлении, к немалому смущению англиканского богослова, который при таком отношении к его воззрению терял всякую надежду на возможность быть допущенным к общению в таинствах русской Церкви. Когда, в заключение своей беседы с Кутневичем, Пальмер еще раз выразил желание, чтобы его допустили к общению в таинствах на правах православного христианина, то протоиерей просто заметил ему:
– У вас тут есть свой собственный капеллан, вам нет надобности приходить к нам.
– Как, разве английская церковь может быть в вашей епархии? – воскликнул затронутый сторонник идеальной кафоличности или вселенскости.
– Да, но она здесь есть, – во всем согласная с вашей церковью в Англии, те же самые обряды употребляющая, – как есть здесь церкви лютеранская, кальвинская, латинская, армянская, – всего, пожалуй, до двенадцати разных церквей и исповеданий.
– Я не признаю никаких таких исповеданий, – отвечал Пальмер, – а только одно исповедание, одну веру – символическую. В одном месте de jure не может быть двух исповеданий или двух епископов. Теперь я член не английской церкви в России, а церкви русской, – по крайней мере, в желании и намерении. Если живущие здесь англичане в действительности отделены, я не могу в этом отношении оправдывать их, равно как не могу оправдывать и вас. Ваш епископ думает, что если в мире и даже в его епархии существует не одна церковь, а несколько, то это как-будто нисколько его не касается. Равным образом и наш народ, по прибытии сюда, нисколько не обращает внимания на епископа местности, а живет и действует, как-будто он привез саму Англию с собой на корабле.
– Конечно, в одном месте должна бы быть одна церковь, – отвечал протоиерей Кутневич, – и мы молимся об осуществлении этого. Но если бы мы на этом основании допустили англичан к церковному общению, при их разномыслии с нами в важных пунктах веры, то это было бы крайне опасным и выше всякой меры смутило бы наш народ. То же было бы даже и с вами самими; ваш народ также, несомненно, смутился бы и стал бы думать, что его епископы и пасторы заключили союз с еретиками и идолопоклонниками. О, это причинило бы страшное смущение!...27.
Таким образом, при первой встрече с профессиональным представителем русской богословской мысли Пальмер потерпел поражение, и его расплывчатая идея о теоретически созданной кафоличности должна была отступить перед фактом живого, практического церковного самосознания. Впрочем, богословская мысль в России никогда не ограничивалась одним каким-либо строго обозначенным направлением, которое бы исключало всякую возможность разности воззрения. Напротив, в ней всегда существовало, по крайней мере со времени встречи ее с западной богословской мыслью, два главных направления, – два, так сказать, русла в ее течении, – первичными выразителями которых являются типические представители богословской мысли петровского времени. Выходя из одного и того же источника, самобытного русского церковного самосознания, эти два течения, под влиянием особенных условий нашей культурной жизни, направляются против двух противоположных систем западной церковности – римского католицизма и протестантства, отчего каждое из этих течений получает особый своеобразный колорит. При отсутствии у нас выработанных школ богословской мысли, эти два направления имеют важное значение в развитии нашего религиозно-богословского сознания, подобно тому, как существующие у нас западническое и славянофильское направления имеют важное значение в развитии нашего общественного и литературного самосознания. Пальмеру на первых же порах пришлось встретиться с представителями обоих этих направлений. Если в протоиерее Кутневиче он встретил человека строгой формы ортодоксального типа, перед церковным воззрением которого терялась «кафолическая» теория Пальмера, то с другой стороны в священнике Исаакиевского собора Малове он встретил, так сказать, богослова-западника, который в своих воззрениях смело переступал пределы строгой ортодоксии. Когда зашла речь об истинной церкви и об отношении к ней наличных вероисповедных форм, то Пальмер пришел в немалое смущение, когда о. Малов высказал, что по его личному мнению истинные христиане находятся во всякой церкви и общине, так как религия сердца важнее всего.
§ IV
Русское монашество в сравнении с западным. – Посещение Пальмером Сергиевской пустыни. – Первые впечатления. – Взгляд на отношение церквей. – Исключительность миросозерцания. – Взгляд на отношение церкви и государства. – Характеристика митрополита Филарета Московского и членов Синода. – Оксфордское учение о значении церковных форм. – Русский молебен у лютеранского супер-интендента. – Неудавшаяся попытка церковного общения.
Скоро после первых встреч со светскими и духовными представителями русской богословской мысли, Пальмеру пришлось познакомиться с русской монастырской жизнью.
Русское монашество есть, несомненно, одно из своеобразнейших проявлений нашей церковно-религиозной жизни. Если одной из отличительных черт русской и вообще восточной религиозной жизни служит похвальная твердость в держании преданий, то в монашестве эта твердость достигает высших пределов, в которых при известных условиях она принимает даже характер инертности религиозного чувства и косности богословской мысли, что часто дает повод к подведению самой сущности православного монашества под категории этих понятий. Так смотрят на наше монашество иностранцы, для которых непонятен внутренний смысл этого рода жизни, а за ними и некоторые наши западничающие мыслители. Русское монашество резко отличается от западного и, на первый взгляд, оно далеко уступает последнему в своем значении, как одного из могучих факторов нравственно-религиозной жизни. Но чтобы правильно оценить сравнительное значение этих факторов, недостаточно простого сопоставления наличных плодов их внешней производительности, а нужно принять во внимание те религизно-бытовые и культурные условия, при которых приходится жить и действовать учреждениям, и главным образом ту идею, из которой выходит то или другое учреждение. Мы удивляемся необычайной энергии монашеских орденов римско-католической церкви, их обширной благотворительной и педагогической деятельности, при сравнении с которой соответствующей деятельности нашего монашества невольно срывается улыбка презрительного негодования из уст нашей западнической печати. Но такой взгляд обнаруживает полнейшее непонимание существеннейшего характера православного монашества в сравнении с римско-католическим, – характера, который, прежде всего, обусловливается разностью коренной идеи, лежащей в основе той и другой церковной системы. Римский католицизм по своей сущности есть система церковной олигархии, в которой строжайшим образом церковный элемент разграничивается от общественного с целью сосредоточения всех отправлений власти в церковной иерархии, с высшим олицетворением ее в папстве. Чтобы окончательно порвать органическую связь церковной олигархии с обществом, папство ввело обязательное безбрачие в духовенстве, сделав последнее послушным орудием церковной администрации и дав ему наблюдательную роль по отношению к религиозной совести приходов для постоянного содержания ее в состоянии суеверного благоговения пред высшим выразителем церковной системы. Но общественная жизнь не ограничивается элементарными отправлениями прихода, проявления ее бесконечно разнообразны и далеко выходят за пределы приходской сферы. Если бы агенты папской власти ограничивались только наблюдением над отправлением приходской жизни, то все более общие и важные отправления общественной и народной жизни оказались бы вне ее контроля, – по естественному закону развития, потребности общественной жизни выработали бы своих независимых агентов, деятельность которых обусловливалась бы единственно этими живыми потребностями, независимо от всякой посторонней системы, в данном случае – папства. В числе этих сложных отправлений общественной жизни на первом плане стоит народное образование. В чьих руках народное образование, в руках тех и власть народная: истина эта имеет слишком реальный характер, чтобы папская система упустила ее из вида, и так как обыкновенных церковных сил было бы далеко недостаточно, чтобы захватить в свои руки этот источник народной власти, то папская система и выдвинула на эту деятельность легионы своих мужских и женских орденов, которые, оставив первоначальную идею монашества, всецело отдались практической деятельности в сфере важнейших отправлений народной жизни. Деятельность эта, несомненно, почтенна и служит могущественным рычагом культурного подъема низших классов народа, находящего в бесчисленных монастырях даровую для себя школу. Но лишь только эта деятельность переступает элементарные пределы народного образования, как тотчас обнаруживается ее внутренний характер, обусловливающийся ее служебным отношением к папской системе. Вся просветительная и благотворительная деятельность западных монашеских орденов, такая блистательная по своей заманчивой внешности, в своем последнем выводе есть не что иное, как колоссальная работа папства в пользу своего господства над совестью подчиненных ему народов. Потому-то, при всяком пробуждении национального духа, народ стремится, прежде всего, освободиться от этой даровой школы монашеских орденов, и гонение на иезуитов во Франции в последнее время служит ярким тому доказательством.
Совершенно иной характер имеет православное, и в частности русское, монашество. В то время как западное монашество, сделавшись служебным орудием системы папства, приняло практический характер и захватило в свои руки различные общественные отправления с целью направления их в духе папской системы, православное монашество неизменно сохраняет свой первоначальный характер чисто религиозных общин, имеющих своей конечной целью исключительно религиозно-нравственное воспитание народа. И такой характер вполне сообразен с внутренним существом системы православия. Православие и римский католицизм – это две совершенно противоположные системы, два противоположных миросозерцания, неясное понимание сущности которых производит невообразимую путаницу в понятиях лиц, берущих на себя смелость в нашей литературе трактовать о серьезных церковно-общественных вопросах. Если папская система, основавшаяся на развалинах языческой римской империи и усвоившая себе коренившуюся в последней идею мирового владычества, представляет собой церковную олигархию, резко отделенную от «мира» и смотрящую на последний как на объект своего исключительного господства, для осуществления которого ею пущен в ход весь многосложный механизм своих административных сил, – то в противоположность этому идея, лежащая в основе православного церковного миросозерцания, есть вполне идея общественная. Православная церковь не есть какая-либо иерархическая корпорация, которая в силу такой своей корпоративной отчужденности от остального общества принуждена бы была устраивать различные modus'ы vivendi, как это постоянно бывает с римским католицизмом. Напротив, наша церковь есть церковь в полном и первоначальном смысле этого слова, есть Ἐχχλησία в древнегреческом, народном смысле28. Она есть само общество, хотя общество избранных, т. е. верующих. Иерархия в ней, по своей сущности, не противоположна остальному обществу, а есть только высшая представительница его, высший орган религиозного сознания этого самого общества, и имеет основание своего существования в том неизменном законе общественного развития, по которому всякое общество имеет высший орган своего самосознания, подобно тому, как всякий организм имеет голову, или центральный пункт своей жизни и движения. При таком совпадении идеи церкви в православном смысле с идеей общества, естественно между ними, при здоровом состоянии всего общественного организма, не может быть никакого антагонизма, и потому церкви, в специфическом смысле, нет никакой надобности усиливаться захватывать те или другие отправления общественной жизни в свои руки для направления их в духе своей исключительной системы. Все эти отправления она спокойно может предоставить самому обществу, оставляя за собой лишь самый общий надзор за их нравственным развитием и ту специальную часть их, которая имеет бесспорно церковный или религиозно-нравственный характер, как например в системе народного образования преподавание Закона Божия29. Отсюда нашей церкви нет надобности возлагать на монашество несвойственной ему общественно-практической деятельности, и оно может беспрепятственно служить своей первоначальной идее – давать исход тем созерцательным, нежным, энтузиастическим натурам, душа которых не может мириться с пошлостью обыденной общественной жизни и рвется в мирное царство уединения – в область жизни духа и созерцания. Современная действительность русского монашества, конечно, далека от своего идеала, но судить его нужно не с точки зрения узкого практицизма, как это обыкновенно делается, а с точки зрения его действительного православного идеала, от которого оно уклонилось и впало в состояние косности мысли и отупения живого религиозного чувства. Тем не менее в наших монастырях доселе незримо идет созерцательная работа разума и лучшие произведения умозрительной богословской мысли у нас доселе выходили и выходят из монастырей, и если в самое последнее время замечается прискорбное оскудение чистой богословской мысли, то это оскудение идет параллельно с оскудением интеллектуального элемента в наших монастырях, устарелая организация которых мало благоприятствует свободной жизни просвещенного духа.
Как иностранцу, привыкшему к западно-европейским формам церковно-религиозной жизни, Пальмеру, конечно, трудно было составить вполне беспристрастный и объективный взгляд на русское монашество, хотя это гораздо простительнее ему, чем нашим русским иностранцам. Тем не менее, его просветленное «кафолической» теорией чувство дало ему возможность уловить главный мотив этой стороны нашей церковной жизни и избавило его от грубых промахов в суждениях о ней, столь обычных в иностранной литературе. Это, быть может, отчасти объясняется и тем, что ему пришлось составлять свое мнение лишь по некоторым крупным наблюдениям, в сферу которых входили, можно сказать, образцовые формы нашей монастырской жизни, в обеих наших столицах.
Во время своего пребывания в Петербурге, Пальмер имел случай довольно близко познакомиться с жизнью Сергиевской Пустыни, находящейся в нескольких верстах от столицы, и воспоминания о ней занимают несколько глав в его книге. Там он близко сошелся с настоятелем Пустыни, известным архимандритом Брянчаниновым, и несколькими монахами, говорившими по-французски, и в приятных беседах с ними провел несколько дней, изучая миросозерцание русского монашества и его обыденную жизнь.
В Сергиевскую Пустынь Пальмеру пришлось попасть на один из торжественных монастырских праздников, когда в нее прибывает много посетителей из столицы. Туда он отправился вместе с А. Н. Муравьевым, отслушал обедню, во время которой ему позволили стоять в алтаре, и затем участвовал в общей закуске и на обеде, приготовленном для посетителей гостеприимной братией Пустыни. Пальмер с видимым удовольствием отмечает эту общительность наших монастырей, с любопытством описывает «pirogi», которые он там ел, и «quass», который пил, замечая при этом, что quass – самый любимый в России напиток, но совсем не хмельной, и если между русскими можно встретить очень много пьяных, то это зависит совсем не от того, что русские любят quass, как сначала думал ученый английский богослов, а от того, что они еще любят «vodka».
Благодаря любезности монахов, Пальмер получил в свое распоряжение отдельную келью, из которой он делал богословские экскурсии к архимандриту Брянчанинову и другим монахам. В своих беседах монахи обнаруживали более определенный и строгий взгляд на церковные отношения, чем какой встречал Пальмер дотоле, и даже некоторые черты корпоративной исключительности в миросозерцании. Когда, в беседе с архимандритом и другими монахами, вопрос зашел об отношении церквей и Пальмер изложил свою теорию ветвей кафолических церквей, то его русские собеседники решительно отрицали эту теорию и утверждали, что их церковь есть вся кафолическая церковь, единственная церковь, представляющая вселенские соборы и содержащая истинную православную кафолическую веру, целостную и неизменную, между тем как латинская община и все западные христиане повинны не только во второстепенных заблуждениях и злоупотреблениях, но и в ереси касательно учения об исхождении св. Духа и от Сына, своевольно внесенного ими в Символ веры. Отступничество западного мира от истинной церкви, по мнению собеседников Пальмера, произошло не сразу, а постепенно, в различные периоды. Они обвиняли латинян в искажении всех тех мест в творениях латинских отцов, живших до разделения, на которых основывается теперь латинское учение, и не верили тому, чтобы папа Лев III, осуждая вставку в Символ веры, в то же время допускал, как утверждают латинские писатели, что самое учение этой вставки истинно. Что касается отношения церквей, то оно выражалось в общении их между собой по временам даже после обнаружения этой разности в доктрине, но это объясняется тем, что латинская ересь не получила еще своего полного развития, и притом латиняне при каждой попытке к воссоединению старались замаскировывать истинную сущность своего учения, а восточные, привыкши к общению и мало приходя в действительное соприкосновение с латинянами, благодаря различию в языке и обрядах, не могли сразу понять, что заблуждение сделалось общим и неисправимым на западе.
– «Если это так, – возразил Пальмер, – то почему же вы доселе называете свою церковь восточной, когда вы должны бы называть ее кафолической или вселенской церковью и должны бы в молитве и действии ревновать о наставлении и возвращении к истинному учению такой огромной части христианскаго мира, которая, по вашему мнению, впала в ересь?». Надо заметить, что Пальмер, идеально настроенный оксфордской доктриной в отношении воззрения на церковь и искавший кафолической или вселенской церкви, постоянно приходил в немалое смущение, когда в беседах с русскими ему приходилось постоянно слышать от последних название своей церкви не кафолической или вселенской, а просто восточной, русской, грекороссийской или православной. Последнее название, на взгляд Пальмера, еще несколько указывало на кафолическое сознание, но оно в то же время было так общо и неопределенно, ввиду того, что всякая церковь и община называет саму себя православной или правоверной (orthodoxe), – что в нем еще никак нельзя было видеть конкретного сознания кафоличности. Что же касается других названий, то они для идеально настроенного слуха оксфордского богослова положительно звучали каким-то местным сепаратизмом, национальной и вероисповедной исключительностью, не имеющей ничего общего с кафолическим сознанием. Но что еще более смущало Пальмера, так это то, что его русские собеседники постоянно прилагали священное для него название «кафолическая церковь» не к своей церкви, а к римской, называя последнюю «католической» церковью. Пальмер неоднократно указывает на это неправильное словоупотребление, говорит, что оно обнаруживает полнейшее несоответствие мысли и слова и питает гордое чувство латинян, которые в этом видят невольную дань уважения со стороны восточных схизматиков к истинно-кафолической, т. е. римской церкви. Словоупотребление это у русских так, однако же, укоренилось, что замечания Пальмера не сразу были понимаемы его русскими собеседниками, и только после развития Пальмером его теории кафоличности начинались объяснения, в свою очередь мало понятные английскому богослову, что на русском языке слова католический (catholic) и кафолический (catholic) имеют особый специфический смысл, отличный от первоначального греческого смысла этого слова30. На высказанный теперь Пальмером упрек в узком национализме, который будто бы выражается в названии Православной Церкви восточною, монахи основательно отвечали: «Наша церковь есть воистину вся Православная кафолическая церковь и она так отличительно называет себя; а название восточная, употребленное теперь нами, не обозначает какого-либо пространственного ограничения, как это было некогда, а скорее означает историческое и местное происхождение, потому что Христианство происходит с востока: Ex Oriente lux; мы молимся к востоку, мы ожидаем Христа с востока и Сам Христос есть превечный Восток. От запада отвращается оглашенный, когда он должен креститься, и отрекается таким образом царства тьмы».
На это со своей стороны английский богослов сказал:
– «Если это так, то вы должны бы послать миссионеров для обращения нас. И, однако же, не представляется ли очень трудным предполагать, что половина видимой церкви действительно тысячу лет тому назад впала в ересь, и при всем том, в течение стольких веков, не только продолжала существовать, но и возросла далеко больше истинной Православной Церкви, так что теперь относится к ней как две трети к одной трети? И притом произвела стольких мужей замечательной святости, показала столько могучей и разнообразной энергии и пережила столько бурь и лишений со времени отделения?». На эту тираду Пальмер услышал от своих собеседников в ответ, что они не признают за западной церковью, со времени ее отделения, ни святых, ни чудес; но тем не менее они признавали за ней некоторое церковное существование и сравнивали ее с десятью коленами израильскими, отделившимися от царства Иудейского, и даже намекали на возможность нового вселенского собора, который бы восстановил единение. По их мнению Римская церковь, с папой во главе, могла бы со временем восстановить свои полные права и свое место во вселенской церкви, если бы она исправила свои ошибки и подчинилась опять вселенским канонам, против которых она восстала31.
Вникая во внутреннюю жизнь русского монастыря, Пальмер замечал в ней преобладающее господство духа аскетизма, вытекавшего не из склада внешних условий жизни, а из самых наклонностей его обитателей. Сам настоятель Пустыни, сменивший блестящий военный мундир на монашескую мантию, был строгим аскетом по призванию и аскетическое богословие, по наблюдению Пальмера, было его любимым предметом. При наблюдении у английского богослова не преминула проскользнуть западная теория монашества, и он полюбопытствовал узнать о литературных и педагогических трудах обитателей монастыря. На это русские монахи отвечали ему, что у них мало книг в библиотеке и научная деятельность не относится к их прямой обязанности, что их дело не заниматься ученой или вообще какой-нибудь деятельностью, хотя бы на служение религии, но отправлять богослужение и жить, прежде всего, для спасения своих собственных душ и затем также молиться об остальном мире. Когда же затем Пальмер выразил мысль, что гораздо лучше было бы обратить некоторые из монастырей в ученые и деятельные общины, то монахи настойчиво повторяли, что молитва и благочестие гораздо действительнее всякой учености и деятельности всякого рода. Если Пальмер верно передал эти мысли своих собеседников (некоторые выражения прямо обнаруживают тенденциозную прикрашенность, неизбежную для иностранца), то тут нельзя не видеть той косности богословской мысли, в какую впало наше монашество. Идея православного монастыря, как убежища для энтузиастических натур от грубых условий обыденной жизни, нисколько не исключает науки, а напротив, в этом царстве духа и должна бы по преимуществу процветать наука и всякая книжная мудрость, так как тут мысль наиболее свободна от тяжких цепей, которыми часто сковывает и тормозит ее обыкновенная практическая жизнь. Ведь было же на Руси время, когда наши монастыри стояли во главе умственных и литературных движений, и если теперь, с развитием общественного сознания, умственная деятельность специализировалась и нашла в самом обществе разнообразные органы своего проявления и развития, то богословская мысль все-таки должна бы иметь своим источником наши монастыри, и если в них в настоящее время оскудела богословская мысль, то это служит достаточным признаком их ненормального состояния. Этот недостаток умственной жизни в наших монастырях повел к той исключительности монастырского миросозерцания, по которому все немонашеское стало подвергаться некоторому пренебрежению и подозрению. Когда Пальмер заметил монахам, что церковь нуждается не только в молитве, но и в умственной деятельности, то его собеседники, отстаивая свой взгляд, обнаруживали некоторую неприязнь к современным требованиям умственной жизни.
«Белое духовенство, – говорил один из них, – заражено либерализмом. Оно читает лютеранские и другие вредные иностранные книги, и сами епископы, хотя они теперь лучше, чем были в прошлом столетии, не сочувствуют монашеству в истинном смысле этого слова. Только пятеро из пятидесяти (между ними митрополит Киевский) покровительствуют монахам, и это потому, что, хотя по своему званию они сами монахи, но они большей частью академисты и находятся под светскими влияниями».32 А в другой раз эта исключительность монашеского миросозерцания выразилась еще резче. Когда речь зашла вообще о нравственном и религиозном состоянии вне монастырского мира, то монахи говорили Пальмеру: «Нравственность столицы достойна Вавилона; там идут театры, балы и маскарады, о которых не знали в России до Петра I. Наше духовенство чрезвычайно легко поддается новым и странным мнениям, читает книги неправославных и даже неверующих сочинителей, лютеран и других. Духовная академия заражена новшественными началами, и даже «Христианское Чтение» заражено ими, хотя в нем и печатаются многие переводы из древних отцов. Россия, пожалуй, находится, насколько нам известно, недалеко от взрыва в ней еретического либерализма. У нас есть хорошая внешность: мы сохранили все обряды и символ первобытной церкви; но все это – мертвое тело, в нем мало жизни. Белое духовенство насильно сдерживается в лицемерном православии только боязнью народа»33.
Приведенные тирады отдают такой исключительностью, что даже кардинал Ньюман нашел нужным по поводу их сделать замечание, что «у всякого народа есть партии и классы со своим особым esprit de corps (корпоративным духом), со своими традициями, антагонизмами и пр., и потому нельзя принимать буквально всего того, что говорили эти добрые монахи»34.
Но, благодаря этой именно исключительности, в сознании монашества тверже живет предание старого церковного строя и больнее чувствуется уклонение от него. Когда на жалобу одного из монахов на то, что правительство отобрало у монастырей имущество, Пальмер выразил мысль, что было бы желательно опять дать монастырям имения, чтобы сделать их более независимыми от светской власти, то его русский собеседник ответил: «Э-э, в чем мы нуждаемся, так это – в патриархе. В настоящее же время Протасов у нас патриарх, хотя он и солдат, – и это потому, что он представитель государя. Он ездит по балам и театрам, прекрасно танцует и вообще un tres galant hommе – но...». Пальмер начал было объяснять, что граф Протасов по своему положению не что иное, как древнегреческий великий Логофет (ὁ μεγας Λογουέτης), но монах стоял на своем и говорил, что «при теперешнем порядке вещей если бы, например, все епископы восставали против какого-нибудь опасного нововведения, это было бы бесполезно, если только Синод не будет на их стороне; а если бы Синод вздумал под влиянием светской власти сделать что-нибудь вредное в церковном отношении, то этому пришлось бы подчиняться, только бы чрез это усилился раскол. Говоря о наличном составе Синода, монах находит дурным, что в число членов его допущены два священника, на равной ноге с епископами. «Единственным оправданием этого, – продолжал собеседник Пальмера, – может служить то, что эти священники в Синоде могут быть полезными в качестве представителей женатого духовенства, при уяснении нужд, связанных с его состоянием, так как все остальные члены Синода монахи». Заговорив о членах Синода, монах, естественно, не мог не охарактеризовать для иностранца самого замечательного в то время члена его, Филарета Московского. «Филарет Московский, – сказал он, – сделался архиепископом в 30 лет от роду, тогда как по регламенту Петра Великого монах в этом возрасте мог только сделаться иеромонахом. Он тонок, изворотлив, так что может весь Синод повертывать вокруг своих пальцев и заставить его признавать черное белым. За что бы он ни взялся, все будет сделано, то есть – если одобрит граф Протасов. Он необыкновенно хорош на своем теперешнем месте, именно на втором; но сохрани нас Бог, чтобы он сделался митрополитом Петербургским! Он честолюбив, и я опасаюсь, что если бы граф Протасов задумал какое-нибудь нововведение, он стал бы на его сторону и повлек бы за собой всех остальных. Но он совершенно православен. Старый митрополит Серафимт – нуль. Митрополит Филарет Киевский – покровитель монахов, превосходный и строго православный человек, но, любящий уединение и некрасноречивый. Муравьев ведет строгую жизнь, отличную от других, и, пожалуй, недалек от вступления в монашество. Он товарищ обер-прокурора, а быть товарищем обер-прокурора лучше, чем быть архимандритом, или даже чем епископом, даже архиепископом или митрополитом», – смеясь, шел в быстрой прогрессии собеседник Пальмера. Вообще, по его мнению, теперешние отношения между церковью и государством в России далеко отклонились от своего идеала, который некогда быль осуществлен в истории. «Истинный тип и beau ideal должных отношений между церковью и государством, по его взгляду, был представлен в России патриархом Филаретом и царем Михаилом, когда светская власть была у сына, а почтение, уважение и искреннее послушание, должные отцу, были вполне ему оказываемы»35.
В таких беседах Пальмер провел несколько приятных дней в Сергиевской Пустыне. Монахи со своей стороны заинтересовались ученым иностранным богословом и засыпали его расспросами об особенностях англиканской церкви. Признает ли она таинства и сколько именно? Как совершается евхаристия – на опресноках или квасном хлебе? Причащение дается под одним или обоими видами? Какое одеяние у англиканского духовенства, какого рода митры, кресты, свечи? Употребляется ли фимиам при богослужении? Признается ли призывание святых, почитание икон и мощей? Эти и многие другие подобные вопросы интересовали русских собеседников Пальмера, и они наверно немало дивились, когда англиканский богослов с грустью отвечал, что англиканская церковь благодаря постоянным протестантским насилиям и другим влияниям совершенно лишилась большей части упомянутых церковных принадлежностей36. Одной из главнейших задач оксфордского движения было именно восстановление в англиканской церкви утраченных ею старых церковных форм, за которыми оксфордские ученые признавали великое воспитательное в религиозном отношении значение, и потому Пальмер с любопытством занес в свой дневник рассказанный настоятелем пустыни случай, свидетельствующий о таком именно значении церковных форм. Однажды, рассказывал архимандрит, священник одного из С.-Петербургских приходов, где жил лютеранский супер-интендент (благочинный), позван был в дом супер-интендента отслужить благодарственный молебен по какому-то семейному случаю. Священник, конечно, предполагал, что молебен нужен был кому-нибудь из русских квартирантов этого дома, но каково же было его удивление, когда он узнал после, что молебна желал сам лютеранский супер-интендент. Когда священник выразил свое удивление, то тот отвечал: «Ах, батюшка! У нас нет ни одного из тех утешений, какие можно найти в ваших обрядах и церемониях»37.
В заключение, наконец, Пальмер попробовал коснуться вопроса об общении. С этой целью он спросил архимандрита, не может ли он принять от него милостыню на монастырь, с тем, чтобы молиться за англиканскую церковь – об избавлении ее от врагов и соединении ее с восточной церковью. Архимандрит отвечал, что он не может сделать этого, не спросив предварительно обер-прокурора и Синод.
– «Но ведь вы принимаете милостыни от частных лиц или от семейств и молитесь о спасении их душ; отчего бы вам не сделать того же и для церкви англиканской или кого-нибудь из ее членов, желающих этого?».
– «Нет, – сказал решительно архимандрит, – это невозможно38. В деле, касающемся других церквей, мы ничего не можем делать без разрешения епископа и Синода. Мы каждоденно молимся о соединении церквей, но особая молитва – иное дело. Если бы состоялось соединение восточной и англиканской церквей, мы возрадовались бы больше, чем воссоединению униат. Мир не был бы более разделенным».
– Чтобы начать это дело, нужно научиться серьезно желать его и молиться о нем, – сказал Пальмер.
– Вы вот отправляетесь теперь в Петербург, и Бог да споспешествует вам в этом, – на прощанье сказали монахи своему чужеземному гостю39.
§ V
Попытка Пальмера сблизиться с с.-петербургской духовной академией. – Взгляд А. Н. Муравьева на состояние акадении. – Беседа Пальмера с протоиереем Павским. – Беседа с протоиереем Сидонским. – Богословские воззрения последних. – Посещение духовной академии и вынесенные впечатления. – Профессиональное миросозерцание.
По возвращении из Сергиевской пустыни в Петербург, Пальмер встретился с А. Н. Муравьевым и, передавая ему свои впечатления, вынесенные из наблюдения над русской монастырской жизнью, заметил ему: нельзя ли бы два или три монастыря обратить в ученые общины, подобно монастырям бенедиктинцев? Муравьев отвечал: «Многого в настоящее время сделать нельзя. Если обязательное безбрачие есть бремя латинской церкви, то обязательный брак есть такое же бремя нашей церкви, тем более что последний противен духу канонов, противен наставлениям ап. Павла, и просто основывается на местном обычае. Почти все наше духовенство – сословного происхождения и составляет замкнутую касту. Дворянам, купцам, высшим классам открыт доступ к священному сану, но они не принимают его. Что же нам делать? Мы живем не в века соборов, когда можно бы было изменить такой порядок вещей. Что же касается нашего монашества, то оно все, за малыми исключениями, состоит из крестьян, которым не до науки»40.
Не найдя в монастыре достаточно компетентных представителей богословской мысли, с которыми можно было бы поменяться высшими богословскими воззрениями, Пальмер выразил Муравьеву желание сблизиться с духовной академией в С.-Петербурге и даже, если бы можно было, и поселиться в ней на некоторое время. Но Муравьев отсоветовал ему.
– «Там всегда заняты, – сказал он, – и вы никого не будете видеть. Обитатели академии не составляют общества; это – низшее духовенство и его дети, со всеми своими особенностями и предубеждениями. Вы для них будете заморским чудовищем. Они стали бы смотреть на вас как на еретика, и самый факт пребывания среди них английского диакона был бы скандалом. Они не имеют ваших идей о единении и не поймут их».
– Они, кажется, могут проникаться протестантскими идеями, – возразил Пальмер, – отчего бы им не войти и в кафолические идеи? Мне кажется, можно бы сделать что-нибудь для того, чтобы примирить их и изменить их отношение к нам.
Но Муравьев стоял на своем и продолжал:
– Вы не уживетесь среди них, даже если бы приноровились ко всем их привычкам и понятиям. Притом русская молодежь очень шаловлива и саркастична, и может наделать вам много неприятностей41.
Пальмер не отказался, однако, от желания увидеть духовную академию, и вскоре ему представился удобный к тому случай. А пока он продолжал свои сношения с высшими представителями русской богословской мысли тогдашнего времени и сверял их взгляды со своей оксфордской доктриной. Теперь ему пришлось встретиться с известными учеными богословами – протоиереями Павским и Сидонским.
Протоиерей Г. П. Павский занимает видное место в истории развития нашего церковного самосознания и богословской мысли, и хотя он не выразил своего миросозерцания в каком-либо капитальном труде, но, тем не менее, служил ярким выразителем одного из двух направлений нашей церковно-богословской мысли. Это был богослов, если можно так выразиться, феофановской школы и отличался известной свободой богословских воззрений, которые едва ли были не шире кафолической доктрины Оксфорда, так что Пальмеру приходилось вновь прилаживать свою теорию для приведения ее в согласие с православным миросозерцанием в его новом самобытном представителе. Когда Пальмер завел речь о своем любимом предмете, – замеченном им несогласии русского перевода XVIII членов иерусалимского собора 1672 года с греческим подлинником, – то Павский сразу согласился, что действительно при переводе сделаны были некоторые изменения, и заявил, что по его мнению они вызывались сущностью предмета, так как там очевидны были следы римско-католического влияния. Это же влияние, – заметил Павский, – отразилось и на Православном Исповедании Петра Могилы, в котором термин пресуществление (transubstantiatio) прямо заимствован от латинян, что объясняется самым воспитанием Петра Могилы в римско-католических коллегиях. Пальмер на это сказал, что, по его мнению, Петр (Могила) является ревниво православным, кроме тех мест, где он не подозревал опасности, – но Павский обобщил все миросозерцание западно-русской церкви и заметил: «Вся церковь Малороссии находилась в соприкосновении с латинянами и униатами и ничто, выходившее из нее, не могло быть свободным от подозрения. Русская церковь всегда держалась подальше от всяких новшеств, но термин «пресуществление» теперь, наконец, допущен митрополитом Филаретом в его Катехизис, и таким образом Синод запечатлел его церковным авторитетом. Тем не менее, мы не связаны его римско-католическим смыслом»42. Такой неожиданный взгляд видимо совпадал со взглядом самого Пальмера, но в устах русского богослова он был именно слишком неожидан для Пальмера, чтобы не произвести в нем некоторого смущения, и потому он заметил: «Ведь катехизис Филарета представляет только новую форму Православного Исповедания, и я не понимаю, как можно отрицать авторитет Православного Исповедания, когда оно формально на соборе 1642 года в Яссах было исправлено и одобрено в присутствии патриаршего экзарха, и в последствии самими восточными патриархами, и тем более, что оно первоначально составлено было в России и для России»? – Павский объяснил своему собеседнику, что оно было составлено исключительно для западной окраины России и далеко не выражало собой богословского воззрения самой русской церкви, которая всегда сторонилась от принятия киевских богословских мнений. Что же касается греков, то они, – заметил Павский, – легко попадают в заблуждение. – «XVIII членов, – подхватил Пальмер, – несомненно содержат одну нелепую ошибку, именно в учении о каноне св. Писания, которую Св. Синод исправил». Павский подтвердил это замечание и затем перешел к изложению своих богословских воззрений, которые опять привели Пальмера в некоторое смущение своей неожиданной смелостью и широтой. Так Пальмер нашел, что воззрения Павского на церковь не совсем православны, потому что и он папскую церковь называл, как и вообще все русские, католической и понятие истинной церкви расширял так, что под него подходили все христианские вероисповедания, содержащие основную сущность Христианства. Когда Пальмер заметил, что невозможно так расширять понятие церкви, что лютеране, напр., не могут составлять церкви вследствие отрицания существенного элемента церкви – апостольского преемства, выражающегося в епископстве, то Павский сказал, что для этого достаточно, если они признают Символ, принятый всеми христианами, а что касается апостольского преемства, то ведь англикане и сами имеют не более прав на апостольское преемство, чем лютеране.
– «Если бы я думал так, – сказал Пальмер, – я не был бы членом церкви англиканской. А лютеране, вместо того чтобы протестовать против несправедливого отлучения, объявили, что они вышли из Вавилона, и основали новые человеческие церкви на основании Библии. Самые имена, которые в них даются духовенству, показывают, что они не суть церковь». Пальмер намекал при этом на тот известный факт, что в протестантстве, отвергнувшем священство в смысле таинства, самое слово «священник» постепенно стало выходить из употребления и вместо него сделались обычными простые названия – пастор, проповедник, – обозначающие только известное общественное положение человека. Но Павский и здесь в своих воззрениях оказался шире англиканскаго богослова и не только говорил, что пастор и священник одно и то же, но и утверждал, что протестантские пасторы, поставленные посредством возложения рук, сами могли передавать таким же образом принятое ими посвящение и другим, что окончательно смешало все богословские аргументы Пальмера.
– Не нашли ли вы Павского слишком протестантским для вас? – спросил Пальмера капеллан английской церкви в Петербурге.
– Да, я нашел его достаточно неправославным (heterodoxe), – ответил Пальмер.
– Я так и думал, – заметил тот, – при всем том я скажу вам, это – превосходнейший человек и очень любим и уважаем. Он, несомненно, человек высокого ума и образования43.
Несколько иным характером отличался протоиерей Ф. Ф. Сидонский, с которым познакомился затем английский богослов. Если Павский отличался смелостью суждений и широтой миросозерцания, которые на первый вгляд производили впечатление некоторой легкости в отношении к важным предметам, то у протоиерея Сидонского был совсем другой склад ума. Это был богослов глубокой философской закваски, его религиозное миросозерцание основывалось на громадной философской эрудиции, которая до такой степени внедрилась в его существо, что философия и богословие для него стали как бы одним органическим целым на различных ступенях его развития. Вследствие этого высшее духовенство, по замечанию Пальмера, не особенно благосклонно относилось к протоиерею, и именно за то, что он «к религии примешивал человеческую философию». Понятно поэтому, что и беседа Пальмера с Сидонским должна была принять серьезный философский оттенок.
Беседа происходила на латинском языке и протоиерей Сидонский сразу же задал Пальмеру вопрос: какой философии следуют они в Англии – Лейбница, Декарта или какой другой?
– «Мы не особенно любим новых и притом иностранных писателей, – отвечал Пальмер. – Мы читаем Аристотеля и Платона и некоторые произведения наших богословов для приведения их в связь с православными богословами. Немцы умны и трудолюбивы, но, благодаря их несчастному состоянию, все их книги заражены ересью. Так постоянно было с того момента, когда они сделали этот несчастный подвиг – исхода из Вавилона».
Когда протоиерей Сидонский заметил, что при теперешнем нашем состоянии нечего бояться философских мнений и что все обстоит так тихо, что нечего опасаться каких-либо воздействий западных религиозных заблуждений, – Пальмер вдался в длинное размышление о состоянии православной церкви и ее отношении к западным вероисповеданиям. «Если бы не гражданская власть, которая в настоящее время сдерживает, но на которую полагаться тоже не совсем безопасно, вы скоро увидели бы, – говорил он Сидонскому, – как внутреннее разделение стало бы среди вас усиливаться и распространяться, и кроме того вы не были бы в состоянии противодействовать даже силе псевдо-католицизма римского. Если вы только часть церкви, то где же находится целое? Покажите нам ту матерь-церковь, которую мы исповедуем в символе веры и которой обязаны повиноваться одинаково как вы, так и мы. Часть не может быть без целого. Есть община, которая посягает на звание целого, и с точки зрения распространенности и многочисленности членов имеет больше на это прав, чем всякая другая; эту общину вы собственными устами называете католической (кафолической – catholic) церковью, равно как и все остальные ее враги, и она смело говорит, что вы принадлежите ей, что вы не что иное как отделенная часть, отчужденный член, испорченное дитя, овца заблудшаяся. Не оправдываете ли вы ее претензий своим названием ее и своим к ней отношением? Вы допускаете, что вы только часть; она говорит, что она составляет целое. И, по-видимому, вы признаете это, так как называете эту общину «кафолической церковью», и сами никогда не выясните для себя хорошенько, что же такое это целое, которого вы составляете часть? Не похоже ли это, что вы действительно то, чем она называет вас? Вы, конечно, можете сказать, что вы самих себя называете кафоликами (capholics), а латинян католиками. Мы тоже иногда делаем подобное же оправдание, когда говорим, что они только римские католики, а мы сами действительные католики или кафолики. Но, вопреки всем этим оправданиям, народный язык имеет свой серьезный вес. Предположим, однако, что вы повернете фронт и станете утверждать, согласно учению ваших церковных книг и уставов, что ваша кафолическая восточная церковь есть целая вселенская церковь и что кафоличество восточно по самому своему происхождению, подобно тому как Рим говорит, что оно римское по подчинению. Тем не менее, не будете ли вы странным народом, претендуя на всю кафолическую церковь! В Российской империи есть миллионы лютеран и кальвинистов, которых вы должны бы попытаться обратить к истинной вере и церкви. Затем существуют латиняне, составляющие две трети всего христианскаго мира, и вы не только не показали никакой ревности или деятельности для обращения их, но сами в действительности постоянно следовали и подражали им, ища у них учености и богословских познаний, усвояя их научные новшества и даже составляя свои вероопределения на соборах под их руководством и влиянием. Но пусть это так; не будем говорить также о чрезвычайной несообразности предположения, что половина церкви отпала как община и со времени своего отпадения возросла в духовной силе и распространенности гораздо больше, чем православная; возьмем только во внимание, что здесь, в этом одном городе, постоянно имеется английская колония в две или три тысячи человек, с самого основания столицы. Ну, что вы за эти 130 лет сделали для спасения их душ и сделали ли чего-нибудь больше, чем для какого-нибудь стада свиней? Такова-то ревность и любовь единой, святой, соборной апостольской церкви!».
Протоиерей Сидонский заметил, что наша церковь всегда отличалась умеренностью и веротерпимостью и всегда старалась не осуждать других в их вероучении; но Пальмер отвечал, что «такая умеренность жестока в отношении к другим и самоубийственна в отношении к себе». На замечание протоиерея, что ревность о религии причинила пролитие потоков крови, Пальмер опять сказал, что «такая ревность, которая причиняет пролитие крови, кровожадная и сатанинская ревность, истинная же ревность скорее причинила бы излияние молитв и слез», – и затем опять заговорил о внутреннем положении русской церкви: «Гражданское правительство составляет очень ненадежного союзника, как мы теперь начинаем узнавать по опыту в Англии. Когда случится – у вас будет либеральный государь, окруженный министрами вроде наших лорда Джона Рюсселя и лорда Мелборна, а не Протасовыми и Муравьевыми, и когда они дадут волю раскольникам и «католикам» нападать на вашу церковь, вы без сомнения откроете, что гораздо лучше было бы, вместо того чтобы укрываться позади самодержавнейшего государя, самим стараться мыслить и действовать подобно истинным кафоликам, не при чтении только символа веры исповедуя единство церкви, но – веруя своим сердцем и проявляя эту веру в словах и делах»44.
Если в этих суждениях Пальмера много односторонности, обусловленной его излюбленной теорией кафоличности и начавшей уже проявляться симпатией его к той церкви, которая впоследствии приняла его в свое лоно, то некоторые частности не лишне иметь в виду при уяснении тех недостатков, которыми страдает наша церковно-религиозная жизнь. Некоторые факты новейшего времени служат значительным оправданием мнения Пальмера насчет неудобства для правильного развития церковной жизни слишком много полагаться на гражданское правительство. Когда, под веянием нового времени, покровительственная система государства по отношению к церкви значительно ослабела, то все враждебные Церкви элементы не замедлили воспользоваться этим ослаблением для нападения на нее или на ее представителей в лице духовенства. Вся переживаемая нами вакханалия газетных и журнальных хулителей духовенства есть одно из проявлений этой враждебности, и нельзя не сознаться, что наше духовенство в первое время оказалось совсем неприготовленным к отпору этой враждебной оппозиции достойным образом, и только теперь оно оправляется и, опираясь на оживившуюся самодеятельность, начинает сдерживать враждебный напор оппозиции.
С целью изучить практически русский язык и познакомиться поближе с жизнью и воззрениями русского духовенства, Пальмер поселился у священника Фортунатова, на Выборгской стороне. Это был еще молодой человек, только что кончивший курс в петербургской духовной академии и потому могший служить для Пальмера показателем не только воззрений духовенства, но и состояния высшего богословского образования в России.
При посредстве о. Фортунатова Пальмер удовлетворил своему желанию – проникнуть в духовную академию, и познакомился с ректором ее, архимандритом Афанасием Дроздовым (1841 – 1847), бывшим впоследствии епископом саратовским и затем архиепископом астраханским. Это был, как известно, весьма образованный человек, ученый классик и глубокий богослов, хотя и не оставивший по себе печатных произведений. Он с интересом принял англиканского богослова, прочитал его введение к XXXIX членам англиканской церкви и, найдя в нем примирительный тон, пожелал видеть самые члены. Введение Пальмера, написанное под углом зрения оксфордской доктрины, стоит гораздо ближе к учению вселенской церкви, чем учение самых XXXIX членов, и когда ректор Афанасий обратил на это внимание, – то Пальмер поспешил сделать оговорку, что «члены никоим образом не составляют общего исповедания веры и что их нужно рассматривать в соображении с теми особенными обстоятельствами, среди которых они произошли». Члены эти содержат в себе западное учение о «Filioque», и когда Пальмер стал объяснять причины внесения его в англиканский символ, Афанасий заметил, что это «profundissima et difficillima quaestio». Ректор просил Пальмера заходить к нему почаще и, пользуясь этим любезным приглашением, Пальмер успел познакомиться с внешней и внутренней жизнью академии.
Состояние наших высших богословских школ в то время было не завидное. Крайняя скудость содержания как наставников, так и студентов, способна была убивать всякую энергию, и надо только удивляться, что при таком материальном состоянии высших духовно-учебных заведений находились еще люди, которые отдавали им на служение всю свою жизнь. И эти люди не были какими-нибудь неудачниками, отдававшимися служению высшей богословской науке потому только, что они не способны были ко всякому другому общественному служению; напротив, в числе их значатся имена, несомненно служащие украшением нашей богословской и философской литературы. В с.-петербургской академии к этому времени относится преподавательская деятельность протоиереев Павского и Сидонского, профессора Карпова, Макария Булгакова и других, и около этого же времени получили свое образование и начали службу в академии большинство теперешних ее профессоров, из которых все более или менее сделали ценные вклады в нашу богословскую и церковно-историческую литературу. Если принять во внимание, что вместе с материальной скудостью тогдашним деятелям нашей высшей богословской науки приходилось еще испытывать явное пренебрежение со стороны высшего управления, как это можно видеть даже из приведенного выше отзыва об академии такого человека, как А. Н. Муравьев, то сосредоточение в академии даровитых лиц может служить ярким доказательством внутренней энергии духовной среды, которая могла давать из себя таких самоотверженных деятелей.
Вникнув в жизнь академии, Пальмер нашел, что обитатели ее далеко не были такими узкоумными дикарями, какими изображал их А. Н. Муравьев. Студенты оказались очень серьезными молодыми людьми, которые не только не дичились англиканского богослова, а, напротив, с большим интересом расспрашивали его о состоянии англиканской церкви и засыпали его вопросами всякого рода. «Какой авторитет, – спрашивали они его между прочим, – придается в Англии переводу LXX, вульгате и еврейскому тексту? Какие переводы признаются лучшими кроме названных? Какой архиепископ лондонский написал книгу, опровергающую христианство? Чей ученик был Штраусс? В каких книгах можно найти учение англиканской церкви?» и пр. Некоторые из студентов писали сочинения об англиканской церкви, и им интересно было узнать, к чему она стоит ближе – к лютеранству или папизму? По их предположению, – замечает Пальмер, – она стоит ближе к лютеранству. В просмотренных Пальмером курсовых сочинениях студентов преобладал таинственно-отвлеченный элемент, видимый отголосок мистического направления, охватившего пред тем русское общество45.
Разговаривая с о. Фортунатовым о богословском образовании в России и вообще о религиозном состоянии русского народа, Пальмер с удивлением услышал от своего собеседника, что истинные православные воззрения живут только в среде духовенства, а все остальное образованное общество заражено вольнодумством (all freethinkers) и в особенности – профессора и студенты медицинской академии (вид на которую выходил из квартиры о. Фортунатова), и не только они, но и вообще врачи в этом отношении pessimi sunt. О. Фортунатов до такой степени был убежден, между прочим, в неизбежности неверия и вольнодумства для членов медицинской профессии, что ни за что не хотел поверить Пальмеру, что в Англии эти люди совсем не отличаются вольнодумством, и думал, что они по всей земле таковы, по слову Священного Писания: «восхвалят ли Тебя мертвые, о Господи, и врачи восстанут ли исповедать Тебя?».
Этот взгляд, при всей его исключительности и односторонности, не лишен некоторой основательности и находит доселе соответствие в действительности. При отсутствии у нас серьезной научной и философской подкладки у лиц профессионального образования, их общее миросозерцание легко выходит из колеи при одном соприкосновении с мертвыми орудиями их ремесла, в таком состоянии они уже легко переходят от возможности, напр., анатомического анализа трупа к возможности такого же анализа всего мира, который представляется им простым трупом, а не живым космосом, каким он является пред философским миросозерцанием.
§ VI
Английский диакон в великосветском кругу. Церковно-религиозная жизнь великосветского мира. Шатание великосветской мысли. Периодические увлечения и их причины. Отношение в церкви. Разнообразные формы религиозных увлечений. Искатели и искательницы религиозных приключений. Либеральный евангеликализм.
При наблюдении русской церковно-религиозной жизни и богословской мысли, Пальмер не ограничивался профессиональными сферами, которые естественно могли произвести лишь более или менее одностороннее впечатление; он старался проникать во все сферы и слои русского народа, чтобы всесторонне изучить его церковно-религиозное миросозерцание. Между прочим, ему особенно посчастливилось в том отношении в великосветском кругу, где он в короткое время приобрел многочисленные знакомства и связи. Наш великосветский круг, несмотря на разрушение всех сословных и кастовых междустений, остается до сих пор строго замкнутым в себе миром, который живет своими особыми преданиями, своей особой жизнью и своим особым миросозерцанием, не имеющим ничего общего с остальным миром. Вследствие такой замкнутости внутренняя жизнь его мало известна обществу и только благодаря великосветским романистам она вводится по временам в русло обыкновенной общественно-литературной жизни. Что же касается религиозного состояния этой среды, то о нем, можно сказать, ничего неизвестно и доселе не было даже попытки более или менее обстоятельно изучить ее. Духовенство наше слишком «вульгарно» для того, чтобы быть принятым в этой среде, и все отношения его к ней ограничиваются формальными отправлениями необходимых треб. Поэтому о церковно-религиозном состоянии великосветского мира существуют самые неясныя и противоречивые представления, которые сходятся лишь на признании господства пустоты в церковно-религиозной жизни этой среды. Но такое представление было бы не совсем справедливым. В нашем великосветском мире постоянно идет деятельная работа религиозно-богословского разума, как можно судить даже по тем религиозным увлечениям, которые периодически заявляют о себе в нем. Пустота не способна реагировать; если же наш великосветский мир способен увлекаться различными религиозными движениями, то это верный знак, что в нем жив религиозный инстинкт, которым и злоупотребляют разные заезжие аббаты, ханжествующие лорды и юродствующие пашковцы. Об этом же свидетельствует и та чуткость и тот интерес, с которыми наш великосветский мир относится к разным религиозно-богословским новинкам. Пальмер в своей книге представляет много примеров этого. Ему приходилось вести продолжительные богословские беседы с разными лицами из великосветского круга, и воззрения некоторых из его собеседников и собеседниц могут служить типическими образцами великосветского богословия.
Как англичанину, Пальмеру весьма интересно было определить отношение нашего великосветского или аристократического круга к церкви. В Англии, как известно, государственная церковь есть по преимуществу церковь аристократии, которая блистает изысканным проповедничеством, роскошной обстановкой и высшими ценами на места, исключающими для простого бедного народа всякую возможность доступа к ним. Высшая аристократия там служит главнейшей опорой церкви, и духовенство в общественном и материальном отношении поставлено так высоко, что оно близко соприкасается с аристократией, а в высших своих степенях и прямо выходит из нее. Если с одной стороны это и хорошо, так как указывает на высшее общественное значение и влияние церкви, то с другой стороны это же и служит источником главной слабости англиканской церкви. Опираясь на аристократию и стараясь постоянно держаться на соответствующей высоте общественного положения, она потеряла под собой народную почву, народ отшатнулся от нее и ударился в сектантство. Пальмер вполне сознавал эту слабую сторону своей церкви и потому с особенным интересом отмечает то преимущество нашей церкви, что это – именно народная церковь, к алтарю которой свободен доступ последнему бедняку. Но это последнее преимущество в свою очередь получает свое полное значение, когда не переходит в крайность и когда во имя народа, как массы, не вытесняется высший класс его, как главный носитель народного разума и духа. Вот с этой-то стороны Пальмеру и интересно было определить отношение нашей аристократии к нашей народной церкви.
Надо заметить, что Пальмеру пришлось производить свои наблюдения в самое неблагоприятное время. В умственной жизни тогдашнего образованного русского общества только что пред тем прошли два бурных течения совершенно противоположного направления. Это с одной стороны – сильное влияние романизма, семена которого смелой и искусной рукой распространяли иезуиты до своего полного изгнания из России в 1820 году, а с другой стороны – увлечение мистицизмом, упрочившимся под влиянием англо-континентального библейского общества. То и другое течения прошли исключительно по умственной жизни нашего высшего образованного общества, но тем сильнейший след они оставили по себе. Наиболее слабые личности, и притом по умственному своему складу стоявшие, так сказать, уже вне церковной ограды, были захвачены этими течениями и увлечены ими частью к подножию римского папского престола, а частью – в бездну мистической беспринципности. Но для развития нашего общества гораздо большее значение имели следы, оставленные этими течениями на массе того образованного великосветского общества, которое удержалось в ограде церковной. Они настолько сильно повлияли на все религиозное миросозерцание этого общества, что ими надолго определилось характеристическое направление церковно-религиозной жизни и богословской мысли в этой среде. Увлечение романизмом дало сильный колорит папизма умственному складу нашего образованного общества, а когда это увлечение встретилось с не менее сильным потоком враждебного ему мистицизма, то это столкновение двух противоположных начал окончательно лишило великосветский разум необходимого равновесия и, вследствие этого, водворилось то шатание богословской мысли, каким характеризуется религиозно-умственная жизнь нашего великосветского круга в записках Пальмера.
Англиканскому богослову сразу бросилась в глаза такая шаткость в религиозном миросозерцании нашего великосветского круга, и при передаче своих богословских бесед с разными представителями этого круга он постоянно отмечает эту особенность, которая сначала казалась ему загадочной, тем более что он видел в этой же среде несомненные признаки здравой церковности. Во всех домах, где он бывал, его принимали с величайшим гостеприимством и постоянно вступали с ним в религиозные беседы с несомненно живым интересом, особенно дамы, которые даже просили его приходить к ним в церковном одеянии и засыпали его вопросами о разных особенностях англиканской церковной жизни, о священниках и епископах, о том, существует ли в Англии обычай просить у них благословения и в какой форме оно дается, и т. п. В некоторых случаях он встречался с глубокой привязанностью к формам церковно-религиозной жизни православной церкви. Княгиня Потемкина упрекала англичан в том, что «их епископы живут как светские люди и не имеют ни того духовного характера, каким отличаются наши епископы, ни того почтения, которое соединяется с последним»46. Другая дама сделала энергическое нападение на Пальмера и со всем рвением строгой последовательницы своей церкви отрицала всякую возможность осуществления пропагандируемой Пальмером схемы о соединении церквей47. Третья умилила англиканского богослова простотой своей религиозной веры, когда она в его присутствии благословила отеческим крестом своего племянника, отправлявшегося на ночной покой48. Но при всех видимых чертах религиозности, характеризующих внутреннюю и внешнюю жизнь нашего великосветского круга, от Пальмера не могло ускользнуть то отчуждение от церкви, которое выступало наряду с признаками религиозными. Он стал доискиваться причины его и отчасти нашел разъяснение в устах представителей этого самого круга.
В день Михаила Архангела, 8 ноября, Пальмер обедал у княгини Софьи Голицыной. По обыквовению, зашел религиозный разговор, и княгиня стала жаловаться на то, что у нас весьма мало представляется случаев такой религиозной беседы с духовными пастырями, из которой можно бы извлечь религиозный совет или назидание, так как духовенство никогда не входит в их общество. «Нет сомнения, – продолжала она, – наш обычай ходить на исповедь очень хорош; но ведь это только раз в год, а в длинных промежутках мы исключительно предоставлены самим себе. Службы церковные чрезвычайно утомительны, и мы лишь немного понимаем в них, особенно в вечерне и утрене, и из высших классов почти никто и не ходит к утрени. Она очень продолжительна, и нужно стоять все время. Более понятна нам литургия, и мы лучше можем следить за ней».
– Но если купить церковные книги и по ним следить за богослужением, то оно станет более понятным, – заметил Пальмер.
– Нет, это невозможно – стоять в церкви с книгой в руках! Это было бы неуважением к святыне.
– Я разумею несколько не то, – ответил Пальмер. – Я разумею – читать богослужебные книги так с четверть часа или вроде этого каждый день дома, и тогда вам скоро станет понятнее церковное богослужение.
– Так делают у нас иные пожилые люди, и потому быть может и выстаивают все службы, которые не кажутся им утомительными, – ответила княгиня и, как бы чувствуя уничтожение своего прежнего аргумента, старалась найти оправдание своему отношению к церкви в том, что наше духовенство еще совсем не оставило своей дурной привычки – пить49.
На такие и подобные разговоры Пальмеру приходилось постоянно наталкиваться в гостеприимных домах его великосветских друзей. Обедая у Потемкиных в первый день рождественского поста, где по православному обычаю предложен был постный стол, Пальмер поинтересовался узнать, насколько строго соблюдаются в высших классах церковные постановления касательно постов. От постного стола своих хозяев он хотел сделать благоприятное обобщение касательно вообще всего великосветского круга, но должен был разочароваться, когда ему сказали, что «высшие классы теперь настолько протестантизировались, что посты соблюдаются лишь очень немногими, по крайней мере, в Петербурге, где живет до семидесяти тысяч немцев. Некоторые, пожалуй многие, соблюдают пост лишь в первую и последнюю неделю великого поста». Но насколько вообще непопулярны посты в высших классах, Пальмер мог видеть из того, что с наступлением того или другого поста заведенные у Потемкиных «журфиксы» быстро пустели, так как по заведенному у них обычаю ужины бывали у них в это время обыкновенно постные50. За этим же постным обедом англиканский богослов наслушался разных, не совсем благоприятных, отзывов о наших церковно-религиозных порядках. «Службы церковные, – жаловались ему, – у нас слишком длинны, пригодны только для монастырей, откуда они и заимствованы, и вследствие этого сопровождаются большими беспорядками и неблагоговением. Это потому, что с одной стороны громадная масса простого народа с суеверным страхом смотрит на всякое сокращение, так что было бы опасно и со стороны власти делать какие-либо изменения, а с другой стороны часто было бы физически невозможным для священника и народа, живущего в мире, исполнять их или присутствовать при них, если бы они совершались подобающим образом во всей своей полноте. Кроме того, образованные и светские классы городского населения, постоянно увеличивающиеся в числе, настолько же отталкиваются от церковного богослужения его продолжительностью, насколько эта самая продолжительность нравится купцам и крестьянам. Следствием этого вышло то, что в церквах установилась такая система чтения положенных кафизм, часов и большей части канонов, по которой все это исполняется с чрезвычайной быстротой. Все жалуются на такое неблагоговение, стыдятся его, по временам даже делались постановления с целью исправления этого недостатка, но – все напрасно. Несмотря на то, что теперь для укорочения службы делается все возможное, – пение происходит быстро, положенных повторений не делается, пение часто заменяется чтением, – при всем том священникам, чтецам и певцам при совершении богослужения в церквах, посещаемых высшими классами, приходится делать различные пропуски по своему усмотрению для того, чтобы сообразовать церковное богослужение с выносливостью своей паствы или собственной физической силы. Все это с особенной силой выступает в сезон великого поста, которым весьма многие тяготятся. Другие, однако же, умеют находить в нем своего рода утешение, как это выразил князь Потемкин. «Во время великого поста, – сказал он, – мы сильно худеем, но зато как дух, так и тело ликуют в ожидании Пасхи»51.
Вместе с этим недовольством установившимися церковно-религиозными формами, Пальмер видел в то же время полную расшатанность церковно-религиозных начал в великосветском обществе. Причина этого заключалась отчасти в воспитании, а главным образом – в тех веяниях, которые переменными вихрями проносились по религиозной и умственной жизни этой среды. Князь Мещерский, бывший пред тем обер-прокурором св. Синода, говорил ему, что русские до последнего времени были очень плохими членами церкви, так как обыкновенно получали воспитание в руках иностранных протестантских учителей и гувернанток. Даже он сам до тридцатилетнего возраста был вольнодумцем, и в этом направлении он был воспитан своим протестантским учителем. Так как духовенство не входит в высшее общество, то молодые люди, по его отзыву, набираются обыкновенно таких религиозных понятий, какие в данное время обращаются в светском фешенебельном обществе, а эти понятия – либо протестантские, либо католические52.
Понятно, какими практическими результатами могло сопровождаться такое религиозное воспитание, и Пальмер рассказывает о нескольких личностях, из которых такое воспитание сделало каких-то искателей и искательниц религиозных приключений, по минутному настроению меняющих свои религиозные убеждения. Такой, напр., является княгиня Потемкина. Еще в детстве, когда она была девочкой, она подпала господствовавшему в то время модному увлечению романизма, усердно распространявшегося отцами иезуитами. Сыны Лойолы окружили великосветскую барышню всевозможными заботами своего отеческого попечения, неотступно внушали ей мысль о том, что католическая церковь есть единственный путь к спасению и сопротивляться желанию принадлежать к ней, если бы оно явилось у нее, значило бы совершать смертный грех против Духа Святого. Понятно, что медоточивые речи оо. иезуитов вскружили голову молодой княжне, у нее явилось страстное желание сделаться католичкой, и такое желание волновало ее несколько времени. Колеблясь между этим желанием и инстинктивным страхом за свою православную веру, она обратилась за советом к некоторым из православных духовных лиц, но те скорее увеличили, чем уменьшили ее религиозную тоску, когда в качестве главных аргументов представляли ей скорбь или неудовольствие ее родителей и знакомых, непристойность оставлять свою собственную веру и т. п. Иезуитское влияние готово было уже фактически восторжествовать над княжной, когда случайно она встретилась с проповедником методизма, который повернул ее совершенно в противоположную сторону. Выслушав от русской княжны скорбную повесть ее религиозных мук и сомнений, методист с сердечным пафосом воскликнул – «quel manque de foi» (о, какое маловерие!) и стал подробно объяснять ей катехизис своей «духовной» веры, учение о естественном состоянии души, об оправдании даровою для всех благодатью, о потребности в живом общении со Спасителем, об уверенности в единении души с Ним, и тому подобные положения методизма. Все это, по словам княгини Потемкиной, было тогда ново для нее и озарило ее подобно лучу света. Это новое откровение исполнило ее радости, и в таком состоянии она, живя в Париже, оставалась около четырех лет, так что окружающие ее методисты говорили, что она, наконец, обрела Христа или сознавала, что получила спасение. Как ни сильно было увлечение методизмом, но и оно не могло навсегда овладеть княгиней. Мало-помалу ей наскучила расплывчатая и сентиментальная сотериология методистов, и княгиня перешла к чтению более здравых сочинений английской богословской литературы. Эта литература открыла ей глаза на вопиющие недостатки бродячего методизма и направила ее ум к здоровой религиозной пище, заключающейся в творениях древних отцов, которыми она и стала заниматься к великой пользе для своего ума и сердца, и, в конце концов, опять примирилась со своей церковью, от которой оторвали было ее вихри разнообразных увлечений53.
Религиозные увлечения в то время были своего рода эпидемией, и в беседах со своими великосветскими друзьями Пальмеру то и дело приходилось слышать о жертвах этих увлечений. И какие только вихри не захватывали заблудшихся овец великосветского стада! Обедая с одним русским князем, полковником императорской гвардии, Пальмер услышал от него печальную повесть. Когда князь по православному обычаю готовился исповедаться и причаститься на страстной неделе, вдруг он получил от своего семейства, жившего в то время заграницей около Женевы, письмо, в котором старшая его дочь от имени матери и двух своих младших сестер писала своему милому папе, что все они оставили суеверие русской церкви и обратились в лоно англиканской церкви54. Бедного князя удручало особенно не то, что они «оставили суеверие русской церкви», а то, что они обратились не туда, куда бы следовало. «Вот в Риме, – говорил он, – другое дело: там пышность и великолепие, ученость и ревность, и если бы я получил такое письмо из Рима, то я не принял бы его так к сердцу. Но обращение их в протестантство – меня крайне опечалило». Что касается до римского католицизма, то он вообще пользовался благоволением князя, который, по его заявлению, сам готов признать папу, если бы только можно было доказать, что ап. Петр когда-нибудь был в Риме и если бы правительство, напр., согласилось на соединение с римско-католической церковью, то князь «был бы первым человеком» из тех, которые признали бы главенство папы55.
В княгине Долгорукой Пальмер нашел свое особое религиозное увлечение. Она любила ходить в церковь секты моравских братьев и думала, что это нисколько не противоречит ее православной вере. Когда Пальмер не соглашался с ней в этом отношении и говорил, что такой либерализм несовместим с истинной христианской любовью, княжна энергически отстаивала правоту своих убеждений. «Напротив, – говорила она, – вот тот именно способ, которым католики осуществляют свои начала, восстановляет и раздражает меня против них, и я готова скорее идти молиться в храмах лютеран и кальвинистов, чем с ними. И притом тут нет ничего опасного для меня, потому что когда я бываю там, то я даже и не чувствую, что была вовсе в церкви». – «Ваш пример, однако же, – заметил Пальмер, – может увлечь к тому же и других, которым это может принести серьезный вред. Исключительная ревность и любовь у папистов убеждает и увлекает к тому, что они провозглашают единой истинной церковью, между тем как ваша безграничная терпимость (latitudinarian tolerance) никогда не поможет хоть кого-нибудь изъять от огня». В это время вошел князь Долгорукий и, присоединившись к собеседникам, ссылался на Библию в доказательство того, что все те истинные христиане, которые исповедуют Иисуса Христа и повинуются своей совести. Но этот принцип даже княгине показался слишком широким, и она заметила, что князь заходит уж слишком далеко56.
В семействе Рюминых англиканский богослов с удивлением встретился с новым своеобразным увлечением. По своим религиозным убеждениям, обнаруженным в религиозном разговоре, Рюмин напомнил Пальмеру учение квакеров и, как после оказалось, был ревностным распространителем квакерства. У него Пальмер нашел целые кипы квакерских брошюр и трактатов, которые он и распространял повсюду между англичанами. Такой факт не мог не поразить англиканского богослова, и он заметил русскому квакеру: «вы заразились опасными идеями»57.
Наиболее продолжительную богословскую беседу Пальмер имел в Москве с княгиней Мещерской. Она оказалась очень начитанной в богословской литературе и в свою очередь прошла обычную школу увлечений. Ее воспитание совпало с эпохой господствовавшего у нас в конце прошлого столетия французского вольнодумства и религиозного скептицизма, но от этой болезни она излечена была д-ром Пинкертоном, известным агентом англо-континентального библейского общества в России. Он вновь пробудил в ней усыпленный французским воспитанием религиозный инстинкт и развил вкус к богословской литературе, конечно того типа, представителем и распространителем которого служило это общество. На княгине Мещерской сильно отразилось влияние идей этого общества, что сразу бросилось в глаза Пальмеру, который и приводит в своих записках веденный с ней продолжительный разговор с той целью, чтобы «иллюстрировать тот тип либерального евангеликализма, следы которого не раз уже отмечались им в воспоминаниях о разговорах с русскими, особенно с религиозными и образованными дамами»58.
Разговор, прежде всего, коснулся вопроса о церкви, и княгиня Мещерская сказала англиканскому богослову: «Я верую во внутреннюю или существенную церковь, которая согласна с Библией, а что касается отдельных внешних церквей, то ни одна из них не совершенна. Даже во времена апостолов – и то уже были разделения и весьма различные духовные состояния в различных церквах».
– Но ведь церковь была некогда единой в видимом и внешнем общении в продолжении 1200 лет, и опять может стать таковой, – заметил Пальмер, намекая на возможность церковного единения в идее кафоличности.
– Это приятная лишь мечта. В действительности это вещь совершенно невозможная. Разделение на первых порах произошло от нравственной испорченности и злых вожделений христиан. Со временем мало-помалу образовалось даже убеждение, что разделение и пребывание в нем есть почти необходимость органического строения общества. Первоначальное разделение продолжалось и увеличивалось. Нет, этому не будет конца до самого пришествия Христова, когда, едва найдя веру на земле, Он должен будет вновь перестроить внутреннее и небесное домостроительство. Возьмем римско-католическую общину: она имеет свои недостатки; насколько она имеет существенную веру – она очень хороша; но насколько люди придали ей и исказили ее, она очень дурна. У вас есть своя англиканская церковь; во многом вы наделали ошибок, но вы имеете то, что необходимо, – чего же вам еще больше? Русская церковь, греческая церковь – изменена и искажена менее, чем папская церковь, единственно, как мне кажется, потому, что обстоятельства были различные и ее прелаты не были искушаемы, подобно римским, богатствами и владычеством. И все-таки она также имеет свои недостатки. Люди ввели в нее свои прибавления и измышления. Так, в ней есть почитание святых.
Такой «либеральный евангеликализм» русской княгини смутил англиканского богослова, и он принужден был пустить в дело запас своей богословской аргументации, чтобы доказать княгине естественность и правоту учения о почитании святых, конечно ограничивая его сообразно своей собственной точке зрения, и заметил, что употребляемый ею язык – совершенно протестантский и недостоин языка православной русской. Общее замечание княгини, что ни одна из существующих церквей не совершенна, имеет свои недостатки, нашло полное согласие в Пальмере, который подтвердил его своими оксфордскими идеями, но это подало повод княгине в свою очередь отметить непоследовательность самого Пальмера. «Если вы соглашаетесь со мной, – сказала она, – в том, что во всякой церкви есть свои недостатки и вещи, подлежащие изменению, то зачем же вы имеете в виду оставить одну церковь, чтобы переменить ее на другую? Ведь это значило бы переменить одни недостатки на другие. Истинная, существенная вера Библии одна и та же во всех».
– Я желаю не оставить английскую церковь, чтобы принять русскую, но соединить их. Мы отнюдь не должны оставлять своей собственной церкви просто потому, что она имеет недостатки, до тех пор, пока веруем, что она составляет часть истинной церкви, и никто не может сделать этого без греха. Но что вы разумеете под «отдельными церквами» и под «верой Библии, которая одна и та же во всех них»? Мы веруем, что есть только одна церковь, и она как видима, так и невидима.
– Где же она, и какая именно церковь? – спросила княгиня.
– Спросите во всякой стране, и вам везде укажут ее, даже сектанты. Римская церковь – в Риме, английская в Англии, русская в России. Если где притязание на титул церкви покажется сомнительным, то можно обратиться к эпитетам истинной церкви, каковы: православная, кафолическая, апостольская и подобные, и по ним можно определить, какая древняя первоначальная церковь в той или другой стране. Опять, исторически мы можем проследить единство всей церкви в продолжении 1100 или 1200 лет, и, несмотря на внешние несогласия и разделения между ними, мы все-таки еще видим следы трех апостольских общин, которые до этого разделения были едины, и которые, в сущности, если несогласие есть только поверхностное, пребывают в единстве истины и доселе. Но если вы включите в ваше понятие видимой церкви все те секты, которые восстановили Библию против церкви, или скорее свое мнимое право судить и учить против долга и права церкви учить и судить, и свое частное понимание Св. Писания противопоставили ее апостольскому и кафолическому толкованию, – тогда всякий истинный англичанин должен будет не согласиться с вами.
– Я не разумею ничего подобного, – сказала княгиня. – Библия ничего не говорит о праве непослушания или о человеческих церквах. Образование и управление церкви, говорится в Библии, должно совершаться посредством апостольской миссии и власти. Конечно, церкви принадлежит право учить, но с другой стороны скажите мне, пожалуйста, что вы разумеете, когда говорите о вере и учении тех частей ее, которые вы признаете апостольскими. В чем состоит вера и учение, в которых эти части согласны между собой?
– Потребовалось бы много времени для того, чтобы перечислить все пункты согласия. Все они согласны между собой во всех членах никео-константинопольского Символа и в общем настолько согласны в учении о церкви и таинствах, чтобы остерегаться против ересей протестантизма. Кроме того, все они согласны в том, что все христиане должны быть крещены и соблюдать четыре вещи, изложенные в конце второй главы Деяний Апостольских (постоянное пребывание в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах – II, 42).
– Да, все это находится в Библии; я совершенно с вами согласна. Если такова ваша церковь и вера, то я некоторым образом член ее, – согласилась русская княгиня.
Для того, чтобы познакомить княгиню с идеями оксфордского общества, Пальмер дал ей для прочтения издание этого общества, под названием «Простые речи». При следующей встрече княгиня сказала Пальмеру, что она читала эти «речи» с большим удовольствием. «Я думаю перевести некоторые из них на русский язык и издать их, – сказала она. – Недавно я вот перевела и издала сочинение Бакстера – «Покой святых». – Пальмер удивился и спросил: – неужели цензоры пропускают такие книги?
– Они делают по своему усмотрению некоторые изменения, но эти изменения обыкновенно ничтожные и не имеют никакого значения.
– Но все-таки, кажется, должно быть нелегко – книгу, написанную на началах ложной доктрины, сделать пригодной для употребления православного христианина, – с легким сарказмом заметил Пальмер.
– Что касается меня, то я не вижу различия между богословием «простых речей» и книгами английских диссентеров. Я одинаково читаю назидательные книги писателей обоих этих классов, и не вижу различия, потому что не ищу его.
– Тем не менее, – ответил Пальмер, – легко видеть, что вы читаете по преимуществу сектантских писателей, и ваши понятия и язык сильно окрашены их своеобразными и, как мы думаем, крайне ошибочными мнениями.
По поводу сообщения княгини Мещерской о деятельности в России библейского общества, Пальмер замечает, что русские по-видимому не имели никакого понятия о том, какой тонкий яд сокрыт был и заключался в каждой частице просвещенной ревности или ревности о просвещении, какой отличалось это общество, и как он дал о себе знать в мнениях, заявленных его великосветской собеседницей. «Госпожа Мещерская, – говорит он, – была жертвой, как я должен назвать ее, одного из двух религиозных движений против Православной церкви, которые были произведены или поддерживаемы двумя антагонистическими обществами и следы которых видны были на предыдущих страницах, именно общества иезуитов и общества библейского. Каждое из них имело временный успех, но, наконец, сначала одно, а затем и другое были насильственно извергнуты из страны, как скоро правительство и иерархия увидели, что как то, так и другое своими различными сторонами противодействовало церковным преданиям и народным понятиям России»59. Влияние библейского общества, произведшего крайнее шатание богословской мысли в великосветской среде, было настолько сильно, что от него не свободны были и некоторые члены высшей церковной администрации. Так г. Скрипицин, занимавший один из высших постов в синодальной администрации, говорил Пальмеру: «Наша церковь, как и мы сами, имеет одну хорошую сторону: это ее терпимость. Мы не то, что Рим, который анафематствует всех других. Мы имеем свою собственную обрядность, но можем быть в мире с другими, потому что в существе все едино. Все мы покланяемся одному и тому же Христу, а все остальное составляет предмет сравнительного безразличия»60. Такой взгляд показался Пальмеру крайне ошибочным и на этот либеральный «евангеликализм» синодального чиновника англиканский богослов ответил: «Я не могу допустить двух или более вер, как, по-видимому, допускаете вы, но думаю, что или мы одной и той же веры, или же один из нас еретик. Существует только одна вера, одна церковь, одно крещение...».
При такой расшатанности богословской мысли в великосветской среде Пальмеру, конечно, трудно было установить правильную точку зрения на свою схему кафолического единения церквей. Когда он заводил о ней речь, то встречал или крайний конфессионализм, грозивший ужасами народных восстаний и кровопролитий от осуществления этой схемы, или крайний индифферентизм, который настолько мало придавал значения конфессиональным формам церковной жизни, что Пальмеру приходилось вводить своих собеседников и собеседниц в пределы разумной ортодоксии, или, наконец, такой либеральный евангеликализм, который и в принципе противоречил идее оксфордского движения и, таким образом, разбивал всякую надежду на установление прочного церковного единства, созданного на строгих началах кафоличности. Понятно, что в этой среде Пальмер не мог добиться более или менее правильной и серьезной оценки своей схемы. Для этого он должен был обратиться к кому-нибудь из строгих выразителей православной богословской мысли, и он обратился к Филарету Московскому.
§ VII
Богословская беседа Пальмера с Филаретом Московским. – Вопрос об англиканской литургии. – Основы общения. – Существенные догматы и богословские мнения. – Формальное определение Церкви с точки зрения Оксфордской доктрины. – Мнение Филарета о членах веры англиканизма и его формальный ответ Пальмеру. – Ответ св. Синода. – Несостоятельность схемы англиканского богослова. – Его заключительные выводы о богословской мысли в России.
В беседах с различными представителями русской церкви Пальмеру не раз приходилось слышать указания на митрополита Филарета Московского, как на высший богословский авторитет, к которому он должен был обратиться за окончательным решением его дела. Богословская слава Филарета в то время стояла уже на высокой степени. В области богословской мысли он занимал самое видное положение. Его катехизис по точности и ясности формулировки православного учения сделался символической книгой русской Церкви, по силе оригинальности и гибкости языка стал классическим произведением русской литературы. Все смотрели на него, как на гениального представителя русской богословской мысли, и действительно, это был великий богословский ум, который с легкостью гениального созерцания проникал в сущность труднейших церковно-богословских проблем и давал на них ответы, поражающие как ясностью и широтой взгляда, так и особенно точностью и выдержанностью православно-русской точки зрения. В его многочисленных сочинениях, письмах, резолюциях, которые доселе непрерывно воспроизводятся в наших духовных журналах, заключается неисчерпаемый материал для характеристики этого колоссального ума, который в каждом слове давал программу и в каждом положении открывал беспредельный кругозор для развития богословской мысли. Отличаясь изумительной всесторонностью, богословский разум Филарета не только обнимал все стороны внутренней церковной жизни, но выходил и далеко за ее пределы: с замечательной зоркостью следил за движением мысли и жизни всего христианского мира, быстро угадывал его внутренний смысл, давал ему истинное истолкование и указывал то отношение, которое оно имело к православной Церкви. Вследствие этого он не упускал из вида и движений, начинавшихся на западе в пользу сближения с православным Востоком. Но как глубокий богослов, лучше других понимавший, в каких глубоких слоях церковно-исторической и культурной жизни кроются причины и корни разделения христианского мира, он осторожнее всех других относился к движению в направлении единства, и когда своим проницательным взглядом видел, что движение не имеет достаточной внутренней интенсивности, чтобы привести к каким-либо положительным результатам, то одним прямым словом открывал его несостоятельность и обнаруживал богословскую незрелость тех, которые с усердием, достойным лучшего дела, трудились с целью поддержать фиктивное движение.
Англиканскому богослову небезызвестны были эти особенности ума Филарета Московского, и потому, надо полагать, он не без смущения увидел пред собой этого мудрого иерарха, когда представлен был ему графом Протасовым. Между ними произошла довольно продолжительная богословская беседа, записанная Пальмером. Беседа велась на латинском языке. Беседу начал Филарет и именно с того пункта, который давал больше материала для положительных богословских заключений и меньше простора для бесплодных словопрений, – с вопроса о литургии. Вопрос этот, как тогда, так и теперь, составляет самый жизненный вопрос англиканской церкви. Литургия представляет собой фактическое показание церковного вероучения, в ней яснее и полнее всего отображается внутренний смысл вероисповедной системы. Это с поразительной ясностью доказывается судьбой литургии англиканской церкви. Заимствованная у римской церкви, англиканская литургия со времени реформации подвергалась постепенному процессу видоизменения; с проникновением в англиканскую церковь протестантских начал, она все более и более протестантизировалась и, наконец, дошла до теперешней формы, которая представляет какие-то жалкие обломки древней литургии, лишенные жизненного нерва литургического богослужения. Такое состояние литургии в англиканской церкви в настоящее время составляет предмет серьезных забот всех мыслящих богословов церкви, и в американской епископальной церкви идет сильное движение к восстановлению древней формы литургии, движение, во главе которого стоит известный епископ Флоридский Юнг, недавно поместивший в органе епископальной церкви (The American Church Review) ряд статей по вопросу о восстановлении древней формы и внутреннего смысла в англиканской литургии61. То, к сознанию чего англиканская богословская мысль пришла только теперь, митрополит Филарет сознавал уже пятьдесят лет тому назад, и в своей беседе с Пальмером, прежде всего, обратил внимание на эту сторону дела.
«Я очень рад видеть вас, – сказал он Пальмеру, – и слышать, что ваша церковь сочувствует единению и почитает древность», – и затем, чтобы проверить это положение, перешел к вопросу об англиканской литургии и ее отношению к литургиям православной церкви. «Наши литургии, – сказал он, – самые древние; латинская церковь во многих пунктах изменила свою литургию к худшему, опустив, например, призывание св. Духа; мы же на востоке крепко держимся предания апостольского и примера нашего Господа – как в отношении качества хлеба (ἄρτος, а не ἄζυμος), так и единства хлеба». Пальмер отвечал, что в этом они согласны с востоком, на что митрополит опять выразил свое удовольствие: «Я рад слышать, что вы теперь почитаете древность», – сказал он62. Это замечание затрагивало самую больную сторону англиканизма, бессильно борющегося между платонической любовью к древнему церковному преданию и действительным попранием его, как в этом сознаются сами англикане. Лорд Кланрикард, бывший в то время английским посланником при русском дворе в Петербурге, говорил своим русским друзьям об англиканской церкви: «Если вы станете читать книги многих из наших первоклассных богословов, то вы подумаете, что между нашей церковью и вашей совсем нет или мало различия. То же самое, если вы взглянете в наши богослужебные книги. Но если бы вы были в Англии и вошли в наши церкви, то вы бы не нашли ничего такого. Вы не можете и представить себе, до какой степени они обнажены и лишены благолепия, и как безжизненны и бесцветны в них службы и обряды. Все это доведено до такой степени, что они сделались достойными презрения в наших глазах»63. В оправдание своей церкви Пальмер поспешил ответить: «Наша церковь, – сказал он, – всегда предпочитала следовать древности, и, вместе со своими XXXIX членами веры, сделала в 1571 году обязательным для всего своего духовенства правило – ut ne quid unquam pro соnсиоnе doceant, quod a populo religiose teneri et credi velint etc., ничего не проповедывать касательно веры, кроме того, что содержится в Св. Писании и что вселенские отцы и древние епископы собрали из него». – «Правило это очень хорошо», – сказали в один голос и митрополит, и обер-прокурор, и, ободренный этим, Пальмер заметил, что в двух из трех литургий, находящихся в употреблении у англикан, сделаны некоторые поправки в духе древности, восстановлено возношение даров и призывание Св. Духа вслед за произнесением слов Христовых. На вопрос о происхождении англиканских литургий, Пальмер отвечал, что они в большей своей части заимствованы у римской церкви, особенно со времени норманского и англосаксонского владычества; но до этого, и именно до конца VI века, британские церкви имели свои собственные литургии, подобно тому, как имели свои литургии и церкви французские и испанские. История англиканской литургии дала повод к сравнению ее между собой в различных периодах ее существования, и при этом выяснился тот факт, что в настоящее время в ней опущены существенные части, входившие в состав ее в прежнее время, напр. молитвы за умерших. Этот факт мог служить красноречивым показателем видоизменения самого характера вероучения англиканской церкви, и из него можно было заключать, что в настоящее время англиканская церковь не признает молитв за умерших. Пальмер отвечал на это, что хотя эти молитвы опущены из литургии, но они не отвергаются и не осуждаются, и в исключительных случаях вносятся в литургию, и этот вопрос даже был предметом юридического решения. Причина, почему эти молитвы, прежде входившие в служебник, были впоследствии опущены, заключалась, по мнению Пальмера, в том, что в народном сознании они связывались с учением о чистилище, приводившем к стольким злоупотреблениям в церковной жизни. «Та политическая свобода, которой вы пользуетесь в Англии, – сказали оба русских собеседника англиканского богослова, – по-видимому, не очень благоприятна церковному смирению и дисциплине». «Нет, – с жаром отвечал Пальмер, – это дьявольская свобода, и всякое политическое возмущение исходит от корня религиозного возмущения. Кто восстал против своего Бога, тот не постесняется восстать и против своего государя»64.
Чтобы скорее перейти к главному вопросу, граф Протасов попросил Пальмера изложить те основания, на которых он добивался допущения его к общению с православной церковью, и он сказал: «В Символе веры мы исповедуем, что Церковь едина, и мы веруем в единство Церкви». Эта формула выражала суть оксфордской доктрины, но она была настолько обща, что не давала реального представления о деле, «и митрополит заметил, что, Церковь должна бы быть едина, но в действительности этого нет», а когда Пальмер сказал, что существующее разделение нечестиво и плачевно, то митрополит согласился с ним, прибавив, что «единство, без сомнения, весьма желательно». Пальмер стал дальше выяснять свои воззрения на общение церквей, и говорил: «Наша церковь никогда не отлучала греческих церквей, а также и латинских церквей континента; мы отлучаем только тех латинян, которые находятся в Англии и в Ирландии, в Греции и в России, отлучаем, как схизматиков». Такой взгляд показался Филарету недостаточно ясным, и он сказал, что не может понять его. «Латиняне, – возразил он, – где бы они ни находились, составляют одно и то же с латинянами континента. Если с ними можно иметь общение вне пределов вашей страны, то они должны быть в единении с вами и на родине. Если же вы их отлучаете у себя дома, то они должны быть отлучаемы и повсюду». Возражение это совершенно правильно с православной точки зрения, но оно не принимало во внимание сущности оксфордской доктрины, с точки зрения которой Пальмер вел свои переговоры о единении церквей, и потому он продолжал: «Да, если бы они были еретики; но мы отлучаем их у себя дома не как еретиков, а как схизматиков. Мирянин у нас может держаться всех заблуждений папизма в качестве богословских мнений, как бы они ни порицались нашей церковью, и он не будет за это отлучен, если только он внешним действием не обнаружит восстания против церковной власти». Это замечание повело к серьезному вопросу о той свободе, которую церковь может дозволить своим членам в пределах своей юрисдикции, и тут оказалась разница во взглядах между русским и англиканским богословами. Первый заметил, что такой свободы, на которую указал Пальмер, нельзя допускать в Церкви, так как общение требует строжайшего единства веры; но англиканский богослов продолжал развивать свою мысль в этом направлении. «По существу дела такая свобода может иметь место, но в действительности едва ли может быть такой случай, так как тот, кто стал бы держаться всех заблуждений римских, конечно, держался бы между ними и учения о необходимости общения с Римом. Нет сомнения, что, как говорит ваше преосвященство, для общения требуется строжайшее единство веры, но тогда возникает вопрос, что же такое, в сущности, вера, и наша церковь делает великое различие между той верой, которую каждый должен содержать всецело и неуклонно, и второстепенными богословскими мнениями, которые не составляют ни существенных догматов, если они верны, ни ересей, если они ложны. Мы думаем, что есть основы в учении и вере». Митрополит стоял на своем и говорил, что Церковь должна быть совершенно единой в вере, но Пальмер продолжал: «Правильно или нет, но наша церковь делает такое различие. Мы никогда не обвиняли папистов в формальной ереси. За пределами необходимой веры мы, поэтому, должны обращать внимание не столько на тождество мнения, сколько на законность местного алтаря или кафедры, различать в каждой части света истинную церковь и содействовать ее единству»65.
Затронутый вопрос был настолько серьезен, что едва ли мог быть решен окончательно в одной словесной беседе. Филарет, твердо стоявший на почве строгой ортодоксии, естественно, отрицал допускаемое Пальмером различие между существенными догматами и второстепенными мнениями, так как такое различение не соответствовало органической целостности православия, где все находится в такой тесной связи между собой, что нарушение в одном пункте ведет к замешательству во всем церковном организме; и притом такое различение может вносить произвол в церковное вероучение и вызывает вопрос о том, кому предоставлено право определять, что в церковном вероучении существенно, и что несущественно. Тем не менее нельзя вполне и отрицать такого различения. «Ни одна церковь никогда не отрицала такого различения, и не может обойтись без него», – как сказал Пальмер, который и иллюстрировал это положение церковно-историческими примерами. Отрицать его значило бы отрицать всякую свободу в сфере церковно-религиозного миросозерцания, что было бы противно одному из существенных принципов Православия, по которому, при неизменной твердости основных догматов, установленных голосом вселенской Церкви, допускается широкая свобода частных мнений, как необходимое условие поступательного развития церковно-религиозного миросозерцания. Вследствие этого Филарет не мог не согласиться с положением англиканского богослова, допустил возможность различения между существенными догматами и второстепенными богословскими мнениями, хотя обусловил это согласие замечанием, что между последними некоторые имеют столь важное значение в системе догматики, так тесно связаны с существенными догматами и практически так неразрывны с ними, что терпеть их в частном члене церкви было бы несовместимо с единством общения или веры.
«Так вы, значит, универсалист, – обратился к Пальмеру граф Протасов, – вы допускаете совместно как латинских, так и греческих святых». – «Конечно, допускаю», – ответил тот, а митрополит заметил, что флорентийский собор готов был делать то же самое66.
Все отмеченные выше мысли Пальмера имеют органическую связь с тем общим понятием о Церкви, которое выработано было оксфордской школой. Частные черты этого понятия выступают в каждом слове и положении англиканского богослова, но для полного и ясного понимания сущности оксфордской доктрины касательно идеи Церкви недоставало еще точного формального определения Церкви. Вследствие этого обер-прокурор попросил Пальмера изложить митрополиту его собственное определение видимой Церкви, и он сделал это следующим образом: «Единая видимая кафолическая Церковь на земле, истинное продолжение и представительница церкви, основанной в Иерусалиме в день Пятидесятницы, в настоящее время, вследствие различий касательно второстепенных вещей, разделена на три местные части, все согласные в существе веры, именно православную восточную церковь и западную, причем последняя подразделяется еще на континентальную и британскую. В своих относительных областях каждая имеет первоначальную и законную юрисдикцию. Если же, вследствие фактических несогласий между ними, какой-либо епископ одной из них старается отвлечь христиан от других двух, чтобы организовать из них особые приходы его собственного вероисповедания, делая, таким образом, пункты различия пунктами существенной веры, то мы говорим, что эти новые приходы схизматические».
– Так вы допускаете, что восточная, латинская и британская церкви составляют едино? – заметил Филарет.
– Да, – отвечал Пальмер, – каждая в своей первоначальной области, не иначе.
– Я не понимаю этого. Многие у вас держатся такой теории? – спросил митрополит, заинтересованный оригинальным взглядом на Церковь.
– Высокопреосвященный митрополит, – отвечал Пальмер, – это не теория, но то определение видимой Церкви, которое имеет место в молитвах и формальных актах нашей церкви и имеет за себя общее свидетельство наших богословов.
– Все это – материал для какого-нибудь будущего собора, но он не может быть обсуждаем с отдельными лицами, – сказал Филарет, и затем продолжал: – ваш язык довольно пригоден для четвертого века, но он неуместен при теперешнем состоянии мира. Конечно желание единства общения весьма хорошо и похвально; надо надеяться, что эти чувства станут общими и тогда в надлежащее время могут быть приняты необходимые меры властями с обеих сторон. При теперешнем же состоянии вещей мы не можем иметь дело с отдельными лицами. Теперь, во всяком случае, существует разделение67.
Приговор этот был довольно решительный для практического приложения схемы англиканского богослова. Она, очевидно, не подходила под строго-православную точку зрения Филарета, но он, во всяком случае, заинтересовался самым вопросом и пожелал ближе ознакомиться с символической книгой англиканизма, известными XXXIX членами веры. Пальмер предложил ему эти члены для прочтения вместе со своим введением к ним. При следующем свидании высокопреосвященный митрополит говорил ему: «Я читал ваше введение, и думаю, что оно гораздо более православно и гораздо более сообразно с учением и духом восточной церкви, чем самые члены, о которых оно трактует. В них содержатся многие ошибочные положения, которые у нас не могут быть допущены». Пальмер сам хорошо сознавал это и в своем введении старался, насколько возможно, сгладить эти шероховатости символической книги своей церкви. Но факт оставался фактом. Его введение было его личным произведением, а члены были документом церковным. Отвечая на последнее замечание высокопреосвященного Филарета, он, тем не менее, старался установить более благоприятную точку зрения на члены своей церкви, чем какая обусловливалась их прямым внутренним содержанием.
«Наша церковь, – говорил он, – конечно предполагала, что ее члены будут принимаемы и толкуемы в кафолическом и православном смысле, так как тот же самый синод, который принял их и сделал обязательными для духовенства, установил также следующее правило: проповедники должны тщательно стараться о том, чтобы никогда пе проповедывать в речах ничего подлежащим религиозному верованию народа, кроме того, что согласно с Священным Писанием ветхого и нового завета, и что вселенские отцы и древние епископы собрали из оного. Ответ англиканского богослова звучал тоном желания во что бы то ни стало оправдать символическую книгу своей церкви, но Филарет был непреклонен. «Все, что я могу сказать на это, – говорил он, – это то, что это правило вашей церкви гораздо лучше ее членов веры, и его нужно бы печатать вместе с ними. Единение, конечно, – добавил он, – очень желательно, но при тех трудностях, которые лежат на пути к нему, достигнуть его крайне трудно»68.
Несколько времени спустя Пальмер получил от высокопреосвященного Филарета чрез посредство А. Н. Муравьева письменный ответ, который передается в записках англиканского богослова только в кратком извлечении. В ответе этом говорилось, что тот, кто желал бы получить общение от епархиального епископа, должен подчиниться абсолютно и без ограничения учению, дисциплине и обрядности православной церкви, но что допускать единение или воссоединение с какой бы то ни было уступкой или условием, как бы они ни были малы, стоит выше власти епархиального епископа и может быть допущено только синодом69.
Такой окончательный приговор, произнесенный высокопреосвященным Филаретом над схемой Пальмера, совершенно правилен. В качестве епархиального епископа, московский митрополит официально только и мог сделать такой отзыв. Пальмер, как частное лицо и частный член англиканской церкви, в его глазах не мог считаться уполномоченным представителем своей церкви, в его голосе он не мог видеть голоса его церкви, и потому, в сущности, не мог и входить с ним в серьезное рассмотрение вопроса об установлении общения между церквами, так как этот вопрос подлежит обсуждению законно и открыто назначаемых органов, снабженных известными полномочиями от лица церкви. В качестве же частного лица, Пальмер мог быть допущен к общению с православной церковью только на общих основаниях принятия иноверцев, т. е. под условием абсолютного отречения от заблуждений англиканизма и такого же принятия истин и форм Православия. Правильность такого приговора засвидетельствована была и формальным ответом св. Синода, в который Пальмер обращался также с прошением о допущении его в общение с православной церковью, хотя при этом он, чтобы придать больше веса своему делу, представил грамоту от одного шотландского епископа. Св. Синод отвечал на его прошение, что «как британская церковь никаким соборным актом не выразила своего намерения восстановить утраченное с нашей церковью общение, чрез отвержение всех противных нашему вероучению мнений, и как грамота одного епископа и прошение одного диакона, представляющие частные лишь мнения, синодальному рассмотрению не подлежат, то Синод не может допустить Пальмера к общению Православной церкви иначе, как в порядке, установленном для присоединения иноверцев»70.
В ответе св. Синода заключалось не только отрицательное решение дела Пальмера, как частного лица, но и формальное с его стороны отрицание истинности оксфордской доктрины. Сущность этой доктрины заключалась в теории, по которой единая кафолическая Церковь являлась существующей в трех ветвях, представляемых православной, латинской и англиканской церквами. Каждая из них в своей целостности есть одинаково святая, кафолическая и апостольская церковь. Хотя они разделены между собой пространственно и иерархически, но между ними непрерывно существует связь духовная, органическая, и если эта связь не выражалась в действительных фактах, то только по исторически образовавшемуся недоразумению. Пальмер лично хотел устранить это недоразумение. Он явился в Россию с целью доказать фактически, что, будучи членом англиканской церкви в пространственном и иерархическом отношении, он в то же время духовно есть член и восточной церкви, и потому он такой же православный, как и все члены православной церкви. Убежденность его в истинности своей доктрины простиралась до того, что он даже не предполагал возможности сомнения или отрицания ее, и потому он был наивно изумлен, когда первый русский православный священник, к которому он обратился с просьбой принять его в общение таинств, как православного, предварительно потребовал от него отречения от заблуждений англиканизма. Вся дальнейшая действительность на каждом шагу давала ему знать, что оксфордская доктрина вытекла не из вселенского сознания Церкви, а есть простое местное учение, явившееся вследствие особенных исторически образовавшихся условий жизни англиканской церкви, и потому является учением совершенно чуждым духу православной Церкви, которая твердо стоит на древних вселенских началах и не желает поступаться ими в пользу каких бы то ни было искусственно созданных или местных и частных теорий.
Обобщая результаты своих наблюдений над церковно-религиозной жизнью и богословской мыслью в России, Пальмер в своем письме на имя президента Магдаленской коллегии д-ра Рута, писал, что в России почти совсем не знают англиканской церкви и обыкновенно ставят ее в уровень с заурядными протестантскими общинами. Русское духовенство, по его отзыву, настолько крепко держится своего целостного церковно-религиозного миросозерцания, что не делает или не хочет делать различия между существом веры и второстепенными предметами, а также и между тем, что существенно необходимо, и что необходимо только из послушания церковной власти, местной или вселенской. Оно не имеет достаточной ясности в определении видимой церкви, но или либерально до расплывчатости или же, напротив, узко до исключительности, так что, при вступлении отдельных членов из инославных общин, от них требуется, чтобы они анафематствовали одинаково, как душегубительные ереси, – заблуждения папистов, лютеран и кальвинистов. Русская богословская мысль, по его мнению, не выработала ясного различения между апостольскими церквами, содержащими существо веры, каковы римская и англиканская, и другими чисто еретическими общинами, какова, напр., несторианская; равно не различает православной церкви, которая существует на своей собственной территории и имеет там свою законную юрисдикцию, от тех церквей, которые вторгаются в чужие области, производят схизмы и восстановляют алтарь против алтаря. Наконец, русская православная церковь, по его отзыву, крайне боится сделать такой шаг, который мог бы смутить совесть униатов, австрийских славян греческого обряда, русской малоразвитой крестьянской массы, раскольников или греков Леванта. А таким шагом, по ее мнению, и было бы допущение англиканина к общению в таинствах без его отречения от заблуждений англиканизма71.
Весь фактический материал, на основании которого Пальмер делает такое обобщение касательно церковного религиозного миросозерцания русской православной церкви, в предыдущих статьях начертан с такой полнотой, что не видится особенной надобности подвергать эти выводы какой-либо критике. Заметим только, что русская богословская мысль, действительно, как говорит Пальмер, доселе не выработала еще достаточно ясного определения видимой церкви, настолько ясного и отчетливого, чтобы им сразу устанавливалась как характеристика православной церкви, так и ее отношение ко всем инославным церквам. Отсутствие такого ясного определения составляет постоянный источник недоразумений в ее отношениях к инославным церквам и обусловливает ту неустойчивость богословской мысли, по которой она наклоняется то в сторону романизма, то в сторону протестантизма, как это не раз отмечалось в настоящих статьях. Но, с другой стороны, идея православной Церкви во внутреннем сознании самой церкви и ее представителей живет в такой исторической определенности, что ее совершенно достаточно для того, чтобы с критической строгостью относиться к различным условным теориям и схемам, как это и случилось со схемой англичанина Пальмера.
* * *
Tracts for the Times.
Теория эта до сих пор держится в высоко-церковной партии (High Church Party) англиканской церкви как в Англии, так и в Америке, и ее недавно развивал известный американский проповедник Юер (Ewer) в своих знаменитых проповедях о «Банкротстве протестантизма». См. А. Лопухин: «Религия в Америке», стр. 39 и др.
Palmer, Notes of a visit to the Russian Church, Prefatory notice, p.V – VII .
Palmer, ibidem, p. VII .
Palmer, ibid. p. VIII.
Palmer, Chapter I, pp. 1–3.
Palmer, Chapter III, p. 13 – 14.
Palmer, p. 14.
Palmer, Chapter VIII, pp. 41 – 42.
Palmer. Chapter X, pp. 51 – 52.
Palmer, p. 49.
Palmer, p. 50.
См. издание 1838 г. под заглавием «Царская и патриаршия грамоты о учреждении Св. Синода с изложением православного исповедания восточно-католической церкви» Спб. 1839 г.
Palmer, Chapter XXIII, p. 118.
Palmer, p. 119.
Palmer. Notes of a visit to the Russian Church, Chapt. XXV.
Palmer, ibid. p. 131.
Какие практические плоды приносила эта тенденция, можно отчасти видеть из интересной статьи И. Н. Корсунского о «Судьбах катехизисов Филарета, митрополита Московского». («Русский Вестник», 1883, январь; обстоятельный обзор ее в «Странник», март, стр. 543 – 559).
Palmer, р. 161.
Принцип этот служит девизом известного унионистского английского журнала: The Foreign Church Chronicle and Review.
Palmer, р. 166.
Palmer, р. 167.
Так как Пальмер часто и с настойчивостью указывает на отличие русского перевода XVIII членов иерусалимского собора от греческого подлинника, то для ясности считаем нелишним представить здесь параллельно три текста этого места в учении о Евхаристии в «Изложении православного исповедания восточно-католической церкви», – греческого подлинника, перевода латинского и русского перевода:^Ἕτι μετὰ τὸν ἀγιαςμὸν τοῦ ἅρτου χαι τοῦ ὄινου οὐχ ἔτιμένειν τὴν οὐσίαν τοῦ ἅρτου χαὶ τὸῦ ὄινου, ἀλλ᾽ αὐτὃ τὸ σῷμα χαὶ τύ αἴμα τοῦ χυρίου ἐν τῷ τοῦ ἅρτου χαὶ τοῦ οἵνου εἵδει χαὶ τοπῳ, ταὐτὸν εἰπεῖν, ὑπὸ τοῖς τοῦ ἅρτου συμβεβηχόσιν.^Item facta panis et vinis consecratione nec panis nec vini manere amplius substantiam credimus, sed ipsum corpus et sanguinem domini sub panis et vini specie et figura, id est, sub panis accidentibus.^Еще веруем, что по освящении хлеба и вина остаются уже не самый хлеб и вино, но самое тело и кровь Господня, под видом и образом хлеба и вина (См. «Царская и Патриарш. Грамоты, изд. 1838, стр. 53).^Как видно из этого сопоставления текстов (подлинник и латинский текст взяты из издания Kimmel´я Monumenta fidei Ecclesiae Otienralis 1850, p. 458), русский синодальный перевод опускает термин substantiam и все заключительное пояснительное выражение, где в подлиннике и в латинском переводе значится другой противоположный первому термин accidentibus, переданный соответствующим греческим словом. В употреблении этих терминов Пальмер усматривает влияние римско-католической доктрины, в которой существует подобная же терминология.
Palmer, р. 170.
Palmer, р. 171.
Palmer, р. 133.
Palmer, р. 158.
Πᾶσα ἡ Ἐχχλησία Ἰσραὴλ, говорят напр. LXX толковников, употребляя это слово в смысле всенародного собрания. 1 Маккав IV, 59.
Та педагогическая и благотворительная деятельность, которая на западе находится в руках монашеских орденов, по идее прав. Церкви лежит на самом обществе, которое, посредством организации свободных «братств» и «союзов», при большей энергии, могло бы соперничать с римско-католическими орденами. Если же этого нет, то монашество тут ни при чем.
Palmer, pp. 179, 249, 310 и др.
Palmer, pp. 95 – 97.
Palmer, p. 202.
Palmer, p. 205, 206.
Palmer, p. 202, примеч.
Palmer, Chapter XLI, pp. 221 – 224.
Palmer, p. 213.
Palmer, p. 211.
Palmer, рр. 217. По поводу этого ответа кардинал Ньюман делает следующее подстрочное примечание: «В этом ответе нет ничего неосновательного. Пальмер просил архимандрита признать англиканскую церковь как церковь и молиться об ее очищении и благосостоянии. Тут дело касалось догматического факта».
Palmer, Chapt. XL, pp. 216 – 218.
Palmer, Chapt. XLII, p. 225.
Palmer, р. 226, 227.
Palmer, Chapt. XLVI, p. 242.
Palmer, р. 246.
Palmer, pp. 248 – 251.
Palmer, Chapt. XEII, pp. 303 – 305.
Palmer, р. 258.
Palmer, гл. XLIV, pp. 233 – 236.
Palmer, р. 235.
Palmer, р. 308.
Palmer, р. 329.
Palmer, pp. 330 – 332.
Palmer, р. 284.
Palmer, pp. 261, 262, 284, 285.
По предположению пальмера – в кальвинизм или методизм.
Palmer, pp. 291, 292.
Palmer, р. 408, 409.
Palmer, р. 235, 409.
Palmer, р. 498. Излагаемые ниже вкратце беседы с княгиней Мещерской у Пальмера занимают три главы: CXVI, CXVII и CXVIII.
Palmer, гл. CXIX, p. 515, 516.
Palmer, p. 372, 373.
Статьи эти теперь вышли отдельным изданием под заглавием: Papers on liturgical Enrichment, by the right Reverend I. F. Joung, bishop of Florida, New-Vork, 1883, и имеют такой глубокий интерес в литургическом отношении, что не было бы излишним более подробно познакомить с ними русскую публику. Епископ Юнг известен как один из наиболее деятельных членов греко-русского комитета по сношению с православным востоком. Он немало путешествовал на востоке, был в России и принадлежит к числу немногих в Америке знатоков истории и жизни православной Церкви.
Palmer, Chapter LXXIV, p. 349.
Palmer, Chapter XCII, p. 414.
Palmer, p. 349 – 351.
Palmer, p. 353.
Palmer, p. 354.
Palmer, p. 355.
Palmer, pp. 395 и 396.
Palmer, p. 415.
Ответ этот см. в архиве канцелярии обер-прокурора Св. Синода № 337. Отрывок из него в статье «Христ. Чтения» за 1866 г. ч. II, стр. 99. Пальмер в своей книге о нем совершенно умалчивает.
Palmer, гл. LXXV.
