Содержание
От издательства На земном небе. Личность старца Серафима Саровского и впечатления поездки в Саров и Дивеево I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 70-я годовщина со дня блаженной кончины преподобного старца Серафима Саровского в Сарове Год тому назад. Воспоминания о Дивееве, Сарове и торжестве 19 июля 1903 года
В книге собраны три очерка знаменитого духовного писателя Евгения Поселянина, рассказывающих о посещении им Саровской пустыни и Дивеевского монастыря накануне прославления преподобного Серафима и в дни самих Саровских торжеств (1903 г.). Там, по сердечному ощущению автора, «небесное переплелось с земным», и уже не знаешь, «где кончилась земля и началось небо».
От издательства
Эта книга наполнена духом русской святости, Русской земли, живительного русского слова. Под общим названием – «На земном небе» – в ней объединены три очерка духовного писателя Евгения Николаевича Поселянина (настоящая фамилия Погожев; 1870–1931). Они посвящены преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу (1833), и монашеским обителям дивного старца – Сарову и Дивееву, которые стали «местами величайших чудес, славнейшей победы духа, когда-либо одержанной смертным человеком». Здесь, по живому сердечному ощущению автора, «стерты границы, небесное переплелось с земным», и уже не знаешь, «где кончилась земля и началось небо».
Евгений Поселянин был духовным сыном преподобного Амвросия Оптинского (1891) и в молодости получил от старца благословение на литературное поприще: писать «в защиту веры, Церкви и народности». Это благословение и по сей день сокровенно дышит в творчестве Е. Поселянина: его проза настолько выразительна, образна, исполнена теплым светом, искренностью, верою, что нельзя не почувствовать в ней плодов духа: любви, радости, мира (Гал. 5, 22).
Чудное житие «непостижимого Серафима» – собеседника Богородицы, сродника небес, сердобольного и ласкового «практика – помощника», «утешителя страдающих, друга одиноких»; подробное описание святых мест, связанных с его подвижничеством; рассказы о благодатной помощи, явленной старцем после кончины, – весь этот богатый исторический материал, облеченный писателем в стройную композицию, рождает ощущение соприсутствия, сопереживания, близости к святыне. И кажется читателю, что это уже он сам побывал в Сарове и Дивееве, дышал одним воздухом с преподобным Серафимом, которого увидел и почувствовал как живого, родного, близкого. Так вдохновенное слово рассказчика ложится на благодатную почву русской христианской души, рождая и укрепляя в ней веру и любовь.
Три очерка, включенные издателями в эту книгу, написаны Е. Поселяниным в связи с приближением прославления преподобного Серафима Саровского и с самим торжеством открытия мощей великого угодника, состоявшимся 19 июля 1903 года.
«И я верю, что старец Серафим, который при жизни так согревал любовью простой народ, и теперь пригрел душу всякого пришедшего к нему» – говорится в конце последнего из включенных в книгу очерка, написанного спустя год после Саровских торжеств. Он наполнен чувством близости, взаимного общения, присутствия преподобного Серафима в судьбе самого автора. «Всех нас – темных и просвещенных, чистых и грешных, взысканных и обойденных судьбою, всех нас

Е.Н. Поселянин. Декабрь 1930 г.
Снимок из материалов следственного дела
пожалей! Всякому из нас шепни в минуту горя, соблазна и уныния: “Грядите ко мне, грядите!”».
Возможно, в этих словах писателя кроется предчувствие грядущих трагических событий в России начала XX века: «минуты горя и соблазна» обрушились на русские святыни, подвергли Православную Церковь жесточайшим гонениям; Саровская и Дивеевская обители были разорены и ликвидированы; мощи преподобного Серафима вывезены из Сарова в неизвестном направлении. Сам писатель, служивший своим талантом православной вере и русскому народу, принял мученическую кончину: в 1931 году Е. Поселянин был расстрелян большевиками. А преподобный Серафим уже не «на земном небе» приветствовал его ликующей пасхальной радостью, а там, где «превыше небес непоколебимо стоит утвержденный до начала веков страшный престол Господа Славы». И до скончания века будет преподобный Серафим с любовью утешать всех, кто обращается к нему, как к живому, кто приезжает поклониться его памяти в восставшую из руин Саровскую обитель и припасть к его святым мощам, пребывающим ныне в возрожденном Дивеевском монастыре.

На земном небе. Личность старца Серафима Саровского и впечатления поездки в Саров и Дивеево

Саровская пустынь. Вид с колокольни. Фото 1903 г.
I
Уже1 несколько лет прошло с тех пор, как я был в тех местах; а они живо стоят предо мной и так близки мне, словно вросли в сердце. Я бываю счастлив, когда получаю весть из них, какую-нибудь посылку. Только я прочту эти два дорогие слова «Саров» или «Дивеев», скажу себе, что присылаемая вещь или письмо идет оттуда, вдруг что-то согреет сердце и станет так светло, хорошо...
Когда я ехал туда, многого ожидал. Но то, что я там увидел, было больше и выше ожидания.
Там, где-то вдали, за сотню верст, был «мир» с его кипящей, часто бессмысленным кипением, жизнью, с его безразличием зла и добра, с его ослепительною роскошью и ужасающей нищетой, с его жаждой наслаждений, с его культом плоти, с грохочущими пароходами, со стремлением неизвестно куда, со стремлением без цели, без удовлетворения.
Здесь земное было умалено, сглажено, почти отсутствовало. Плоть удручена, вместо роскоши – убожество, вместо мирского шума – тихая жизнь, словно притаившаяся, примолкшая на пороге вечности. И на это умаление, изнеможение всего земного словно спустилось торжествующее небо, громко и ярко о себе свидетельствуя.
Оно говорило о себе неземною красотой храмов, стоя в которых спрашиваешь себя: «Может, и в раю не прекраснее, чем здесь?»; говорило о себе чем-то неуловимым, веющим в воздухе тех мест, а больше всего образом лучезарным, чрезвычайным образом того человека, который эти места прославил, – отца Серафима.
Вот, названо оно, это заветное имя, – и душа уже трепещет восторгом и любовью, полна умиления и детской веры во все то непостижимое, неимоверное, чем полна была жизнь этого человека.
Небесное, в силе воплотившееся на земле, земное, возвысившееся в небесное; преграды, павшие между землей и небом; Ангелы, святые и Сама Владычица мира, сходящая на землю в видимом образе, все законы ограниченности людской природы упраздненные, стертые. Вот тот порядок вещей, который представляется, когда думаешь о Сарове и Дивееве...
И эти места величайших чудес, эти места славнейшей победы духа, когда-либо одержанной смертным человеком! Я эти места видел, я ходил по ним радостный и смущенный. И хочется мне передать и то, что я там видел, и то, что переживает всякий верующий. Передать для того, чтоб те, кому не пришлось и, может быть, никогда не придется видеть их, хоть мыслью побывали бы в них и узнали о том, что есть в русской глуши такое место, посетить которое, кажется, – почти залететь на небо.
II
Я узнал в первый раз об отце Серафиме в раннем детстве, лет пяти.
Не помню, кто о нем мне рассказывал, вероятно, русская няня, бывшая при моей сестре, очень набожная женщина.
Еще ничего не понимая в вопросах религиозных, не имея почти никакого понятия о жизни святых, я тем не менее уже тогда был чрезвычайно поражен тем немногим, что услыхал про него. Во всяком случае, в душу запал образ великого, необыкновенного праведника, жизнь которого превосходила все, что я мог представить себе в смысле святости. Я запомнил, между прочим, что праведник этот жил в лесу и что к нему ходил медведь.
После пяти лет мне уже никто не говорил о нем, я совершенно забыл его имя, забыл его жизнь. Только в душе жило впечатление чего-то чрезвычайного, чудесного и, вместе, ласкового, греющего, тихого. В продолжение лет пятнадцати я напрягал память, чтоб вспомнить хорошенько про это светлое видение. Порою было тоскливо, что я не знаю имени его, не могу собрать в один отчетливый образ несколько смутных и ускользающих черт. Но я не мог вспомнить, кто он. Нисколько не сомневался, что это не преподобный Сергий, хотя и тот кормил медведя. Был уверен, что не создал его своим воображением, но что, действительно, в раннем детстве мне говорили о нем и что тогда я знал его и был привязан к нему.

Старец Серафим, кормящий медведя. Литография XIX в.
В конце концов, его образ почти совсем изгладился из моего духовного мира.
Я был почти совершеннолетним, когда вновь сперва услыхал о нем из устных рассказов, потом стал читать о нем в книгах. И опять все, что услышал, было так необыкновенно.
В Москве жили почтенные старушки сестры Новосильцовы, имевшие в свое время очень интересную гостиную. Две из них были писательницы, подписывавшиеся псевдонимами Толычева и Ольга Н. У них в доме я услыхал рассказ, не бывший ни в одном из жизнеописаний отца Серафима, об обстоятельстве, случившемся при его погребении с одной их знакомой, которая сама о том передавала.
В ночь перед отпеванием старца во сне она получила приказание взять с собой на отпевание в церковь лишнюю свечу. Когда началось отпевание, она заметила, что близ нее одна дама осталась без свечи. При той давке, которая, по множеству народа, была в соборе, нечего было и думать добраться до свечного ящика, и взявшая с собою две свечи предложила свою лишнюю той, которая осталась без свечи. Позже оказалось, что эта дама особенно чтила почившего старца и очень горевала, что у нее нет в руках, как у всех, свечи. Кроме этого предсказания во сне, были тут и еще какие-то необыкновенные подробности, которые я теперь забыл.
Помню еще, как однажды довольно большое общество у отца Леонида Чичагова2 дожидалось приезда отца Иоанна Кронштадтского и как во время той беседы о духовных предметах, которою занялись присутствующие, кто-то стал рассказывать о Дивееве, о его замечательном соборе и о том особом чувстве, которое там переживается... Видно было, что рассказывающий весь трепетал от восторга, передавая свои впечатления, и этот рассказ мне запомнился.

Свято-Троицкий собор Серафиме-Дивеевского монастыря. Фото начала XX в.
Чрез несколько лет весною на Малом Фонтане, в приморской местности близ Одессы, я покупал ножи у пожилого торговца и спросил, из каких он мест. Оказалось, недалеко от Дивеева. Я разговорился с ним про Дивеев, и он с самым большим восторгом выхвалял Дивеевский собор, говоря, что обошел всю Россию, а подобного никогда не видел.
Наконец, мне пришлось напасть на книги про отца Серафима. И все то, что я пережил в детстве при первых рассказах о нем, все то вернулось с умноженной силой, и я пережил счастливые, незабвенные часы над сказаниями о жизни его. Большое, редкое было счастье вновь найти эту святыню, полюбившуюся в детстве и почти утраченную.
И прежде всего я ощутил в отце Серафиме какую-то особенную жизненность, такую отзывчивость, что представление его у меня давно стало совершенно реальным, точно я его знал и видал.
Именно тогда, когда я, прочтя все, что было о нем напечатано, был особенно под впечатлением его образа, мне достался неожиданно на память о нем очень обрадовавший меня предмет.
У меня было только маленькое изображение отца Серафима (его кончины) на бумаге, присланное, по-видимому, из Сарова моему деду при каком-нибудь письме. Изображение это, вставленное мною в рамочку, меня не удовлетворяло. Мне хотелось иметь большой, хороший портрет его масляными красками.
Первые доставшиеся мне книги об отце Серафиме были взяты мною с собой в лагерь, так как я служил в военной службе, в лагере я и узнал подробно его жизнь и с тех пор стал иметь к нему особое чувство.
Как-то из лагеря я на день или два приехал в Москву. Я шел раз по правой стороне Кузнецкого Моста, направляясь к Лубянке, и заглянул в подворотню дома князя Голицына, где торгуют гравюрами и старыми картинами. Раньше я туда не заходил. Не было причины зайти и теперь. Я ничего не хотел купить. Вышло невольно. Вижу, висит там старый портрет масляными красками отца Серафима, поясной, не в натуральную величину, но довольно больших размеров. Старец изображен в епитрахили с рукою у груди, с изможденным лицом. Портрет производит сильное впечатление. Полотно было настолько старо, что в некоторых местах были дыры.
Не говоря продавцу, чей это портрет, я стал торговать его и, желая, чтоб он спустил цену, сказал ему:
– Ведь у вас небольшой спрос на такие портреты. Немногие собирают портреты монахов.
– Монах, монах, – проворчал на это торговец, – может, этот монах скоро святой будет.
Не знал он тогда, что его слова сбудутся.
С тех пор этот портрет, представивший собой больше того, о чем я мечтал, находится у меня.
Еще два раза я неожиданно получил дорогие для меня памятки о старце Серафиме.

Старец Серафим, молящийся на камне. Середина XIX в.
Мне чрезвычайно хотелось иметь кусок от того камня, на котором он молился тысячу ночей. Я знал, что камни эти хранятся у чтущих память старца, как великая святыня, что они прославлены исцелениями и что ими владельцы их так дорожат, что ни за что с ними не расстанутся. Так что не было никакой надежды на получение такого куска заветного камня.
Когда распределяли образа и святыни после одного лица, которое я хорошо знал, мне был назначен камень отца Серафима. Но он до меня не дошел.
Между тем, когда я был в Сарове, настоятель неожиданно для меня вынес мне такой камень, один из трех–пяти последних оставшихся у него. На нем был изображен молящийся отец Серафим на камне. Всегда имея его с тех пор при себе, я как-то раз неосторожно уложил его в дороге и поцарапал. Какова была моя радость, когда я увидал, что большие царапины, пришедшиеся так близко к лику старца, что могли совсем стереть его, расположились полунимбом с правой стороны головы.
Взамен же того камня, который я не получил по назначению, я был утешен изображением кончины отца Серафима, писанным на деревянной досочке. Очень долго я не мог разобрать надписи на обороте. Наконец, к радости своей, прочел: «Из древа пустынной кельи отца Серафима, Саровского пустынника». Значит, изображение это писано на досочке, входившей в состав его кельи.
И вот, вглядываясь в это предупреждение желаний, внушенных усердием к нему, как не чувствовать в нем человека, зорко всматривающегося во всякого, кто ему верит, и готового всегда откликнуться...
Еще недавно, уже после синодального объявления о близком прославлении старца, мне довелось неожиданно приобрести ценные изображения его.
В начале августа у меня просили на время изображение отца Серафима. Находясь в Петербурге на короткое время, я не хотел расставаться с теми изображениями, которые у меня были; но не хотел и отказать в столь для меня понятной просьбе и был в тягостной нерешимости.

Старец Серафим, молящийся на камне. Литография начала XX в.
Я проходил как-то Александровским рынком, где можно найти в лавках интересные старинные вещи, но об изображениях отца Серафима в ту минуту и не думал.

Старец Серафим, кормящий медведя. Литография 1879г.
Вдруг вижу в еврейской лавке три старинные гравюры3, составляющие, очевидно, серию, обделанные по-старинному в синие ободочки с золотой бумагой и прикрытые стеклами, обклеенными ленточкой. На них изображен отец

Преподобный Серафим. Литография XIX в.
Серафим, молящийся в лесу на камне, идущий с мешком на плечах и кормящий медведя. Конечно, я обрадовался случаю иметь эти изображения невиданного мною типа и высвободить их из еврейских рук. Приценился. Еврей не спускает цены и замечает: «Ну да же. Теперь же это очень интересно. Он же скоро святой будет».

Кончина старца Серафима. Литография 1814 г.
Я купил. Тогда лишь он мне объявляет, что дома у него есть еще четвертая, довершающая эту серию. И как он пространно объяснил на своем жидовском жаргоне, «самая интересная» – именно кончина старца. Я сказал ему, чтоб на следующий день он принес ее в лавку и не продавал другим. Когда я пришел в назначенное мною время, еврей заломил за одну эту гравюру больше, чем за первые три, и ничего нельзя было с ним поделать.
Так я, не лишая себя ни одного изображения старца, получил возможность исполнить желание других.
III
Вообще чрезвычайное усердие старца ко всем, кто дорожит им, старательность утешить их чем-нибудь, откликнуться им, показать, что он видит их любовь и принимает ее, составляет отличительную черту отца Серафима теперь, как было это и во дни земной его жизни.
Помнится, я застал еще в Дивееве в живых одну монахиню, которая видела старца в последние годы его жизни, когда она, маленькая в то время девочка, приходила к нему со своими родителями. Немного рассказала она мне о старце, немногое помня о нем. Но и то, что она рассказала, меня глубоко растрогало.
Старец был на пригорке в ближней пустыньке, когда тогдашняя девочка, теперешняя монахиня, со своими родителями и односельчанами приближалась к нему. Завидев идущих к нему людей, старец обеими руками, делая быстрые движения к своей груди, стал манить их, крича им приветливо: «Грядите ко мне, грядите!» Потом быстрыми шагами сам направился к ним...
И часто с тех пор, как я услышал этот незначительный рассказ, у меня в ушах звучит это приветливое торжественное слово, которым старец звал к себе русский народ. И кажется мне, пред изображениями его, что вот сейчас раскроются уста и донесется до всех нуждающихся в нем этот ласковый призыв: «Грядите, грядите ко мне!»
Я не могу без волнения видеть картинки и гравюры, изображающие, как старец кормит медведя. Я вспоминаю тогда одну мысль отца Серафима о посте: «Истинный пост состоит не в одном изнурении плоти, но и в том, чтоб ту часть хлеба, которую ты сам хотел бы съесть, отдать алчущему: Блажени алчущий... яко тии насытятся» (Мф. 5, 6). «Отдать алчущему зверю» – мог бы сказать о своем посте отец Серафим, который во время своего пустынножительства имел весьма небольшой запас хлеба, приносимый еженедельно из монастыря, и тем делился с неразумным диким зверем.
И вот гравюра довольно больших размеров, на которой старец изображен сидящим в лесу на бревне, а большой медведь с умными глазами осторожно, деликатно берет у него из рук ломоть хлеба, глубоко меня трогает и поражает. Сколько ласковости и усердия во всей фигуре, в выражении лица старца, сколько чего-то невыразимо отрадного разлито в воздухе этой картины... Я понимаю порыв одного почитателя старца Серафима. Умилившись духом над этим воспоминанием, он в своей столовой поставил эту гравюру в очень широкой раме на особый стол под образами и засветил пред этой картиной неугасимую лампаду. По раме из металлических букв сделана надпись: «Дикий зверь имел у тебя трапезу свою. Питай и меня, раба твоего»...
Старец Серафим благодарен, можно сказать, за малейшую память, за малейшее усердие к себе...
Так, например, петербургский протоиерей Назарий Добронравов дивеевским монахиням, бывшим в Петербурге по делам и тужившим о недостатках этой обители, тогда как надо было строить собор, указал на одного благодетеля. Указанный им человек, петербургский купец Кудряшов, действительно оказал Дивееву помощь. В ту же ночь отец Серафим поблагодарил протоиерея. Тот видел во сне, что находится в алтаре большого Саровского храма и что отец Серафим идет там к престолу, на ходу останавливается и с низким поклоном говорит протоиерею: «Благодарю тебя, Царица Небесная тебя не оставит».
Точно чувствуя всю ту задушевность, которою проникнут великий старец, многие, узнающие о нем, сразу привязываются к нему особою любовью, воспламеняются к нему такою верой, которой тщетно мы будем искать в тех людях относительно других святых.
Вот история знакомства старца с одним московским жителем, который стал таким ревностным, горячим его почитателем, что называл себя «адъютантом» старца.
Князь Николай Николаевич Голицын много слыхал об отце Серафиме, и ему хотелось принять благословение от него. Он решил проездом в свою пензенскую деревню быть в Сарове. Оставив свой экипаж у гостиницы, он поспешил в монастырь. Несмотря на вечернюю пору, старца не было еще в его келье. Голицын отправился пешком по дороге в ближнюю пустыньку4. В полуверсте от обители он встретил старца, возвращавшегося в Саров. Князь подошел к нему и попросил благословения. Благословив его, старец спросил, кто он такой. Князь, не называя своей фамилии, сказался «проезжим человеком».
Старец обнял князя, поцеловал его, произнося «Христос воскресе!», и спросил, читает ли он Евангелие. Голицын ответил утвердительно. Старец сказал: «Читай в сей Божественной книге: Приидите ко Мне вcu труждающиися и обремененнии, и Аз упокою вы» (Мф. 11, 28). Тут он опять со слезами обнял князя, затем, идя с ним вместе к монастырю, стал беседовать о разных испытаниях, которые, по его словам, ждали князя и которые все в свое время сбылись. В монастыре старец пригласил князя в свою келью, дал ему напиться святой воды и пожаловал ему сухарей5. Прощаясь с князем, старец спросил его, долго ли он пробудет в Сарове. Князь отвечал, что собирается ехать завтра после ранней обедни. Тогда отец Серафим с невыразимым сочувствием и ласковостью сказал князю, что, полюбив его, желает видеться с ним еще завтра после ранней обедни и ради него не пойдет в пустыньку, а останется в монастыре. Князь был растроган любовью старца. Когда на следующее утро он явился к келье, старец вышел к нему навстречу на крыльцо, обнял его, благословил и ввел к себе в келью. Тут он опять напоил его святой водою, дал опять сухариков и, благословляя его в путь, советовал чаще читать слова из Евангелия, на которые ему накануне указывал, и в Символе веры обращать особое внимание на двенадцатый член6. Потом они расстались. Воспоминание об этом первом знакомстве со старцем служило для князя во всю жизнь его величайшим наслаждением.
IV
Часто спрашиваешь себя: как возникает это таинственное любовное общение старца Серафима с его детьми? Они ли первые идут к нему, или он первый посылает душе их неслышный миру, но ей слышный зов? Вероятно, второе. Вероятно, какую-то таинственную весть, какое-то счастливое предчувствие того, что старец станет греть их, помогать им, получали и получают те люди, которые становились и становятся его почитателями.
А то чем иначе объяснить эту странную, притягательную как магнит силу старца, стягивающего к себе сердца людей самых разнообразных по характеру, возрасту, пониманию, положению. Отчего все эти люди видят в старце что-то особо близкое к себе, надеются заранее на его помощь им в самые важные, трудные минуты жизни, причем никогда их вера не бывает посрамлена.

Императрица Александра Феодоровна. Художник Ф.К. Винтерхальтер. 1856 г.
Отчего, например, императрица Александра Феодоровна7, никогда не видавшая старца Серафима, считала его настолько близким к себе, была настолько уверена, что он думает и заботится о ней, что всегда говорила: «Я знаю, что этот добрый старец поможет мне хорошо умереть».
И что же случилось?8 Императрица умирала.
Вся семья ее и ближайшие придворные были

Фрейлина Д.Ф. Тютчева. Фотография 1870-х гг.
собраны в гостиной около той комнаты Царскосельского дворца, где кончалась вдовствующая императрица. В это время глубоко чтившая старца Серафима Дарья Феодоровна Тютчева подошла к государю Александру Николаевичу и спросила его, не позволит ли он возложить на умирающую мантию отца Серафима. Мантия или, точнее, полумантия эта, привезенная в Петербург дивеевскою монахинею Гликерией (впоследствии Евпраксия, основательница и первая

А.Ф. Тютчева, Великий князь Сергей Александрович и Великая княжна Мария Александровна. Фотография 1862 г.
игумения Серафимо-Понетаевского монастыря), была прославлена исцелением Великой княжны Марии Александровны и с тех пор находилась в царской семье. Государь согласился на это предложение. Когда мантия была возложена на императрицу, она почувствовала прилив сил и пожелала проститься с приближенными, и они по очереди стали подходить к постели, на которой лежала императрица с закрытыми глазами, целовали ее руку и выходили другими дверями. Узнав об этом прощании, некоторые лица приезжали из Петербурга. Говорят, что ни одна из императриц не имела столь спокойной и прекрасной смерти.
На следующий день в 8 часов утра императрица почила. В комнатах Великой княжны Марии Александровны собирались служить, по желанию воспитательницы ее, Анны Феодоровны Тютчевой (впоследствии была замужем за И.С. Аксаковым), панихиду по отце Серафиме. Панихида еще не начиналась, как вошла бывшая в тот день дежурною фрейлиною Д.Ф. Тютчева и объявила присутствующим, что императрица только что скончалась. Начали служить панихиду, и священник поминал новопреставленную царицу Александру вместе с иеромонахом Серафимом. Так первая в России церковная молитва, совершенная чрез несколько минут по кончине императрицы Александры Феодоровны, соединила ее имя с именем старца, в которого она так горячо верила и который по вере ее помог ей «хорошо умереть».
Отчего так с первого рассказа о старце Серафиме поверили в него этою осенью те дети, о которых сейчас будет рассказано и которые добились от него исполнения своего желания?
Отец одной многочисленной семьи, имеющей исключительно высокое положение, путешествовал по Волге, а двум из детей его, мальчику и девочке, одна из окружающих эту семью в свободное время описывала все места, которые видит теперь их отец, причем заходила и вглубь страны от обоих берегов Волги. Между прочим, была упомянута и Саровская пустынь и рассказано детям подробно об отце Серафиме Саровском. На детей рассказ этот произвел очень сильное впечатление. Особенно поразило их такое событие из жизни старца. Одна мать, исстрадавшаяся в разлуке с сыном, который пропал у нее без вести, пришла к отцу Серафиму, поведала ему свое горе и наконец в горести воскликнула: «Научи меня, как его поминать: за здравие или за упокой?» Старец велел ей побыть пока в Сарове и чрез три дня зайти к нему. Когда несчастная мать (чрез три дня) пришла к нему, отец Серафим вывел к ней за руку ее сына, который в это время пришел в Саров и в котором старец узнал сына осиротелой матери.
Чрез несколько дней птичка, принадлежавшая детям, вылетела из клетки и упорхнула в окно. Дети были очень огорчены, тужа не столько о том, что они ее лишились, но что ее заклюют хищные птицы и что она не вынесет осенних морозов. Они знали, что люди горю их не помогут, но они только что слышали о человеке, который еще при жизни своей вернул своей матери пропавшего сына. Что, если попросить его?..
Вероятно, дети сознавали, что молитва их старцу Серафиму о возвращении им улетевшей птички может показаться взрослым смешна. Они не сказали никому о своем намерении и, согласившись между собою, стали горячо молиться отцу Серафиму, чтоб он возвратил им их птичку, как когда-то возвратил матери потерянного сына. Чрез несколько дней птичка эта была найдена на противоположной стороне того загородного дворца, где все это происходило...
Да, он жив для тех, кто хочет ему верить, и завет его, сказанный перед кончиною дивеевским сестрам, звучит для всех его детей: «Когда меня не станет, ходите ко мне на гробик, ходите, как вам время есть, и чем чаще, тем лучше. Все, что ни есть у вас на душе, все, о чем ни заскорбите, что бы ни случилось с вами: все придите да мне на гробик, припав к земле, как к живому, и расскажите. И услышу вас, и скорбь ваша пройдет! Как с живым со мной говорите, и всегда я для вас жив буду!»
V
Сердечность, сердобольность старца Серафима при жизни его выразилась, между прочим, в его отношении к русскому простому народу, русскому крестьянину. Век отца Серафима был самым, можно сказать, разгаром крепостного права.
Зоркий глаз его видел из-за пустынной ограды, чуткое сердце его чуяло все те несправедливости, обиды, насилия, которые творят крепостным своим помещики, а еще больше их управители. И он возвышал всегда свой голос в защиту крестьян, а их самих грел своею любовью, точно стараясь своей заботой воздать им за то, что они терпят в миру.
Однажды приехала в Саров какая-то помещица со своею крепостной девушкой, и обе они отправились к отцу Серафиму. Старец, благословив их, спросил барыню: «А кто же это с вами?» «Это моя крепостная девка», – отвечала барыня... После этих слов барыни отец Серафим, не обращая внимания на госпожу, стал ласково говорить со служанкой. Барыня стояла в нетерпении и несколько раз прерывала их разговор. Наконец, старец спросил барыню: «Это кто же такая девица с вами?» «Это моя крепостная девка», – ответила опять помещица. «Нет, это не девка, – твердо возразил старец, – а девица, и мало того, что такой же человек, как мы с вами, но и лучше нас, потому что у нее чистая душа и доброе сердце». И после этих слов старец, обернувшись к служанке, ласково благословил ее и сказал: «Господь с тобою, мое сокровище!»
В другой раз приехал к нему один губернский нижегородский сановник с семьей. Семью его старец принял в своей келье, а самого его заставил ждать за дверями и несколько раз из кельи чрез двери повторял ему: «Меня дома нет, мне не время». Посетитель очень удивлялся этим словам и желал знать смысл их. Он попросил одного монаха провести его к старцу, и, когда тот сотворил у дверей обычную молитву, старец впустил их обоих.
– Я был у Вас, Батюшка, пять раз, – обиженно заметил посетитель, – и не удостоился принять Вашего благословения.
– Вот почему я Вас не принял, – объяснил теперь ему свое поведение мудрый старец, – а говорил с Вами чрез дверь, что Ваши-то люди говорят приходящим к Вам по нуждам своим: «Барина дома нет» или «ему не время». Ведь этим отказом, прогневляя ближних, вы прогневляете Самого Бога.
Стыдно стало генералу, он сознал свою вину и обещал впредь не действовать так.
Вот как глубоко чувствовал отец Серафим обиды, какие низшие сословия терпят от высших.
Он всем сердцем сострадал тем обыденным, ежедневным, прозаическим интересам, из которых сплетается-жизнь крестьянина, и готов был всегда помочь в их несложных, для человека высшего положения кажущихся ничтожными бедах.
Однажды прибежал в Саров мужичок с растрепанными волосами, с шапкою в руке и с отчаянием стал спрашивать у встречного монаха, где отец Серафим. Монах спросил, на что ему надобен отец Серафим.
– Да говорят, что он угадывает. А у меня увели лошадь, и я остался совсем нищим. Не знаю, как буду кормить семью.
Монах указал мужику на старца, который в это время работал у своего крылечка: носил и складывал дрова в поленницу.
Мужичок бросился к старцу и упал ему в ноги. Подняв его, старец ласково спросил:
– Что ты пришел ко мне, убогому?
– Батюшка, у меня украли лошадь. Я нищий стал. А ты, говорят, угадываешь.
Старец взял голову этого человека и приложил ее к своей голове, потом сказал ему: «Ты огради себя молчанием и спеши скорей в N (тут старец назвал одно село). Подходя к нему, свороти с дороги вправо и пройди задами четыре дома. Там будет калиточка, войди в нее, отвяжи от колоды твою лошадь и молча уведи ее». Мужик действительно нашел лошадь на указанном месте.
В другой раз один монах привел к отцу Серафиму молодого крестьянина с уздою, который горькими слезами плакал о пропаже своих лошадей. Приведя к старцу плачущего, монах ушел, оставив их вдвоем. Чрез несколько времени он встретил этого мужика и спросил, что его лошади?

Нападение разбойников на преподобного Серафима. Рисунок начала XX в.
– Батюшка нашел, – отвечал тот. – Сказал мне тогда отец Серафим идти на торг и что я там их увижу. Я вышел на торг и как раз увидал моих лошадок.
Еще замечательнее та настойчивость, с которою он требовал, чтоб оставили без наказания избивших до полусмерти и изувечивших его крестьян.
12 сентября 1804 года старец работал в дальней пустыньке, когда к нему пришли трое неизвестных крестьян и стали нагло требовать от него денег и угрожать ему. Хотя он был очень силен и мог бы справиться с ними, он сложил руки крестом на груди и сказал: «Делайте, что вам надобно». Они ударили его топором по голове, били, топтали ногами, переломали ему ребра и бросили его только тогда, когда сочли умершим. В монастыре, куда он приплелся, положение его было признано безнадежным; но его чудесно исцелила явлением Своим Пресвятая Богородица. И вот когда этих злодеев поймали и желали привлечь к суду, старец потребовал, чтоб их оставили без наказания. Когда же на этом настаивали, отец Серафим объявил и настоятелю, и владельцу крестьян, Татищеву, что он навсегда уйдет в таком случае из Сарова в дальние места. И таким образом добился того, что их не стали преследовать... Это милосердие смягчило злодеев, они раскаялись и приходили просить у старца прощения...
Какая славная страница высшей духовной жизни русского народа!
VI
В личности отца Серафима поражает одна черта его характера.
Этот непостижимый подвижник, о котором при жизни его образованные, серьезные, пожилые люди, узнавшие его, не могли говорить без восторга, которого уже тогда звали «дивный Серафим». Этот праведник, в одном себе как бы совокупивший подвиги многих веков, силу многих людей, этот аскет, живший как бы вне условий плоти, этот тайновидец, который читал в будущем, как в прошедшем, душа которого витала иногда в райских обителях, к которому не раз с небес сходила Владычица мира и которого, единственного изо всех людей после евангельских времен Церкви, можно бы назвать собеседником Богоматери, – этот человек был как малое дитя.
Над ним, этим истинным наследником Небесного Царства, с точностью поразительно оправдалось слово Христово о том, что всех доступнее это Царство тому, кто умалит себя и станет как дитя (см.: Мф. 18, 3–4).
И часто-часто, когда я вижу чистых, трогательно-нежных, драгоценно-наивных, доверчивых детей, передо мной встает другой образ – великого пустынножителя, дивного Серафима.
Что-то детское было в его беспредельной вере, в его речах о предметах веры, о будущей жизни, о святых; все это нам кажется так отдаленно, непостижимо, а для него было живою, близкою, несомненною, осязательною реальностью.
– Вот, матушка, – говорит он незадолго до смерти, когда одна посетительница застала его собирающим щепки, – святые отцы велели мне щепу сбирать для сирот моих дивеевских.
Он всегда говорил о Владычице мира, как говорят приближенные о земной царице. Небо стало ему действительно близким и родным. Он стал достоин тех слов, которые сказала Богоматерь, придя исцелить его, когда он был еще послушник: «Сей от нашего рода».
И вместе с тем этот великий человек, с гениальным умом, с редко кем другим показанною силою воли, был как дитя.
Что-то детское есть в его отношении, например, к зверям, о котором нельзя читать без умиленной улыбки, без умиленных слез.
Ведь человек при мироздании, как венец всего Божественного творения, поставлен царем всего созданного и господином зверей. Грехопадение человека отразилось на отношении к нему тварей. Более непокорные из них отказали в повиновении тому, кто взбунтовался против их Творца, и стали врагом его. Но когда человек подвигом своим достигнет того же просветленного состояния, в котором жил в раю первый человек, тогда снова получает он власть над природой. И эту власть, не как новый какой дар, но как дар утраченный и возвращенный, принял от Бога и старец Серафим.
Известно, что во время жизни своей в Саровском лесу он кормил медведя, и сохранились подробные рассказы об отношении его к этим зверям. Один монах, отправившийся к старцу в дальнюю пустыньку, увидел его сидящим на колоде и кормящим медведя сухариками, которые брал из своей кельи. При этом зрелище монах не смел двинуться дальше и в страхе притаился за большим деревом, мысленно взывая к отцу Серафиму. Тотчас же он увидел, что медведь пошел в лес в противоположную от него сторону.
Однажды две монахини беседовали со старцем, как неожиданно к келье старца стал подходить из леса на задних лапах громадный медведь. Бедные монахини замерли от страха, в глазах у них потемнело, им казалось, что пришла их смерть. Между тем старец спокойно приказал медведю идти в лес и принести угощенья. Медведь повернулся и пошел в лес. Старец часа два внутри кельи беседовал с посетительницами, и они в сладости его беседы совершенно забыли о медведе, как опять он ввалился теперь уже в келью и, рявкнув, подал отцу Серафиму сот чистого меду, завернутый в листья. Старец дал ему сухарей, и медведь пошел опять в лес.
Одной монахине, которой старец велел прийти к себе в дальнюю пустыньку и которая боялась идти туда одна, он приказал все время пути читать громко Господи, помилуй. Когда она без страха со чтением вслух этих слов дошла до пустыньки, то увидала, что старец там сидит на колоде у кельи и около него громадный медведь. Она во весь голос закричала: «Батюшки, смерть моя!» И от страха упала на землю. Старец махнул медведю, и он тотчас ушел в лес, а старец успокоил монахиню и, посадив ее около себя на колоде, стал с нею беседовать.
Вдруг тот же медведь появился опять из леса, подошел к старцу и лег у ног его. Сперва монахиня была вне себя от ужаса, но потом, видя, что старец обращается с медведем, как с кроткою овечкой, и кормит его из своих рук хлебом, успокоилась. Чудно было в это время лицо великого старца: радостное и светлое, как у ангела. Старец велел даже и монахине покормить зверя из своих рук, и сперва она боялась, а потом так осмелела, что, когда весь хлеб вышел, желала бы еще кормить его.
Зверь настолько ей понравился, что она завела разговор о нем с великим старцем:
– Что, если этого медведя увидят сестры: они умрут от страха?
– Нет, матушка, – отвечал старец, – сестры его не увидят.
– А если кто-нибудь заколет его – мне его жаль.
– Нет, и не заколют, – успокоил ее старец, – кроме тебя, его еще никто не увидит.
Когда же монахиня подумала о себе: «Вот как я буду рассказывать сестрам об этом дивном чуде», старец на мысль ее дал заповедь: «Нет, матушка, прежде одиннадцати лет после моей смерти никому не поведай этого. А тогда воля Божия откроет, кому сказать».
Впоследствии эта сестра вошла однажды в келью, где, по благословению старца Серафима, занимался живописью крестьянин Ефим Васильев, глубоко веривший в старца. Он как раз рисовал его изображение. Сама не зная почему, монахиня молвила: «Вот бы хорошо изобразить старца Серафима с медведем». Живописец спросил ее, почему она так думает, и тогда она первому рассказала ему, как была свидетельницею повиновения медведя отцу Серафиму. Тогда именно минуло и заповеданных старцем 11 лет.
Можно думать, что с тех пор и стали рисовать старца кормящим медведя.
Разве нет чего-то детского в этой умиленной картине, в этом разговоре наивной монахини с ее вопросами: «А если увидят? А если заколют?» – детского в смысле неслыханного на земле благодушия, незлобия, которые поражают и растрогивают нас в детях.
Или вот разговор, предшествовавший одному чуду отца Серафима над птицами.
Монах, занимавшийся садоводством, пожаловался старцу, что его одолели воробьи, все клюют его кусты и деревья.
– Нет, батюшка, – ответил старец, – запрети им, чтоб они чужих плодов не съедали.
Монах стал просить его, чтоб отец Серафим помолился об отвращении этой напасти, а старец опять повторил:
– Нет, нет, запрети им, батюшка!
Когда на другой день монах пришел в сад, он увидел, что воробьи густой стаей осыпали малину, но только смотрят на ягоды, а не клюют их. И стал тогда монах верить в силу слова отца Серафима.
VII
Отношение старца к детям представляет одну из самых трогательных черт отца Серафима.
Одна бедная женщина, оставшись после смерти мужа без пенсии и без всяких средств, отправилась в Саров посоветоваться с отцом Серафимом, как ей жить. «Сооруди храм», – отвечал ей старец. Этот совет ей, бедной женщине, выстроить храм показался ей столь несообразным и странным, что она усомнилась в отце Серафиме и в большом смущении вернулась домой. Она пошла, чтобы успокоиться, в церковь, и здесь неизвестная женщина дала ей на руки ребенка, чтоб поднести к причастию, а сама скрылась. В городе узнали об этом происшествии, что бедной женщине придется воспитывать девочку. Губернатор предложил дворянству обеспечить эту вдову, и ей назначили пенсию. Она стала жить безбедно с подкинутой ей девочкой и поняла тогда, о сооружении какого храма говорил ей старец.
Едет в Саров один состоятельный помещик Теплов с женою и детьми, и дорогою жена жалуется мужу, что старший сын, десятилетний мальчик, весь погружен в чтение духовных книг, не обращая внимания на окружающую жизнь, и что вообще их дети слишком уж заняты всем священным и не заботятся о науках, уроках и о всем, необходимом в светской жизни.
– Матушка, – говорит ей старец Серафим, когда они пришли к нему, – не торопись детей-то учить по-французски и по-немецки, а приготовь душу-то их прежде, а прочее приложится им потом. – И, обнимая старшего сына их, он называет его «мое сокровище».
Вот старец у себя в келье подымает с полу маленькую девочку, которая сама не может приложиться к образу Божией Матери, к которому старец дает прикладываться всем своим посетителям, и на своих руках подносит ее к образу, чтоб она поцеловала его.
Вот к старцу приезжают совершенно неизвестные ему барыня с дочкой. Дочка только что подала полтинничек колоднику, который в тяжелых цепях шел мимо монастыря и был очень жалок.
– Вот это хорошо, – говорит старец девочке, – что полтинничек-то подала бедному.
Да, он любит и хранит детей.
Одна монахиня, только что приехавшая для поступления в Дивеев, много скорбела, чувствуя трудность иночества. За всенощной под Рождество ее умилил вид сироток, монастырских воспитанниц, стоявших вокруг игумении. И когда отворили для величания Царские двери, она увидела, что сзади монастырских малюток с распростертыми руками, как бы защищая их, стоит отец Серафим. С испугом и радостью смотрела она на это дивное явление, но на лицо старца, сиявшее невыносимым светом, смотреть не могла.
Вот несколько примеров горячей веры детей в старца Серафима, чрезвычайной к нему привязанности.
Мы упоминали о супругах Тепловых, которым старец велел не препятствовать религиозной настроенности их детей. В 1846 году младший их сын вывихнул себе ногу и около двух лет страдал от этого вывиха. Между тем мальчика надо было определять в военную службу. Веруя в целебную силу отца Серафима более, чем в искусство врачей, отец 3 декабря 1848 года, несмотря на глубокие снега, отправился с двумя сыновьями в Саров. Там, у целебного источника, младший сын, помолившись, вымыл себе ногу водой. Чрез несколько часов дети отпросились опять на источник. По дороге, несмотря на боль в ноге и неудобство протоптанной в снегу тропинки, меньшой сын, держа в руке бутылку, обогнал старшего брата. У источника он зачерпнул воды, разделся и облился водой от головы до ног, потом, одевшись, стал на колени пред иконами, молясь старцу Серафиму об исцелении. Оба брата долго молились там коленопреклоненные, и, несмотря на мороз, им не только не было холодно, но оба они вспотели. Возвратясь в гостиницу, меньшой объявил, что он не чувствует уже никакой боли в ноге. Он был совершенно здоров и поступил в кавалерийский полк.
Дочь петербургского частного пристава Муратовского, Мария, получив от одного монаха изображение отца Серафима, чрезвычайно к нему привязалась и никогда с ним не расставалась; когда же выучилась грамоте, любимым ее чтением стала книга о жизни и подвигах старца Серафима. И кроткий старец вознаградил Марию за такую любовь к себе. У ее отца, человека небогатого, была большая семья. Марию он решил поместить в тамбовский институт, надеясь на то, что туда попасть легче, чем в петербургский. Но, хотя девочка в Тамбове сдала экзамен благополучно, по баллотировке она в институт не попала, и ее взяла к себе на время одна добрая и набожная особа, которая утешала девочку, что старец Серафим устроит ее судьбу... Случилось, что местный губернатор, человек добрый, просматривая бумаги девиц, которым было отказано в приеме в институт, увидал в документах Марии Муратовской, что ее крестил один из богатых московских сановников. Губернатор написал этому барину, прося его войти в положение крестницы, и вскоре крестный отец прислал деньги – весь годовой взнос за учение. Девочка поступила в институт.
Маленький, по четвертому году, сын священника Александра Виноградова начал заикаться.
Недостаток этот принял у него ужасающие размеры. Бывало, прежде чем произнести слово, он минут пять, раскачиваясь, мычит: а, а, а... весь надуется, покраснеет, наконец схватится за скулы, заплачет и убежит. Много тужили родители об этом несчастье сына, но помочь ему не могли. Знакомые дали матушке почитать книгу об отце Серафиме, и она читала ее сыну вслух. Мальчик, развитый не по летам, внимательно слушал чтение и чрезвычайно полюбил старца. Любовь эта выражалась в нем тем, что он целовал картинки, изображавшие старца, и прижимал их к себе. Как-то во время Пасхи мальчик так заикался, что, смотря на его муку, мать его и няня обе расплакались. Приласкав сына, мать просила его всегда во время звона к «Достойно» молиться Богу и просить старца Серафима исцелить его. Мальчик обещал это с радостью. Сама же мать, дав обет отслужить по отце Серафиме панихиду, пошла рассказать о том мужу. Муж ее, не читавший еще в то время жизнеописания старца, равнодушно отнесся к ее намерению. Между тем мальчик вдруг стал говорить совершенно гладко, и так продолжалось три недели, в течение которых панихида отслужена не была. Опять стал мальчик заикаться. Тогда матушка заставила мужа прочесть книгу о старце, и батюшка тоже уверовал в него. Когда с усердием отслужил панихиду, мальчик стал говорить опять хорошо.
По чрезвычайности видений замечательно исцеление старцем Серафимом в 1856 году восьмилетнего мальчика, единственного сына костромского вице-губернатора А.А. Борз<ен>ко.
Болезнь началась спазмами в желудке, потом появилась тоска. Крепкий, веселый мальчик стал хиреть. Тоска разрешалась припадками с появлением изо рта пены, в дыхании наступали спазмы. Припадки повторялись раз по пяти в день. Доктора не могли помочь ребенку.
Как-то родители его получили от госпожи Давыдовой (впоследствии игумении Костромского монастыря Марии) описание жизни и чудес отца Серафима и, читая вместе эту книгу, дивились цельбоносной силе старца.
Однажды ночью во сне больной ребенок видит Спасителя в красной одежде, окруженного Ангелами. Спаситель сказал: «Ты будешь здоров, если исполнишь то, что тебе приказано будет старцем, который к тебе придет». Когда кончилось видение Спасителя, к мальчику явился старец, назвал себя Серафимом и сказал ему: «Если желаешь быть здоровым, возьми воды из источника, находящегося в Саровском лесу и называемого Серафимовым источником, и три дня утром и вечером водою этою омывай себе голову, грудь, руки и ноги и пей ее».
Проснувшись, ребенок рассказал свой сон няне, которая передала и родителям его. Они пришли к кроватке сына, и он повторил им свой сон. Родители были обрадованы, но не знали, как им достать воды. Под утро мальчик видел еще сон. Окруженная Ангелами, к нему пришла Царица Небесная и с любовью приказала ему непременно устроить то, что советовал отец Серафим.
Теперь вся забота родителей была в том, как бы достать воды. Поутру принесли записку от г-жи Давыдовой, которая уведомляла о своем возвращении из путешествия. От нее они и достали воды из Серафимова источника и стали ею лечить сына, как было велено ему в сновидении. В 1860 году они с сыном, уже двенадцатилетним мальчиком, приезжали в Саров благодарить старца и поклониться его могиле, и тогда письменно удостоверили пред настоятелем об этом чуде.
Вот накануне экзаменов в Горный институт заболевает (в 1864 году) Димитрий Собанеев.
Мать в отчаянии молится отцу Серафиму, и ночью старец во сне говорит ей: «Сын твой выздоровеет и испытание в науках выдержит».
Она утром идет в лазарет, но сын уже на экзаменах. Он возвращается, с успехом выдержав их, и говорит, что и ему ночью являлся старец со словами: «Выздоровеешь и испытание выдержишь».
Когда думаешь об этом отношении отца Серафима к русским детям, вспоминается его собственное детство: тихое, благодатное, среди верующих людей, под крылом умной, набожной, ласковой матери... Стараешься представить себе внутренний мир избранного ребенка – и не можешь проникнуть в запечатлевшую его тайну... Видишь только, как Ангелы на своих руках несут резвого мальчика, упавшего с верху высокой колокольни и очутившегося целым на земле. Видишь только, как Владычица мира является к безнадежно больному Прохору с обещанием исцелить его и чрез несколько дней посещает его в лице чудотворной Своей иконы, неся ему исцеление... А прочее скрыто от глаз – та великая внутренняя работа, во время которой все лучшее содержание русского народа легко и свободно вошло в чуткую душу ребенка и стало всходить там, готовя обильный урожай. Кто подсмотрел тайну развития зерна в благодатно-плодородной почве, кто подслушал рост трав, упоенных на заре свежей росой? Есть такие явления в жизни, есть такое таинственное в детстве, что о нем можно лишь мечтать, но не увидеть его вполне и воочию. Та святыня, к которой можно подойти лишь издали, издали поклониться ей и отойти с разогретым сердцем и с душой, более чистой и лучшей...
VIII
Каким был старец при жизни: те же индивидуальные черты его характера, как можно видеть из многочисленных явлений его, сохранились в нем и поныне.
Являясь в сновидениях и наяву, кроток и тих старец. И к мягким, нежным словам его можно приложить то имя, каким древний «списатель жития» преподобного Сергия означает свойство его речи: благоуветливость.
То видят его во сне, как он молится у изголовья больных; то, стоя у их постели на коленях, кормит их заботливо каким-то врачевством.
Вот он располагает сердце ярой раскольницы так, что она сама приносит игумении дарственную запись на тот самый дом, за который только что просила у монастыря несообразно высокую цену; а игумению предупреждает, являясь к ней и успокоительно говоря три слова: «Придет и принесет» (свидетельство игумении Пульхерии).
Вот он в белом балахоне с медным крестом на груди воочию является ночью к барыне, задыхающейся от нарыва в горле, и, благословляя ее с произнесением коротких слов «простая и добросердечная», исцеляет ее.
Вот идет муромскими лесами богомолка и издали слышит крики и стоны: разбойники на дороге грабят двух проезжих. Она берет бывшее при ней изображение отца Серафима и осеняет им то место, откуда доносятся крики. Разбойники в страхе бегут, так как им представилось, что на них с угрожающим видом бежит старый согбенный монах, а за монахом толпа народа с кольями.
Вот воры хотят подломать лавку одного почитателя отца Серафима, но, взломав запоры, бегут, потому что старец, приняв вид караульщика, начинает мести около лавки и тогда же ночью говорит об этом во сне матери хозяина.
Вообще за последние 70 лет9 в глубоких недрах русской жизни происходит поразительное явление.
Человек, уже 70 лет назад схороненный в могиле у Успенского собора Саровской пустыни, ходит по всему пространству России.
Он входит в крестьянские избы, и в городские дома, и в лачуги, и во дворцы царские, внося повсюду с собой благословение, утешение, разрешение горя и бедствий. Иногда даже другие святые, являясь людям, научают их обращаться к этому дивному человеку, говоря, что он имеет великое дерзновение у Бога.

Преподобный Серафим Саровский. Литография 1866 г.
Инославные христиане, испытав на себе чудодейственную помощь непостижимого старца, начинают с ревностью чтить его.
Тяжко карает Господь тех, кто хулит этого сияющего небесною славою, хотя не прославленного еще на земле церковною славою чудотворца.
Можно смело сказать, что ни один праведник до причтения своего к лику святых не пользовался таким почитанием, как старец Серафим.
Во имя его воздвигнуты две женские обители – Серафимо-Дивеевская и Серафимо-Понетаевская. Ради его имени множеством людей, начиная с членов царствующего дома, принесены громадные пожертвования...
Изображение старца уже давно ставится вместе с иконами, и церковное прославление его с горячим нетерпением ожидалось множеством его почитателей.
IX
С чувством необыкновенной радости я после праздника Преображения ехал в Саров.
Все то, что я переживал с детства, думая об отце Серафиме, все, что узнал о нем в последствии, множество необыкновеннейших рассказов о его делах при жизни, о его загробных явлениях, восторженные отзывы о местах, где он спасался, – все это теперь воскресло в памяти с великою силою, все это обступало и заполонило мой внутренний мир.
В ту пору, когда до Арзамаса не было еще железной дороги, проведенной теперь от Нижнего и несколько сокращающей путь на Саров, – в ту пору можно было ехать из Москвы четырьмя путями.
До Рязани по железной дороге, оттуда на пароходе по Оке до пристани Ваташка, а оттуда верст восемьдесят на лошадях до Сарова. Путь этот был удобен только при половодье раннею весной, так как в остальную часть судоходного времени Ока мелководна. Затем можно было ехать на лошадях в Саров из Мурома, но этот путь продолжителен. Наконец, верст сто с небольшим грунтовой дороги отделяют Саров от двух станций Рязанско-Казанской

Вид города Арзамаса. Фото начала XX в.
железной линии – Сасова и Спасска. Я ехал на Сасово.
Выбрав поезд, отходящий из Москвы под вечер, я на следующее утро вышел в Сасове.
Несколько ямщиков обступило меня, узнав, что я еду в Саров, и я за 25 рублей нанял тарантас тройкой. Часть пути, до города Кадома, должны были везти меня почтовые сменные лошади, а от Кадома, где кончался почтовый тракт и шел вплоть до Сарова проселок, должны были везти одни и те же лошади, не сменяясь, и вернуться со мной в Кадом же. За условленную плату я выговорил ехать в Саров, пробыть там дня два–три, побывать на день в Дивееве и вернуться в Сасово.
Время, несмотря на август, было удушливожаркое. Все лето была страшная засуха. Я задолго до поездки ужасался тех облаков пыли, в которых мне придется двигаться, и принял все меры предосторожности, чтоб, сколько возможно, защититься от нее, и первые десятки верст ехал с поднятым верхом. К величайшему своему удивлению, я заметил, что пыли нет ни малейшей. И все время пути в Саров и обратно на меня не упала ни одна пылинка. В простоте веры мне казалось, что великий старец охраняет всех едущих в пути от всего, что они считают неприятным для себя, – и не с одним мной, а со многими другими было подобное. Многие замечали, что раз решишься ехать к отцу Серафиму, то все обстоятельства складываются особенно благоприятно.
До Кадома мы ехали очень быстро. В Кадоме мне дали в ямщики подростка, который не знал вовсе дороги в Саров. Он бывал верстах в тридцати в большом селе, которое стояло на нашем пути и в котором мы должны были кормить лошадей, но дальнейшая часть пути, именно та, которою мы должны были ехать ночью, была ему совершенно неизвестна. Не доезжая этого села верст десять, с одной из лошадей сделался припадок. Я мысленно молил старца, чтоб не вышло с ней чего худого, и, слава Богу, она оправилась. Виды по дороге были красивые. Особенно живописен был один пункт, с которого видно было вблизи и в отдалении много церквей.
Громадное село, где мы остановились под вечер, расположенное в несколько улиц, носило отпечаток глубокой, настоящей деревни, не тронутой железнодорожной цивилизацией. Самодельные одежды женщин и мужчин, своеобразно повязанные головы у женщин, у многих молодых женщин за ушами в виде украшения пушинки

Дорога на Саров. Фото начала XX в.
В том богатом постоялом дворе, где мы остановились, старый хозяин, высокий, плечистый, с изжелта-седыми кудрями, его сын и внук, ухватистый парень, все в лаптях и в рубахах из грубой домашней ткани, так разительно отличались от типа трактирщиков и дворников центральных губерний.
Уже совсем стемнело темнотой августовской густой ночи, когда мы выезжали из этого села. Мужики растолковывали моему вознице, как ехать, какой руки держаться, где сворачивать. Объяснения были довольно сбивчивы, так как путь лежал сначала открытым местом, а в этой губернии, к сожалению, большие дороги не обсажены старыми, вековыми деревьями, как, например, в Смоленской губернии.
Мы поехали. Первое время, пока во встречных деревнях народ еще не улегся спать и можно было спрашивать, так ли едем, мы были покойны. Но вот долго не попадается деревень... Как знать, не пропустили ли мы нужного поворота и не забираем ли в сторону. Ямщик слезает с козел, становится на колени посреди дороги и, зажигая спичку, смотрит, есть ли по дороге трава. Травы нет, значит, это большая дорога и мы едем правильно.
Не спав до того несколько ночей, проведенных тоже в поездках на лошадях, я начинаю подремывать. Проходит, вероятно, час-полтора. Меня будит рассуждение ямщика. Он боится, что мы сбились. По счастью, можно различить, что сейчас околица и за ней начинается деревня. Я приказываю ему постучаться в окно какой-нибудь избы. Высовывается взлохмаченная голова крестьянина, и ямщик вступает с ним в объяснения.
– Эх, – слышу я его голос, – в сторону забрали.
– Ну так выведи нас на дорогу, – говорю я ему.
– Да ведь версты полторы вас везти придется.
– А ты садись на козлы, только оденься. Я тебе на чаек дам.
Но мужик выходит в одной рубашке, босой, без шапки и, примостившись на козлах, командует ямщиком. Далее путь уж не сбивчивый, только мужик с большим жаром толкует ямщику о большой Саровской мельнице, которая должна к рассвету остаться у нас влево. Мы расстаемся с нашим проводником. Всходит луна, и ехать при ней удобней. Я приказываю ямщику во всякой встречной деревне стучать в какое-нибудь окно и спрашивать чрез стекло, этот ли путь на Саров.
Мною овладевает сладкая дремота. Сквозь нее я испытываю еще усиленное полубессознательное какое-то блаженство оттого, что приближаюсь к Сарову. Во мне нет уже отдельных представлений о том, что я увижу, но, как волшебная сказка, в утомленном мозгу встает что-то необычайное, громадное, особенное, бесконечное, и я всей душой удивляюсь ему и зову его. В таком настроении я заснул.
Меня разбудила предутренняя свежесть. Восток чуть алел. На небе потухали последние звезды.
Мы ехали открытым местом. Вдали протянулась чернота непрерывных лесов. В самой неудобной позе ямщик спал, положив голову на армяк, подостланный рядом с ним на козлах. Лошади двигались шагом. Взяв вожжи, я поправил до ближайшего села, оставив ямщика спать.
В селе уж поднимались хозяйки, кричали петухи, сбиралось стадо, бабы шли с коромыслами за водой.
После села вскоре начался длинный, длинный густой лес – уже Саровская земля.
Поеживаясь от холода, я вглядывался вглубь его. Мне казалось, что вот-вот тяжелою поступью пройдет Серафимов медведь. Мелькнет черная фигура кого-нибудь из древних отшельников, Назария10 или Марка11, или в белом балахоне, согбенный, с ношей на плечах, появится сам дивный из дивных, величайший из великих, старец Серафим... Но лес был тих, суров и безответен.
И мы едем, едем. Скучно, нетерпение мучит до боли.
Вдруг лесная стена впереди точно раскрывается, и, облитый лучами восходящего солнца, перед нами вдали стоит белоснежно-белый с золотыми главами собор: Саровский Успенский собор. Что-то чрезвычайно знакомое и дорогое сказалось мне в его очертаниях. Он близко напомнил мне заветную «Великую церковь» Киево-Печерской лавры, по образцу которой он действительно построен...
И долго стоял пред нами, как корабль, причаливший в безопасную пристань, этот величественный храм.
Вот наконец и Саров, на высокой, кажущейся нам отвесной, горе. Мы медленно взбираемся вверх по вьющейся дороге, останавливаемся у гостиницы. Я еле понимаю, что говорю; чрез пять минут после того, как мне отвели комнату, я уже улегся и как убитый засыпаю. Ни разу не приходя в себя, я просыпаюсь уже после вечерни.

Вид Саровской пустыни с юго-восточной стороны. Фото 1903 г.
X
Саров!..
Сколько необыкновенного в его судьбе!
Когда-то на этой горе стоял оживленный, воинственный татарский город Сараклыч с грозными бойницами, окруженный валом, защищенный глубокими рвами... Он держал в повиновении окрестное население. Пришло время, и русские прогнали татар, и «царственнейший город» запустел и заселился дикими зверями; пропали всякие следы кипевшей здесь воинственной жизни.
И вот чрез века один за другим несколько иноков поселяются на месте «Старого Городища». Они слышат звон невидимых колоколов, от которого вся гора трясется, и верующее сердце их говорит им,

Иеросхимонах Иоанн, первоначальник Саровской пустыни. Литография XIX в.
что велик должен быть удел этого места... Но все эти первые иноки, пожив недолго в этой пустыни, покидают ее.
Наконец, приходит первоначальник Саровский, Иоанн12... Ни страшная, временами нападающая
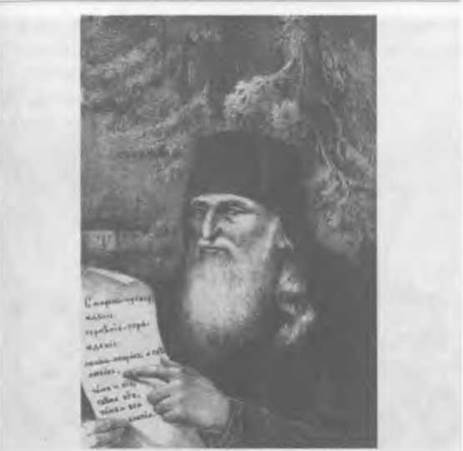
Преподобный Назарий, игумен Валаамский. Литография XIX в.
на него тоска, ни козни нечистых духов, ни болезни не могут изгнать его из этого места. Он начинает копать в горе пещеры, к нему собирается братия и, по освящении церкви, торжественно и согласно обещается хранить нерушимо, пока стоит обитель, устав...
Строгая жизнь иноков, ряд выдающихся настоятелей привлекают к пустыни и богомольцев, и усердие богатых людей. Возникают великолепные Саровские храмы. В годины бедствий пустынь щедро благотворит народу. Удобства к «иноческому деланию» привлекают в Саров людей, ищущих подвига, и, наконец, в нее вступает13 послушник Прохор Мошнин, которому суждено было сиять незаходимым сиянием и светить русскому народу под именем старца Серафима...

Колокольня и святые ворота Саровской пустыни. Фото начала XX в.
XI
Вот я чрез ворота в очень высокой колокольне прошел к Успенскому собору, спрашивая, где часовня.
Мне показывают прилепленную к соборной стене широкую низкую часовню со стеклянными стенами. Там большой, тяжелый мавзолей. Неужели под ним?

Часовня над могилой преподобного Серафима. Фото начала XX в.
– Да, тут!
Я стою у могилы отца Серафима.
В эту минуту нет никого в часовне, ничто не мешает сосредоточенно думать о нем, и невольно, припав к холодным надгробным камням, спрашиваешь его, видит ли он, принимает ли он это посещение.
А он смотрит со стен в нескольких больших, живописных изображениях своих...
Вот он молится в лесу на камне. Каштановые волосы рассыпались по плечам, на белом балахоне блестит медный крест – никогда не снимавшееся им с груди материнское благословение. Он поднял руки и голову к небу, взывая гласом мытаря: «Господи, милостив буди мне грешному!»
Тысячу ночей провел он в такой молитве, предпринятой им, чтоб победить «врага», восставшего на него «мысленной бранью», с неслыханною силой... Как вынес он это моление? Когда его впоследствии спрашивали, была ли ему тогда Божия помощь, он отвечал: «Да, иначе сил человеческих не хватило бы! Внутренно подкреплялся и утешался я этим небесным даром, нисходящим от Отца светов. Когда в сердце есть умиление, то и Бог с нами!»
Вот старец, сидя на колоде, кормит медведя. Ласково подает он ему кусок своего насущного хлеба, и разумное животное ласково и рачительно, осторожно принимает от него этот кусок... И сами собою тут шепчутся читанные мною в одном доме пред изображением этого же подвига старцева милосердия слова веры и любви. «Дикий зверь имел у тебя трапезу свою. Питай и меня, раба твоего!»
Вот старец копошится у своего колодца – родника в ближней пустыньке, там, где исцеляющая благодать действует так же дивно, как в евангельской Вифезде, с тою разницею, что в Вифезде лишь раз в году Ангел Господень, сходя в купель, возмущал воду цельбоносною силой, и сила эта действовала лишь на одного того, кто первый спускался в воду по возмущении ее (см.: Ин. 5, 2–4), а здесь, в Серафимовом источнике, ищи исцеления когда хочешь, днем и ночью, летом и зимой, и в своем доме за тысячи верст чудесная вода принесет тебе облегчение, только веруй, что сильна исцелить тебя молитва старца Серафима...

Внутренний вид часовни и лестница к могиле преподобного Серафима. Фото начала XX в.
Вот, стоя со сложенными крестом на груди руками, с неизменным распятием, материнским благословением, старец коленопреклоненный стоит бездыханным пред келейной своей иконой Богоматери «Умиление», которую он называл «Всех радостей Радость»...

Видение настоятелю Глинской пустыни игумену Филарету о вознесении души преподобного Серафима. Хромолитография начала XX в.
Что чувствовала его душа в ту минуту, как неслась, по выражению одного славного подвижника (старца Парфения Киевского), «от земного, бедственного, многоплачевного, свирепого, прискорбного и болезненного странничества в небесное, любимое, блаженное, покойное, всевеселящее, немерцающее, бессмертное, нескончаемое, вечное и неизреченное отечество?»
Но какое ликование было тогда на небе, можно судить по тому, что, велением Творца, сама природа земная отразила славу того часа. В ночь отшествия отца Серафима «к небесным» в далекой Глинской пустыни благочестивый настоятель Филарет, выходя от заутрени, увидел в небе некое великое торжество, выражавшееся в необычайном свете. Остановился он, задумался и сказал: «Вот как отходят души праведных. Ныне в Сарове душа отца Серафима возносится на небо».
И я стоял, полный всех этих значительных воспоминаний, а предо мной, отделенный глубиною каких-нибудь двух–трех аршин земли, лежал во гробе он, «убогий Серафим».
Мне казалось, что-то ласковое, зовущее, обещающее помощь и сострадание стояло в воздухе. Мне казалось, что я услышу из земли те слова, с которыми обращался отец Серафим к своим детям: «Радость моя, сокровище мое!»
Мне вспоминался тогда слышанный незадолго до отъезда рассказ одной московской монахини, ездившей в Саров. Всю дорогу она, никогда не расстававшаяся с болезненной старухой теткой, тоже монахиней, была как безумная от страха за нее, моля Бога, чтоб та не умерла во время ее отлучки. С тяжелым сердцем пришла она к могиле старца и, припав к надгробию, излила ему всю душу, умоляя его не дать старушке умереть без нее. Она хорошо знала, что в часовне она одна. Вдруг она, прижавшая свое лицо к памятнику с наружной стороны, явственно слышит легкие шаги по ту сторону памятника, между памятником и стеною собора. Она быстро подняла голову. Трепет пронял ее. Сердцем она живее действительности почувствовала присутствие здесь отца Серафима; она была пред ним, как пред живым. И вдруг все ее беспокойство разом исчезло, и она стала уверена, что все дома благополучно. Тихая радость переполняла все ее существо. Действительно, она без всякой более боязни пробыла в Сарове и вернулась домой, где в ее отсутствие все шло хорошо.
Стоя у могилы старца, я вспоминал о том, как он был схоронен. Он лег в том самом дубовом гробе, который за много лет до кончины он себе сам приготовил. Еще за неделю до смерти, в праздник Рождества 1832 года, он напоминал, чтоб его положили в этом гробе. На груди у него лежит финифтяная икона преподобного Сергия, которую он накануне смерти передал одному монаху, прося положить ее к нему в гроб. Эту икону прислал ему наместник Троице-Сергиевой лавры, духовник митрополита Филарета14, архимандрит Антоний15. В руке отца Серафима разрешительная грамота.

Отпевание преподобного Серафима в Успенском соборе. Гравюра XIX в.
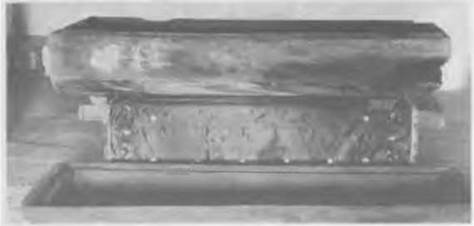
Дубовый гроб, сделанный самим преподобным Серафимом. Фото начала XX в.
Когда ее за отпеванием влагали ему в руку, пальцы руки сами собою разжались, чтоб он принял грамоту. Сколько чувств носилось тогда в час отпевания в соборе, переполненном народом до того, что от спертого воздуха тухли свечи пред местными образами! Что переживали современники, хороня то сокровище, которое вскоре снова взойдет над землею, чтоб больше уж никогда не скрываться в нее?..
Но вот, через дорогу, корпус, в котором находится его келья.
Сам не свой, с замиранием сердца бреду я к этой келье. Что за зрелище было тут в те дни, когда старец после приобщения возвращался из собора к себе! Сотни народа теснились вокруг него, чтоб видеть. А он со светлым сияющим лицом, весь ушедший в свое счастье только что совершившегося соединения со Христом, шел в глубоком умилении, никого не видя, ничего не слыша, никого не благословляя. А народ, не смея нарушить сосредоточенности его, не заговаривал с ним, а рвался лишь взглянуть на это благодатное лицо земного ангела.
Но и в обычные дни здесь часто бывал громадный наплыв людей. «Торопливо войдя в монастырь, – вспоминает госпожа Еропкина о первом посещении ею Сарова, – я была поражена необыкновенным зрелищем. Между Успенским собором и противоположным одноэтажным корпусом, точно волны, двигались густые массы народа. Из расспроса других узнаю, что в этом самом корпусе живет отец Серафим. Вмешиваюсь в толпу народа из всякого пола, возраста и звания, сквозь них пробираюсь к крыльцу, куда и все также стремились. С большим трудом втираюсь в самую келью отца Серафима. Я, по примеру других, старалась приблизиться к нему и протянула ему свою руку для принятия благословения, еще не видя его лица. Он, преподавая мне благословение и сухариков, сказал: “Приобщается раба Божия Анна благодати Божией”».

Старец Серафим, идущий из храма. Литография 1885 г.
Вот одно из типичных первых посещений старца личностью, совершенно ему незнакомою. С какими мыслями подходили к нему, с каким страстным и святым любопытством? Ведь на него смотрели, как на последнее прибежище там, где земные силы сделать ничего не могли, от него ждали невозможного. Ехавшие к нему уже были подготовлены к чему-то громадному, необычайному, наслышавшись подобных отзывов, произнесенных с восторгом в голосе, с выражением радости в лице теми, кому выпало на долю счастье видеть это воплощение благодати... Но и приготовленные такими отзывами о старце, люди находили большее, чем они ждали.
Всюду, на всяком полшаге, теснятся тут такие захватывающие воспоминания. У этого крылечка старец в мае 1829 года совершил одно из великих своих чудес. Муж внезапно заболевшей крестьянки Гурьевой кинулся к отцу Серафиму и приехал в Саров около полуночи. Бог известил старца о беде мужика и, когда Гурьев подходил к заветному крылечку, старец уже дожидался его и ласково сказал: «Что, радость моя, поспешил в такое время к убогому Серафиму?» Рассказал мужик о болезни жены и услышал ответ: «Она должна умереть». Упав к ногам старца, Гурьев, твердо веря в дерзновение его пред Богом, умолял его помолиться, чтоб жена его осталась жива. И старец сделал по вере веровавшего. Он закрыл глаза и углубился в безмолвную молитву. Так молился он минут десять, потом открыл глаза, сиявшие небесною радостью, поднял крестьянина, все еще лежавшего у его ног, и сказал: «Ну, радость моя, Господь дарует супружнице твоей жизнь. Гряди с миром в дом твой». Жена его выздоровела, и облегчение началось с той именно минуты, когда отец Серафим молился.
Вот сени. Сперва келья, где жил отец Павел, сосед старца, не бывший собственно келейником его, но иногда ему кое в чем помогавший, человек простой и хороший, о котором старец Серафим говаривал: «Вот отец Павел спасается незлобием своим: никого не осуждает. Видит только собственные грехи свои». И вот вторая дверь в келью отца Серафима.
Невольно останавливаешься пред входом в это священное место. И как применимы здесь слова, обращенные некогда великим Филаретом к келье преподобного Сергия. И здесь с каким правом можно воскликнуть: «Отворите мне дверь тесной кельи, чтобы я мог вздохнуть ее воздухом, который трепетал от гласа молитв и воздыханий Серафима, который орошен дождем слез его, в котором впечатлено столько глаголов духовных, пророчественных, чудодейственных. Дайте мне облобызать праг ее сеней, который истерт ногами Праведного и чрез который однажды переступили стопы Царицы Небесной».
Здесь текла эта сокровенная в Боге жизнь, здесь величайшие созерцания духовные посещали человека Божия, здесь высказано столько признаний, пролито и утерто столько слез. Вместо горя, камнем висевшего на сердце, сходила радостная тишина, чудным образом горе рассеивалось и исчезало, как тучи с неба, когда проглянет лучезарное солнце. Здесь совершалось его ежедневное внешнее мученичество и познавал он величайшее духовное счастье. Здесь он призывал Бога, спасал шедший к нему мир. Сюда низошла к избраннику Своему для долгой беседы, как с родным и близким человеком, Всесвятая Владычица мира. И хочется воскликнуть, стоя у порога этого святилища: «Братие, ведь все это здесь!» И среди какого убожества совершались эти чудные события! Маленькая, аршин шесть квадратных, четырехугольная комната, освещаемая справа одним окном, смотрящим на обрыв Саровской горы и далее на дорогу, пролегшую среди зелени и леса. В углу лежанка из белых кафелей с зелеными узорами. Стены покрыты большими, в рост, картинами, изображающими старца в разных видах. Особенно жизненной кажется та, где он идет словно вам навстречу в белом балахончике, согбенный, и глаза его смотрят вам прямо в душу. 22 мая 1890 года Ю. В. Каразина, прибыв в Саров, пришла в эту келью. Подойдя к изображению старца, она увидела, что лицо оживляется, что глаза движутся и открываются, движутся и брови. Тут икона «Умиления», изображающая Богоматерь без Младенца со склоненным челом и опущенными долу глазами, с руками, сложенными на груди. Какое выражение лика: внимает ли Богоматерь молящимся, или прислушивается к сокровенному голосу Своего сердца, но вся Она – светоносная красота и тайна. В витрине некоторые вещи старца: железный крест, который он носил под одеждой, Евангелие.
Келья эта не была жилищем отца Серафима с первого времени его пребывания в Сарове. Послушником он жил в другом месте, и там, где стояла его тогдашняя келья и где явилась ему, послушнику Прохору, Пресвятая Богородица, чтобы исцелить его от трехлетнего тяжкого недуга, вскоре после того была воздвигнута больничная церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких.

Явление Божией Матери преподобному Серафиму (бывшему еще послушником) во время его болезни. Литография 1885 г.
В последней своей келье он проводил в разные эпохи разный образ жизни. Был он тут затворником. Тогда единственно, что держал он в ей келье, была икона с горящей лампадой и обрубок пня вместо стула.

XII

Больничная церковь во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких, построенная на месте кельи отца Серафима, где он был чудесным образом исцелен Божией Матерью. Фото начала XX в.
В келье лежала охапка дров для печи, никогда не топившейся. Сквозь закрытую дверь было слышно, как он вслух читает Священное Писание и вслух же толкует его себе. Некоторые, подходя к двери, внимали ему. В праздник ему приносили в эту келью Святые Дары, и он приобщался. После пятилетнего затвора он открыл двери кельи, к нему всякий мог войти, а он, продолжая свои занятия, не отвечал на вопросы; еще через пять лет он начал беседовать.
Во время старчества отца Серафима келья имела такой вид. Главным украшением ее была келейная немалых размеров икона Богоматери «Умиление»16, которую он называл «Всех радостей Радость», и другие иконы. Некоторые иноки бывали свидетелями того, как по слову старца лампады пред иконами сами собой зажигались. У передней стены была простая скамья с камнем в изголовье вместо подушки. У двери охапка дров, на которых он иногда, как на ложе менее удобном, чем скамья, ложился для отдыха. Вся келья его была завалена разными предметами в мешках и лежащими просто, которые ему по усердию приносили, и, между прочим, штуками крестьянских холстов. Впереди келья была заставлена большими бутылями и бутылками с елеем и святой водой и с церковным вином в бочонках. Все это он держал для раздачи богомольцам. Келья была вообще так загромождена, что оставался едва маленький и узкий ход от двери к образам. И в двух медных круглых, вроде подносов с местечками для свеч, подсвечниках горели у него сотни свеч, от которых в тесной келье была постоянно сильная жара.
Замечателен повод, по которому он теплил у себя столько огней – лампад и свеч. Он объяснил это одному из своих посетителей так: «Как вам известно, у меня много особ, усердствующих ко мне и благотворящих сестрам дивеевским. Они приносят мне елей и свечи и просят помолиться за них. Вот когда я читаю правило свое, то поминаю их сначала единожды. А как я не смогу повторять их на каждом месте правила, то и ставлю за них эти свечи в жертву Богу – за каждого по свече; за иных – за несколько человек одну большую. И, где следует, не называя имен, говорю: “Господи, помяни всех тех людей, рабов Твоих, за их же души возжег Тебе аз, убогий, сии свечи и кандила”. Это не моя, убогого Серафима, человеческая выдумка или, так, простое мое усердие, ни на чем божественном не основанное. Моисей Боговидец слышал глас Господа: “Моисее, Моисее, рцы брату твоему Аарону, да возжигает предо Мною кандила во дни и в нощи: сия бо угодно есть предо Мною и жертва благоприятна Ми есть"» (см.: Исх. 30, 1, 7–8; Лев. 24, 1–2).
Отец Серафим по этим свечам необыкновенным образом знал, кому грозит опасность греха. «Если кто имеет веру ко мне, убогому Серафиму, – говорил он, – то у меня за сего человека горит свеча пред святой иконою. И, если свечка падала, это было для меня знамением, что человек тот пал в смертный грех. Тогда я преклоняю свои колена за него пред благоутробием Божиим».
Вы стоите в безмолвной келье, окруженные смотрящими на вас со всех сторон его изображениями. Из окна в келью глядится вольный, просторный, чисто русский вид. Тихо потрескивают горящие пред иконою свечи, и вам странно-странно тут. Сколько чувств вместилось в тесном пространстве этой кельи, какие изумительные здесь происходили встречи старца со стремившимися к нему издалека людьми.
Вот приехала в Саров молодая вдова помещица Анна Петровна Еропкина. До свадьбы было ей видение: какой-то неизвестный ей старец, подойдя к ее постели, произнес за нею: «Напрасно идет она замуж. Много, много два или три месяца проживет ее муж. Каково же ей будет попасть из сирот во вдовы – ведь это все равно, что из огня да в полымя». В феврале 1829 года она обвенчалась со страстно, безумно любимым ею женихом, а в мае схоронила его. И разлука убивала ее, и мысль, что она не предложила ему пред смертью приобщиться, боясь расстроить его, и что он умер без напутствия. В горе своем она доходила до какого-то исступления, так что родные учредили над нею надзор, чтоб она не наложила на себя рук. Узнав о существовании отца Серафима и необыкновенной духовной силе этого человека, родные уговорили ее немедля ехать в Саров, хотя путь предстоял пятьсот верст, и на обратной дороге Еропкину должна была застать весенняя распутица.
Мы уже приводили описание того, как вошла она к старцу. Когда старец произнес над нею слова: «Приобщается раба Божия Анна благодати Божией», – можно судить о ее удивлении, что этот, не могший ничего знать о ней, человек называет ее по имени. Что же почувствовала она, когда, подняв на него глаза, узнала в стоявшем пред нею отце Серафиме того таинственного старца ее видения, который за год до того, прежде ее свадьбы, произнес над нею пророчество о ее вдовстве?
Но в ту же минуту ее оттеснили от старца, и она очутилась в сенях. Там, взобравшись на поленья, она поверх народа чрез дверь стала смотреть на старца, в котором все: ангельский вид его, кротость в обращении, показывало явление необыкновенное. Она не спускала глаз с него. Чрез некоторое время старец стал выпроваживать всех из своей кельи, а Еропкину внезапно взял за руку, ввел к себе и, прежде чем она успела произнести что-нибудь, сказал ей: «Что, сокровище мое, ты ко мне, убогому, приехала? Знаю, скорбь твоя очень велика. Но Господь поможет перенести ее». Старец советовал ей исповедаться и приобщиться в Сарове, а о судьбе ее мужа, прежде чем она заговорила о том, первый сказал: «Не сокрушайся, радость моя, не думай, что только из-за того одного погибнет душа его, что он пред смертью не был приобщен. Бывает иногда так: здесь, на земле, и приобщается, а у Господа остается неприобщенным. Другой же хочет приобщиться, но почему-нибудь не исполнится его желание, совершенно от него независимо. Такой невидимым образом сподобляется причастия чрез Ангела Божия».
Старец дал вдове наставление, как молиться за мужа. О пути ее сказал: «Бог даст тебе дорожку: снежок выпадет на пол-аршина17, и ты лучше доедешь, чем приехала». И действительно 17 марта выпал густой снег, исправивший дороги. Приехав домой и исполняя все, что советовал ей старец, Еропкина совершенно переродилась. Точно бремя свалилось с нее. На душу сошел покой.
Вот к старцу приехала за триста верст в 1831 году пензенская дворянка Беляева, изнемогавшая от жизненного горя. Пошла она к келье старца, но народу было так много, что подойти к нему было впору лишь сильному мужчине. Она стала поодаль; как вдруг старец чрез народ пошел к ней, махая ей рукой и говоря: «Гряди сюда, раба Божия!» Благословил ее старец, посмотрел на нее и говорит: «Тяжело тебе, раба Божия! Какое горе! Гряди за мной!» – и повел ее к себе в келью. Там он усадил ее на отрубок дерева и стал кормить из деревянной чашки хлебом, размоченным в воде.
Но она не услыхала от старца предвещания перемены в судьбе ее. Он говорил ей лишь о терпении, напоминал о Иове Многострадальном и повторял: «Иовово терпение помни, раба Божия, Иовово терпение – и награду небесную за терпение. Господь дает за это награду большую». И всю жизнь одно горе за другим, не давая ей отдыху, обрушивалось на ее голову. И, задыхаясь от горя, она все терпела: как путеводная звезда светил ей образ старца, пред своим концом учившего ее терпению, и звучали ободрением его слова о небесной награде. Так была поддержана памятью о старце ее столь много испытанная вера, и, перед смертью посещенная новым тяжким несчастием, она безропотно умерла, не видав в земной жизни и тени счастья. И, умирая, говорила, что теперь отец Серафим исцеляет ее от всех ее страданий.
Вот в 1830 году молодой кавалерийский офицер Каратаев, отправляясь в польский поход, заезжает, по желанию своих родителей, к отцу Серафиму. У кельи множество народа, но старец тотчас видит его и манит к себе. С любовью и благоговейным страхом Каратаев, войдя к старцу, падает к ногам его, просит, чтоб он помолился о сохранении в походе его жизни. Старец обнимает его, крестит, потом начинает исповедовать его, говоря ему все его грехи, точно они при нем были совершены. «Не бойся, – говорит он далее, – мы хотя и грешные, но все находимся под благодатью нашего Искупителя, без воли Которого и волос с нашей головы не упадет (см.: Мф. 10, 29–30)». Говорит, что страх – это искушение диавольское; но что стоит лишь оградить себя верою и крестным знамением – и козни врага исчезнут. Слушая старца, Каратаев как бы забывает о земном существовании. Солдаты, которых он ведет с собою, также получают благословение старца, который предсказывает, что все они уцелеют. Уходя, офицер кладет старцу на свечи три рубля, и тотчас по выходе его искушает мысль: к чему старцу деньги. Искренний, он тотчас возвращается к старцу, чтоб покаяться пред ним в этой мысли. А старец, предупреждая его, говорит ему притчу: «Во время войны с галлами надлежало одному военачальнику лишиться правой руки. Но эта рука дала какому-то пустыннику три монеты на святой храм, и молитвами Святой Церкви Господь спас ее. Ты это пойми хорошенько и впредь не раскаивайся в добрых делах. Деньги твои пойдут на устроение Дивеевской общины за твое здоровье». Возвращаясь из похода, во время которого, участвуя во многих сражениях, он остался цел, Каратаев заезжает в Саровскую пустынь, но отца Серафима уже нет. Глубоко скорбит офицер, принимая эту смерть «как наказание за грехи свои». Но, когда он отслужил панихиду на могиле старца, сладостная тишина сходит на его душу. В том же году нападают на него разбойники, но он призывает на помощь отца Серафима и спасается от них.
Стоит пред старцем в 1830 году молодой офицер и просит его благословения на поступление в монахи. Прозорливый старец говорит ему: «Ты не ходи в монахи. Тебе надо бы жениться, и невеста твоя здесь. Ступай сейчас же в монастырскую гостиницу. Там найдешь мать и дочь. Вот эта дочь-то и есть твоя невеста. А от меня ты им скажи, чтоб они поскорее ко мне пришли».
Слишком верит молодой человек старцу, чтоб возражать ему, и покорно идет в гостиницу, но ни там, ни в монастыре матери с дочерью среди людей его круга не оказывается. В раздумье, выйдя из ограды, он направляется по дороге. Видит: идет дорожная карета и в ней две дамы; одна из них очень молодая. Офицер повертывает за этой каретой назад к Сарову. Там в гостинице от их людей он узнает, что это мать с дочерью. Предполагая, что о них именно и говорил ему старец, он решается войти к ним, чтоб передать им приказание старца и вместе взглянуть на будущую невесту. Об указании старца он ничего им не говорит, а только передает им его приглашение. Они изумлены не столько тем, что старец зовет их чрез незнакомого им человека, столько тем, что он знал об их приезде. Но они беспрекословно отправляются в келью отца Серафима в сопровождении своего незнакомца проводника. Приветливо благословляет старец своих гостей, затем берет руки офицера и молодой девушки и, соединяя их, произносит: «Господь вас благословит». А матери говорит: «Это жених твоей дочери». Глубоко поражены все трое... Чуть опомнившись, мать говорит, что ведь они совсем не знают этого человека, что они этого не ожидали. А старец, перебивая ее, решительно утверждает: «Я тебе по Боге говорю, что это жених твоей дочери и Бог благословит их».
Они не смеют возражать больше по своей великой вере в отца Серафима. Старец советует им возвратиться с этим офицером в их деревню, где вскоре мать скоропостижно умирает, оставляя дочь вполне обеспеченною на всю жизнь, но одинокою. И дочь выходит замуж за предуказанного ей старцем человека, ожидая с убеждением, что будет счастлива. Действительно, они пользуются полным благополучием, и, так как их имение недалеко от Сарова, они, пока старец жив, часто ездят к нему, советуясь с ним, как с любящим отцом, о всех даже мелочах своей жизни.
Вот в 1832 году приехали в Саров сестры Лодыженские с братом-офицером, уже в чинах, которому дано ответственное поручение сопроводить в Китай духовную миссию. Когда-то, в турецкую кампанию, он был ранен в левую руку, и теперь боль возобновилась. По дороге в Китай он остановился в Нижнем, где в монастыре была у них бабушка игуменией, а сестры, приехавшие для свидания с ним в Нижний из Пензы, стали убеждать его съездить к отцу Серафиму, принять благословение на такой длинный путь. Лодыженскому не хотелось ехать в Саров. Со снисходительностью мужчины к преувеличению женских россказней он слушал восторженные повествования сестер об отце Серафиме и говорил: «Я верую, что он хорошей жизни. Но вы не преувеличиваете?» Он согласился ехать только для того, чтоб сделать приятное сестрам пред разлукою с ними. Накануне отъезда в Саров между братом и сестрами вышел спор. Они называли многие иконы чудотворными, а брат находил, что это суеверие и что все иконы одинаковы. Когда они приехали в Саров, Лодыженский увидал старца раньше сестер, взойдя в алтарь. Когда он вернулся в гостиницу, он рассказал им, что отец Серафим сотворил над ним чудо. «Пока я передавал, – говорил он, – отцу Серафиму то, что поручили мне бабушка и преосвященный Нижегородский, он взял меня за больную руку и так крепко сжал ее, что я только от стыда не вскричал, но теперь не ощущаю в руке никакой боли».
В тот же день Лодыженский беседовал продолжительно со старцем и сказал потом сестрам: «Теперь я совершенно убежден в святости и прозорливости этого дивного мужа. Все, что вы о нем говорили – истина».
Когда Лодыженский просил у старца благословения на длинный путь, старец сказал ему: «Что, батюшка, мое грешное благословение. Проси себе помощи у Царицы Небесной. Вот в теплом у нас соборе икона “Живоносный Источник”. Отслужи ей молебен. Ведь она чудотворная». Потом старец с тонкою улыбкою продолжал: «Читал ли ты, батюшка, житие Иоанникия Великого? Я советую прочесть. Это был военный, весьма добрый и

Внутреннее убранство храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник». Фото начала XXв.
хороший человек, и сначала не то чтоб он не был христианин: он веровал в Господа, но в иконах-то заблуждался так же, как и ты». При этом старец показал рукою на Лодыженского, сильно удивленного этим, так как он знал, что сестры еще не успели рассказать старцу о мнении насчет икон их брата.
Немедленно Лодыженский пожелал отслужить молебен, потом у знакомого сестрам иеромонаха Лодыженский выпросил житие Иоанникия Великого и нашел там, что действительно Иоанникий был военный, добрый, веровал в Господа, но заблуждался относительно святых икон, пока не нашел старца, подобного отцу Серафиму, который спас его от заблуждения.
В эту же беседу старец открыл Лодыженскому его сердечную тайну и благословил ему жениться на особе, о которой он думал.

Чудотворный образ Божией Матери, именуемый «Живоносный Источник»
Пришел к старцу раньше бывавший у него генерал-майор Павел Яковлевич Куприянов и благодарил за спасение свое во время турецкой войны. Он был окружен со своим полком со всех сторон турками. Ни укрепиться, ни двинуться назад, ни вперед было невозможно. В этом отчаянном положении генерал твердил молитву: «Господи, помилуй молитвами старца Серафима», ел сухари, данные ему старцем на благословение, и остался невредим.
– Великое средство ко спасению – вера, – отвечает ему старец, – а особенно непрестанная сердечная молитва. Пример нам – святой пророк Моисей. Он, ходя в полках, безмолвно молился сердцем. И Господь сказал ему: «Моисей, Моисей, что вопивши ко Мне (ср.: Исх. 14, 15)?» Вот что есть молитва: это непобедимая победа!
Привозит к старцу княгиня Е. С. Ш. больного племянника из Петербурга, Г. Я. Я. Молодой человек был так слаб, что не мог идти сам. Его на кровати внесли в монастырскую ограду. Отец Серафим, хотя никем предупрежден не был, стоял у дверей своей кельи, ожидая больного. Он велел внести его к себе, запер дверь и сказал ему: «Ты, моя радость, молись. И я за тебя буду молиться. Только смотри: лежи, как лежишь, а в другую сторону не оборачивайся». Долго лежал больной, повернувшись лицом к стене, спиною к старцу. Наконец это ему надоело, и очень захотелось взглянуть, как молится старец. Оглянулся он тихонько и видит, что старец в молитвенном положении стоит на воздухе*. Это зрелище было так поразительно, что Я. вскрикнул от неожиданности и ужаса. Окончив молитву, старец подошел к нему и сказал: «Вот ты теперь всем будешь толковать, что Серафим на воздухе молится. Господь тебя помилует. А ты огради себя молчанием и не поведай сего никому до дня преставления моего, – иначе болезнь твоя вернется». 18
Я. встал здоровым тут же, в келье старца. Он сам на своих ногах, хотя и поддерживаемый своими людьми, вышел из кельи. В гостинице, где видели, каким понесли его к старцу, его осыпали вопросами, что сделал с ним отец Серафим, что он стал вдруг здоров. Но он на все расспросы не ответил ни слова, и это всех удивило.
Он поехал в Петербург. А когда снова был в имении, узнал, что отец Серафим уже отошел в вечность. Тогда-то он, кончиною старца разрешенный от запрещения говорить о чуде, поведал о необыкновенном молении старца Серафима, которого был свидетелем.
...Эти случаи и множество других, о которых я читал и которые врезались в мою память, со всех сторон обступали меня в этой чудной священной келье. Я точно слышал этот гул народный, чрез сени доносящийся сюда, гул толпы, окружавшей крылечко, ведущее к келье. Я точно видел эти страстные взоры ожидания, надежды, я видел выражавшееся в них изумление, когда, наконец, они стояли воочию пред этим желанным человеком, «дивясь, что такой человек живет в нынешнее время и что они его видят!»
До меня доносился этот кроткий старческий голос, любовные слова: «Сокровище мое!», «Радость моя!» И мне словно блестел в этой келье прозорливый взгляд, которому было одинаково открыто прошлое и будущее. Пред которым время отдернуло ту завесу, какою скрыто оно от всех людей.
И я стоял, неподвижный и безмолвный.
Да, «это все здесь».
XIII
Но что люди с их чувствами, что исцеления самые великие, когда само небо спускалось сюда, в эту бедную и тесную келью «убогого Серафима».
Свято место это не только тем, что порог кельи истерт ногами святого, но потому, что однажды переступили его стопы Царицы Небесной.
То было в день Благовещения 1831 года, за 1 год и 9 месяцев до его преставления.
Он знал о том, что Владычица мира собирается посетить его, и это было не первым Ее посещением Своего избранника, но славнейшим из всех, и если раньше то было скорее лишь видение, теперь это было наяву.
Старец призвал к себе пред тем одну монахиню. Несомненно, на то была воля Божия, чтоб сохранились все подробности этого необыкновенного события. Он предварил монахиню, что «ныне будет нам дивное посещение», долго молился и не раз ей повторил «не убойся».
И настал славный час. Упав на колени и протягивая руки навстречу дивному спускавшемуся к нему шествию, старец произнес: «Се Пречистая, Преславная Владычица, Преблагословенная Богородица грядет к нам».
Сделался шум, как лес шумит от большого ветра. Когда он утих, послышалось пение, подобное церковному. Келья как бы расширилась. Верх ее наполнился огнями, как блестящими свечами. Заблистало сияние, ярче дня, светлее и белее солнца. Благоухание наполнило келью, дверь в ней сама растворилась. И старец, стоя на коленях,

Явление Пресвятой Богородицы старцу Серафиму в день Благовещения. Литография XIX в.
с трепетом ждал Небесной Гостьи. И Она снизошла.
Впереди всех явились два Ангела с золотистыми волосами. Они держали в руках ветви, усаженные только что расцветшими цветами. За ними шли святые Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов, в белых блистающих одеждах. За ними, как солнце за зарей, показалась Преблагословенная Матерь Господа. На Владычице была мантия, как пишут на образе «Скорбящей Божией Матери»19, – мантия несказанной красоты. Мантия была застегнута камнем, выложенным крестами. Также крестами были убраны поручи на руках Пречистой и епитрахиль, наложенная сверх платья и мантии. На главе Царицы Небесной сияла в крестах корона. Глаз не выносил света, озарявшего лик Богоматери. Владычица казалась выше всех дев. Девы шли за Нею попарно, в венцах, и были разного вида, но все великой красоты...
Потрясенная видом этого неба, сошедшего на землю, инокиня потеряла сознание.
Когда она пришла в себя, старец Серафим стоял уже не на коленях, а на ногах пред Пресвятою Богородицею, и Она говорила с ним, как с родным человеком. Девы сказали инокине свои имена и страдание свое за Христа. То были великомученицы Варвара и Екатерина, Марина и царица Ирина, Пелагия, Дорофея и Иулиания, первомученица Фекла, преподобная Евпраксия и Макрина, мученицы Анисия и Иустиния.
Инокиня слышала, как Владычица сказала отцу Серафиму:
– Не оставь дев Моих дивеевских!
– Владычица, – отвечал старец, – я собираю их, но сам собою не могу их управить.
– Я тебе, любимиче Мой, во всем помогу, – сказала тогда Владычица. – Кто обидит их, тот поражен будет от Меня. Кто послужит им ради Господа, тот помяновен будет пред Господом.
Благословляя старца, Пресвятая Богородица произнесла: «Скоро, любимиче Мой, будешь с нами!»
Настал и вожделенный для старца день преставления его.
Многим он говорил, что смерть его близка: «Жизнь моя сокращается, и я близок к последним минутам. Телом я уже совершенно мертв, но духом благодати Божией как бы сейчас родился».
Одному иноку, очень его любившему, он подал зажженную свечу и велел дунуть на нее. Свеча угасла.
– Вот так, – сказал старец, – угаснет и жизнь моя, и больше меня не увидят.
Поняв, что старец предвещает близость конца, инок заплакал. Но старец со светлым и радостным выражением лица сказал ему: «Радость моя, теперь время не скорби, но радости. Если я стяжу дерзновение у Господа, то повергнусь за вас пред Престолом Божиим».
Первый день Нового года – 1 января 1833 года пришелся на воскресенье. Старец пришел к ранней обедне в памятный ему храм Соловецких чудотворцев, стоявший на том месте, где некогда была его послушническая келья и где явлением Своим его исцелила Пресвятая Дева. Чего раньше он никогда не делал, он приложился ко всем образам, пред всеми ставил свечи. В нем заметили крайнее изнеможение телесное, но он был духом бодр и радостен и, прощаясь после обедни с братиею, говорил: «Мужайтесь, бодрствуйте, днесь нам венцы готовятся!»
И в этой самой келье провел он весь последний день своей жизни. Под вечер сосед его, отец Павел, слышал, как он громко пел разные победные пасхальные песни. В шестом часу 2 января отец Павел, собираясь к ранней обедне, ощутил в общих его с отцом Серафимом сенях запах гари: шел дым из дверей кельи старца.
Не раз отец Павел, видя, что старец, уходя в церковь или пустыньку, не гасит горевших у него свечей, предупреждал его, что так может сделаться пожар. Но старец отвечал ему, что при жизни его пожара не будет, а смерть его обнаружится пожаром.
Отец Павел постучался к старцу, но ответа не было, а дверь была заперта изнутри. Выйдя на крыльцо, отец Павел остановил шедших мимо монахов и рассказал им свои опасения насчет пожара. Кучка монахов вошла в сени, и один из послушников, сильно рванув дверь, сорвал внутренний крючок, и дверь отворилась; у самой двери тлел сложенный там холст, загоревшись, видимо, от свечи, выпавшей из подсвечника, который стоял тут же. На лопате принесли снега и затушили огонь. В келье было темно. Думали, что старец спит, и не смели пройти внутрь кельи, толпясь у порога. Между тем в церкви Соловецких чудотворцев, где шла ранняя обедня, стало известно, что в келье отца Серафима что-то неладно, и часть братии, стоявшей за обеднею, поспешила к келье. Стали ощупью искать отца Серафима. Он стоял на коленях пред келейною своею иконою Богоматери «Умиление» в белом балахоне, с медным крестом, материнским благословением, на груди.

Блаженная кончина преподобного Серафима. Литография XIX в.
Руки его были сложены на груди крестообразно, глаза сомкнуты; на лице торжественное выражение богомыслия и покоя. Еще не смели думать, что душа его отлетела, но он не откликался, тело его уже ничего не чувствовало...
XIV
Обыкновенно в келье отца Серафима служили панихиды, которые оканчивали на его могиле.
В то самое время, как я был в Сарове, собирались заложить храм на месте того корпуса, где помещалась келья старца. Все должны были снести, кроме стен самой кельи – так, чтоб она помещалась внутри храма.
Не осматривая пока Саровских церквей, я поспешил в ближнюю пустыньку, которую мне особенно хотелось поскорее увидеть. Все последние годы своей жизни он ранним утром уходил в пустыньку, а вечером возвращался домой.
Господи, в каком страдальческом положении он был! Когда-то давно, во время работ по сплаву леса в Саровских дачах, на него упало бревно, придавило его. Тогда согнулся его прямой, стройный стан. Потом, когда он отшельничествовал в дальней пустыньке, на него напали разбойники и избили так, что доктора изумлялись, как он жив. Его исцелила явлением Своим Богоматерь, но он остался согбенным до конца дней. На ногах его были постоянные раны, никогда не проходившие, которые он нажил долговременным стоянием в церкви и на молитве и которые особенно усилились после тысяченощного и тысячедневного стояния его на камне. Еще у него на теле была страшная болезненная рана, происхождение которой следующее.
Одна совершенно несчастная, потерянная душа была как бы в когтях у самого сатаны. И вот эту погибшую душу отец Серафим стал вымаливать у Бога. И имел он утешение видеть, как она в виде белоснежно чистой голубицы вылетела из когтей сатаны. Но темное полчище не простило ему такого посрамления и в своей злобе поразило его страшною язвою. Она была на спине старца между лопатками и не проходила до смерти, с нею лег он и в могилу.

Старец Серафим Саровский. Гравюра XIX в.
Вначале ощущение ее было так же болезненно, как если бы палец положить в горящую свечу так, чтоб он горел, но никогда не сгорал. «Если бы не Господь и Царица Небесная, – говорил старец, – исцелили меня, то никто не мог бы уже исцелить».
И этот изнуренный старец, доведший свой пост до небывалой почти строгости, когда-то в пустыни около трех лет питавшийся лишь отваром травы снитки, весь израненный, лишавший себя сна, этот жестокий к себе старец носил еще на себе для удручения себя котомку, набитую камнями и песком, и когда его спрашивали о том, зачем он это делает, отвечал: «Томлю томящего мя!» Потому что жизнь его вся была ежечасной борьбой с духом злобы. И если так велики, так почти беспримерны дары отца Серафима, то куплены они страшно дорогою ценой и жизнию, ежеминутным понуждением себя. Вымучены из души отца Серафима его слова о монашестве: «Как на войну не ходят без оружия, так и в монахи незачем идти без молитвы и терпения. Жизнь монаха от начала вступления и до последнего издыхания есть страшная и ужасная борьба с миром, плотию и диаволом. Не монах тот, кто любит лежать на боку, не монах тот, кто во время войны от малодушия падает на землю и предается без боли в плен врагу».
И я шел теперь по той самой дороге, по которой ходил он, изнуренный, усталый, с тяжестью на себе стольких возложенных на него доверием людским «бремен неудобоносимых», но в то же время светлый и радостный. Справа этого пути, за невысоким уклоном, течет речка Саровка, слева, возвышаясь над дорогой, сплошная стена старого соснового бора, охватившего Саров отовсюду кольцом.
Вероятно, под этими старыми соснами ждали его люди, желавшие поближе, без тесноты поглядеть, как «трудится старец». Многие из них и просьб никаких не имели, а желали только усладиться видом этого ангела Божия и, проводив его глазами, молча стояли, задумавшись, со слезами умиления. Да, блаженны были очи их, что видят то, что они видали!

Старец Серафим в ближней пустыньке у своего колодца. Литография XIX в.
Когда он шел тут, то в белом балахоне, то прикрытый кожею, обутый в бахилы – кожаные чулки, опираясь на палку или мотыку, невольно встречным вспоминались апостольские слова о тех, иже проидоша в милотех и в козиях кожах, в пустынех скитающиеся, скорбяще, озлоблени (ср.: Евр. 11,37, 38).
Когда старец подходил к своей пустыньке, там его обыкновенно уже ждало много народа.
Но что за место это пустынька? В 1825 году, в конце ноября, значит, за 7 лет до смерти, старец, по приказанию Пресвятой Богородицы, вышел из своего затвора. Его здоровье, изнуренное трудами, затвором, постоянным напряжением всех сил духовных и телесных, требовало свежего воздуха и движения. И он стал ежедневно ходить на место верстах в двух от монастыря на высоком берегу Саровки.

Подлинная келья из ближней пустыньки, перевезенная в Дивеево и помещённая внутри постройки-футляра. Фото начала XX в.
Там издавна существовал родник, неизвестно кем вырытый и по стоявшей близ него на столбике иконе святого Иоанна Богослова называвшийся Богословским. В некотором отдалении от родника была келья отшельника Дорофея, который скончался незадолго до выхода отца Серафима из затвора, в сентябре 1825 года.
Отец Серафим раньше, во время своей отшельнической жизни в дальней пустыньке, любил хаживать на это место. Когда, после явления ему Богоматери, он лесною чащею пробирался на это место прежних своих подвигов, в дальнюю пустыньку, то недалеко от берега Саровки, где тогда была трясина, увидал Богоматерь, а поодаль Ее апостолов Петра и Иоанна Богослова. Богоматерь ударила жезлом землю, так что из нее вскипел фонтаном источник воды, и вода этого источника получила целебность и благословение.

Ближняя пустынька (реконструкция). Фото начала XX в.
Впоследствии источник был обделан, в виде колодца, деревянным срубом и получил название источника отца Серафима. Источник этот совершенно другой и отдельный от невдалеке доныне существующего Богословского источника.
Сперва старец, работая у Богословского источника, унизывая его дно каменьями, обрабатывая гряды, которые он устроил неподалеку, отдыхал от полуденного зноя в келье Дорофея. Но потом, так как по слабости его ему затруднительно было ходить за одну четверть версты, ему поставили тут же, близ берега, небольшой сруб без окон и двери. Проникал же старец внутрь сруба, подлезая в оставленное в одном месте между стеной и землей отверстие. Здесь старец и отдыхал от дневного зноя. Потом же была поставлена новая келья, с дверями, но без окон.
На том месте, где стояла келья старца, поставлено теперь точное воспроизведение ее. Сама же келья находится в Дивеевском монастыре.
И тут происходили встречи, запечатлевавшиеся в душе как лучшее воспоминание всей жизни. И здесь было как бы поле, на котором в несравненной красоте расцветало действо даров старца. Вот одна из обычных встреч.
«Мы нашли старца на работе. Он разбивал мотыкою грядку. Когда мы подошли к нему и поклонились до земли, он благословил нас и, возложив руки мне на голову, прочел тропарь Успению “В Рождестве девство сохранила еси”... Потом он сел на грядку и приказал нам тоже сесть, но мы невольно встали пред ним на колени и слушали его беседу о будущей жизни, о жизни святых, о заступлении, предстательстве и попечении о нас грешных Владычицы нашей Богородицы и о том, что необходимо нам в здешней жизни для вечности. Эта беседа продолжалась не более часа, но этого часа я не сравню со всею моею прошлою жизнию. Во все продолжение беседы я чувствовал в сердце неизъяснимую небесную сладость, Бог весть каким образом туда переливавшуюся, которой нельзя сравнить ни с чем на земле и о которой я не могу вспомнить без слез умиления и живейшей радости во всем существе моем. Отец Серафим мне, доселе равнодушному к вере, дал живо почувствовать все милосердие Творца и Его всемогущество и всесовершенство».
И тут, в этой ближней пустыньке, также беседа старца «снимала, – по выражению многих, – завесу с их глаз, открывая чудную область духовную. И так же, как раньше, светила здесь его неизъяснимо радостная улыбка».
Вот одна из нередко, конечно, повторявшихся сцен, описанная посетительницею Сарова.
«Приехав в Саров, немедля, как лань, бросилась в лес, узнав, что он в пустыньке. Подбегаю к ней: кругом народ. Спрашиваю кого-то: “Где отец Серафим?” Мне указывают на речку и говорят: “Вот он там!” И я только с напряженным вниманием могла рассмотреть, что он копошится в воде, вынимает оттуда крупный булыжник и после, выйдя из воды, тащит его на берег. В эту минуту я сквозь народ пробралась к нему, и лишь только он заметил меня, то с веселым лицом мне сказал: “Что, сокровище мое? Приехала? Господь благословит тебя! Погости у нас”. Вскоре он стал отсылать меня и весь народ в монастырь, приказывая поторопиться туда, но никому не хотелось с ним расстаться – всем было желательно еще понаглядеться на него и услышать от него что-нибудь на пользу души. К тому же день был прекрасный, погода стояла ясная. А вышло, что надо бы было сразу послушаться старца.
Промешкав в лесу, когда мы все потянулись длинною беспрерывною вереницею к монастырским гостиницам на свои ночные квартиры, набежала страшная туча. Раскаты грома с молнией были чрезвычайно сильны и много нас напугали, а от проливного дождя ни на ком из нас не осталось сухой нитки. На другой день, когда я пришла к отцу Серафиму, он принял меня очень милостиво и с ангельскою улыбкою сказал мне: “Что, сокровище мое, каков дождик, какова гроза? Ведь я тебя заранее посылал от себя. Послушалась бы – и не попала бы под них”».
Здесь же, у ближней пустыньки, произошло одно из великих чудес старца, получившее громкую огласку: исцеление помещика Николая Александровича Мотовилова, ставшего преданнейшим ему человеком и по кончине его много потрудившегося в деле устроения Дивеевской общины.
В сентябре 1831 года был привезен в Саров больной помещик Нижегородской и Симбирской губерний Николай Александрович Мотовилов, выпускник Казанского университета, совестный судья и почетный смотритель училищ Корсунского уезда, тогда молодой человек 22 лет. Он страдал, как сам письменно засвидетельствовал, «тяжкими и неимоверными великими ревматическими и другими болезнями, с расслаблением всего тела и отнятием ног, скорченных и в коленках распухших и с язвами пролежней на спине и боках, коими страдал неисцельно более трех лет». Казанские медицинские знаменитости пользовали его тремя родами лечения – аллопатией, гомеопатией и серными водами, не принеся ему ни малейшего облегчения. Слыша необыкновенные рассказы о чудесах Саровского иеромонаха Серафима, больной из своего нижегородского имения приказал везти себя в Саров, где дважды виделся со старцем и беседовал с ним. На третий раз его привезли к старцу в ближнюю пустыньку. Четверо его людей понесли его на руках, пятый поддерживал ему голову. Он описал старцу страдания свои, всю бесплодность лечения и умолял его исцелить. Тогда старец спросил его, верует ли он во Христа, что Он есть Сын Божий, и в Пречистую Матерь Его, что Она Приснодева.

Николай Александрович Мотовилов. Фотография 2-й половины XIX в.
– Верую, – твердо отвечал больной.
– А веруешь ли, – продолжал старец, – что Господь, как прежде исцелял больных одним словом или прикосновением руки Своей, также легко и ныне может исцелять все недуги тех, кто требует Его помощи, может исцелить и тебя?
– Верую всем сердцем и душою, – отвечал больной, – а если б не веровал, то и не велел бы везти себя к вам.
Тогда совершилось чудо. Старец со властью произнес:
– А если веруете, то вы уже здоровы.
– Как здоров, когда вы и люди держите меня на руках!
– Нет, – сказал старец, – вы совершенно всем телом вашим теперь уже здравы вконец.
Старец приказал людям, державшим Мотовилова, отойти от него. А сам взял его за плечи, приподнял от земли, поставил на ноги и сказал: «Крепче стойте, тверже утверждайтесь ими на земле. Не робейте, вы совершенно здоровы теперь».
Но Мотовилов не смел так скоро поверить своему счастью и настойчиво отвечал: «Поневоле хорошо стою, потому что вы хорошо и крепко держите меня».
Старец отнял руки и сказал: «Ну вот, я теперь уже не держу вас. А вы и без меня все же крепко стоите. Идите же смело, батюшка мой. Господь исцелил вас. Идите же и трогайтесь с места». И, взяв Мотовилова одною рукою за руки, а другою подталкивая его немного в плечи, старец повел его по траве и по неровной в этом месте земле, говоря: «Вот, как хорошо пошел!»
– Да, – отвечал Мотовилов, – потому что вы хорошо меня вести изволите.
Старец отнял свою руку.
– Нет, – сказал он, – Сам Господь благоволит совершенно исцелить вас и Сама Божия Матерь Его о том упросила. Вы и без меня теперь пойдете и всегда будете хорошо ходить. Идите же.
И старец подталкивал Мотовилова, чтоб он шел.
Слишком велико было чудо, и исцеленный все не мог верить в свое счастье.
– Да этак упаду я и ушибусь, – возразил он старцу.
– Нет, не ушибетесь, а твердо пойдете.
Тогда Мотовилов почувствовал какую-то свыше осенившую его силу, приободрился немного и пошел твердо. Но тут старец его вдруг остановил и сказал: «Теперь довольно. Что, теперь удостоверились вы, что Господь вас действительно исцелил совершенно? Он отъял беззакония ваши и очистил грехи ваши. Видите, какое Он чудо сотворил с вами ныне. Веруйте же несомненно в Него, Христа Спасителя нашего»...
Потом старец прибавил: «Ваше трехлетнее страдание вас тяжко изнурило. Поэтому не ходите теперь вдруг помногу, а постепенно. И берегите здоровье ваше, как драгоценный дар Божий».
Когда старец отпустил Мотовилова, его людей уже не было с ним. Они вместе с другими богомольцами, свидетелями чуда, бросились бежать в монастырь, чтоб поскорее рассказать там о дивном деле старца Серафима.
Мотовилов сам один уселся в экипаж, в котором, когда он ехал к этому месту исцеления, его поддерживало пятеро человек, и, твердо сидя в нем, никем не поддерживаемый, возвратился в монастырь. Когда подъехал к гостинице, игумен, казначей и двенадцать человек старшей братии встретили его с поздравлениями.
И после этого благодатного исцеления восемь месяцев Мотовилов чувствовал такой прилив сил, такое обновление всего существа, каких не испытывал во всю свою жизнь.
XV
Начинало уже смеркаться, когда я подошел к источнику отца Серафима. Самый водоем–колодец находится в просторной часовне, и, бросая вглубь бадейку на веревке, можно доставать воду. Вода страшно холодна, как ледяная. Но еще ни один человек не простудился тут, даже употребляя воду при болезнях, которые боятся вообще воды.
Читая о бездне исцелений самых поразительных, от этой воды происшедших, и поминая притом пророчественное слово старца одной личности: «Я молился, радость моя, дабы вода сия в колодце была целительной от болезней», невольно говоришь себе, что здесь действительно что-то более сильное, чем знаменитая древняя Вифезда.
Стоя в этой часовне, я невольно вспоминал в разное время читанные мною описания исцелений, о которых я никогда не мог слышать без глубокого волнения.
Нижегородский помещик Д.А. Астафьев под старость лишается зрения. Раньше он не чувствовал свет. Чтение духовных книг делало его как бы юным. С потерею зрения сократилась и духовная его жизнь. Он послал нарочного к двоюродной сестре своей, госпоже Болтиной, прося ее пожалеть его. Та тотчас прислала ему воды из источника отца Серафима, всегда находившейся у нее в доме. С верою приняв подарок, Астафьев поступил по совету сестры. Чистое полотенце он намочил этой водой и приложил к своим глазам, произнося: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами угодника Твоего Серафима исцели меня». Трижды повторял он это отирание глаз, всякий раз видя яснее. После третьего раза он мог уже читать. Счастливый, изумленный внезапным исцелением, он поспешил в Саров на могилу старца и, до конца дней пользуясь зрением, благотворил Дивееву.

Часовня над источником преподобного Серафима. Фото начала XX в.
В 1848 году купец Лавров весьма неуважительно отозвался о портрете старца Серафима и был наказан за то тут же такою зубною болезнью, продолжавшейся три года, что он, обезумев от нее, по ночам бегал с громкими криками по комнатам. Лечение не помогало. Одно оставалось: «чем ушибиться – тем и лечиться». Он пошел в Саров с земляками, из них один священник. К концу пути от боли он так ослабел, что его к источнику привезли на лошадях. Сопровождавшие его, попробовав воду, объявили, что она такая студеная, что больному нечего и думать прикасаться к ней. Несмотря на уговоры товарищей, он прошел в купальню и стал раздеваться.
– Ее в рот нельзя взять, где уж тебе ею обливаться кричали ему.
– Хуже того не будет, что я сейчас чувствую, – закричал он и бросился под холодную как лед воду с криком: «Господи Иисусе Христе, молитвами отца Серафима исцели мою нестерпимую зубную боль». И только что коснулся он воды – боль его бесследно прошла и никогда более не возвращалась...
А разве можно без умиления вспомнить о двух людях, барине и мужике, в одно и то же утро получивших исцеление у этого источника и друг другу о том рассказывающих.
Шацкий помещик Пан-в, постоянно страдавший головною болью, приехал в Саров к Успению и в праздник после ранней обедни пошел к источнику. Утро было холодное, сырое, в голове он чувствовал шум и ломоту и потому не решался облить голову. Но это случилось помимо него: он поскользнулся и упал головой прямо под желоб, из которого текла эта вода. Он весь был ею облит и тут же почувствовал себя здоровым, так что без боязни еще и еще поливал голову. Здоровым направлялся он в монастырь и встретил крестьянина, который ему рассказал: «Вот, сегодня меня исцелил батюшка Серафим. У меня болела рука: распухла, затвердела и не поднималась, и я так пришел в Саров. Сегодня помочил ее два раза из источника, и рука моя стала совсем здоровою».
Сейчас же рядом с часовнею над источником находятся две купальни – мужская и женская.
Стемнело настолько, что я взял огня у монаха, находившегося при часовне, чтоб войти в купальню. Я был в ней один. По случаю позднего времени все богомольцы были уже в монастыре. Тем приятнее было мне без всякого рассеяния сознавать, что вот наконец я в том самом месте, о котором столько думал, к которому так давно стремился... И теперь доступны были мне воды этой Вифезды, которой когда-то я жаждал иметь несколько капель.
Купальня в Сарове устроена так, что в землю врыт сруб глубиною обычных купален, но не имеющий вовсе воды. В одной из боковых стенок сруба есть кран, вделанный настолько высоко, чтобы под ним уместиться на коленях. Надо, установясь под краном, самому повернуть его, и тогда на вас потечет сильная струя ледяной воды, которая обрызгает тело, от которой захватывает дыхание. Признаюсь, как я ни был привычен к холодной воде, я не без замирания сердца отвертывал кран и трижды подставлял тело под водную струю.
Но после ощущения страшного холода, когда выйдешь кверху и одеваешься, какое благодатное чувство! Точно весь переродился, чувствуешь себя, как если бы вновь стал ребенком, счастливым, невинным, доверчивым. Во всем теле какая-то необыкновенная сила, а на душе благодатно, ничего как-то не жаль, чувствуешь себя охраняемым, защищенным... Какое счастье, какая бодрость!.. Старец Серафим и теперь близок этому месту. 28 мая 1844 года многие люди неоднократно видели изображение старца, являвшееся в водах источника. Это было так отчетливо и ясно, словно старец ожил и спустился в свой источник.
Нужно было возвращаться в монастырь, и, еле различая дорогу, не боясь сбиться только потому, что она вьется все время по-над берегом, я шел удовлетворенный и радостный, еще не привыкнув к мысли, что все это не сон, что я действительно в Сарове и был на могиле, в келье старца, у его источника.
Часовня над могилой была открыта, и я вошел в нее. Как я страстно ждал, что вот, может быть, в слабом сиянии лампады покажется кто-то в белом балахончике, раздастся: «Радость моя!»...
На следующее утро я видел все церкви Саровские, из которых лучшая – великолепный Успенский собор, представляющий по внешности некоторое подобие Великой церкви Киево-Печерской лавры. Очень больших размеров, чрезвычайно высокий, он производит впечатление величавого и истово православного храма.

Успенский собор Саровской пустыни
Великолепен иконостас, чрезвычайной вышины, со множеством ярусов, точно уходящий прямо в небо; обширен и алтарь.

Большое Евангелие в серебряном окладе более 2-х пудов весу в Успенском соборе
Тут, в этом соборе, все богато и торжественно. В праздник Успения даже я, видавший немало церковных богатств, был приятно поражен церковною роскошью Сарова. У них есть Евангелие, которое по тяжести должны выносить двое. Есть великолепные массивные потиры.

Внутреннее убранство Успенского собора Саровской пустыни. Фото начала XX в.
Братия Саровская производит своим внешним видом отрадное впечатление. Они выдержанны, тихи, смиренны. Они стоят в церкви не как попало, а все в одном месте, рядами. Служба отправлялась неспешно, чинно, без пропусков.
После обедни я был у игумена и удивлен был простотою и незатейливостью его келий, что оставляло самое благоприятное впечатление. Единственным украшением были портреты настоятелей, видеть которые было очень интересно; некоторые старинной работы. Какие все выразительные, с отпечатком сильной воли, лица. Игумен приглашал остаться на их главный праздник Успения, который я думал провести в Дивееве.
От игумена я отправился мимо ближней пустыньки в дальнюю. Теперь у ближней пустыньки было сильное оживление, из купальни доносились голоса. По дорожке под Саровкой постоянно встречались люди. Дорога в дальнюю пустыньку отходит от речки Саровки, углубляясь в лес. Много не доходя пустыньки, встречаешь огороженное место, в котором лежит подобие остатка находившейся здесь скалы. На этой скале старец Серафим молился тысячу ночей.
Не вынося праведной святой жизни старца, враг вооружился на него ужаснейшим из искушений – так называемою мысленною бранью (хульные помыслы), и для отражения этого исступленного нападения врага старец предпринял великий подвиг, давно, за тяжестью его, забытый: за столпничество. Тысячу ночей молился он под открытым небом на скале, пред ним был образ Святой Троицы, и, стоя коленопреклоненно, громко взывал одни лишь слова – молитву евангельского мытаря: «Боже, милостив буди мне грешному!» А тысячу дней он стоял на другом, маленьком камне в своей пустыньке. Этим подвигом он победил врага.
После кончины старца почитатели отца Серафима мало-помалу отбивали себе маленькие куски от скалы, и от нее остался небольшой лишь камень, аршин в диаметре, хранящийся в алтаре Дивеевской Преображенской церкви. Там же хранится и другой, келейный, камень старца.
Обломки этого камня имеют целебную силу. Обыкновенно с них сливают воду и пьют ее. Старец

Часовня над камнем, на котором преподобный Серафим молился тысячу ночей. Фото начала XX в.
в явлениях своих не раз указывал на этот способ врачевания болезней. Изумительно то, что однажды другой, уже прославленный, святой указал в явлении своем на целебную силу этого камня.
Одному больному в Сибири явился во сне святитель Митрофан Воронежский и сказал ему: «Отчего ты не просишь у Бога помощи чрез старца Серафима Саровского? Он еще не прославлен на земле, но имеет великое дерзновение ко Господу. У тебя есть частица того камня, на котором он молился. Слей с него воду и пей ее и исцелишься»...
Дивный Серафим, великий Серафим!
Деревья идут сплошною стеной. Мы приближаемся к келье его к дальней пустыньке. Здесь, бывало, пробирался пустынник, от одного излюбленного места в лесу к другому20. Здесь он в летнее жаркое время, обнажившись до пояса, отдавал тело на жаление комарам и другим насекомым, здесь тяжелою стопой за привычным угощением ходили к старцу медведи.
А вот и самое место, где стояла келья, перенесенная целиком в Дивеево... Сени, небольшая комнатка, вокруг огород, и со всех сторон тот же суровый бор. Если б только эти деревья-великаны говорили, чего бы, каких дивных картин ни описали бы нам они. Но все тихо, и ничего не разобрать в их задумчивом, неуловимом шепоте.
Настал праздник Успения, была продолжительнейшая всенощная, потом в день праздника, до поздней обедни, торжественный крестный ход вокруг монастыря.
Богомольцев набралось множество, и уже во время крестного хода было тесновато.
После обедни была общая трапеза, очень обильная. Пред всяким монахом лежала на столе, на деревянной тарелке, очень большая порция икры.
После обеда я сейчас же собрался ехать в Дивеево, куда меня влекло еще больше, чем в Саров. Именно там, говорили мне, несмотря на то что отец Серафим был там чуть ли не один только раз в жизни, еще иеродиаконом, – именно там как бы пребывает его дух, что ощущают все любящие отца Серафима.

Из Дивеева в Саров. Фото М.П. Дмитриева. 1904 г.
Дух дышит, идеже хощет (ср.: Ин. 3, 8), – и нет ничего невозможного в том, что благодать святого, то невидимое и лишь тепло верующими людьми ощутимое присутствие святого бывает преимущественно среди тех, кто его особенно любит. А трудно любить и чтить больше, пламеннее, нежнее, чем чтут в Дивееве отца Серафима.
И я без боли расставался с Саровом именно потому, что был уверен, что его святые впечатления с еще большею силою возобновятся в Дивееве.
На той же тройке отдохнувших за эти дни лошадей я еду из Сарова, увозя, кроме впечатлений душевных, очень приятные воспоминания о гостеприимстве саровцев. Трапеза, чрезвычайно вкусно приготовленная (так, мне давали винегрет из простых овощей совсем гастрономический), всякие объяснения, экипаж и лошадей, если надо для поездок: все они готовы «с любовью», как по-монашески говорится, предоставить гостю...
Мы едем быстро, обгоняя кучки неспешно едущих или медленным шагом идущих богомольцев. А у меня все одно на языке, одна дума в голове: «Отец Серафим, отец Серафим, отец Серафим».
И кажется мне, что только бы помнить его в жизни, ближе быть к нему – и уже больше ничего от жизни не надо, и с этим одним можно прожить полно и счастливо.
И голова моя разгорается при соображении о том, какое это было великое, тысячелетиями едва повторяющееся явление. Какие дары!
Ведь он людям, которых никогда не видал, посылал сказать что-нибудь в ответ на тайные их, тяготившие мысли... А теперь? Он ходит как живой: то обличит, то исцелит, то, где врачи потеряют голову, явится кому-нибудь из домашних и поставит диагноз, то отпугнет воров или разбойников, то устроит денежное дело. И этот практик-помощник ведь в то же время там, в рядах избраннейших святых, и в ушах звучит слово святителя Митрофана: «Не прославлен еще на земле, но имеет великое дерзновение у Бога». И мне сладко шептать эти два слова: «Отец Серафим, отец Серафим».
Мы едем уж давно открытым местом.
– Барин, – говорит ямщик, – а это Дивеево видно.
Вдали громадный купол громадного собора.

70-я годовщина со дня блаженной кончины преподобного старца Серафима Саровского в Сарове

Часовня над могилой преподобного Серафима. Фото 1903 г.
Мне21 хотелось быть в Сарове 2 января этого года, когда исполнилось 70 лет от дня преставления дивного старца Серафима. Хотелось присутствовать на этих заупокойных богослужениях по человеку, о святости которого уже оглашено было Церковью. Хотелось, кроме того, прежде чем потянутся к нему нескончаемые вереницы богомольцев, теперь, зимою, в пустыни, отделенной от мира дальностью сурового белоснежного пути, в тиши пережить еще раз то, что было раньше там пережито.
В Петербурге ключом кипела жизнь по случаю Святок. Вечером 20 декабря мне удалось вырваться из этой веселой и блестящей суеты. И когда я наконец очутился в тишине плавно раскачивающегося от быстрого хода вагона, какое-то безмятежное счастье охватило меня, когда там, вдали, за тысячу верст, мне рисовался среди девственных снегов задумчивый Саров, охваченный отовсюду суровым, непробудно спящим бором, часовня над дорогою могилой и тесная келья подвижника Христова. Часа два стоянки в Москве, и поезд отходит от Рязанско-Казанского вокзала. И во всю дорогу до Рязани только об одном и дума – смотря на безбрежный простор этой снеговой, разбежавшейся, по обе стороны дороги, пелены, – что о нем, столь же неудержимо, как русский простор, могучем, смелом, цельном в своем жизненном подвиге, в своем стремлении овладеть сокровищем Царствия Божия.

Святитель Василий Рязанский. Икона начала XX в.
В Рязани поезд стоит так долго, что я успеваю проехать по давно знакомым, главным улицам. Над высоким обрывом над Трубежом вздымается громада собора. А около в зимнем соборе живым сном спит хранитель Рязанской области – святитель Василий Рязанский. Как отрадны эти святые стражи, хранящие древнерусские города! Назовите верующему Рязань, – прежде всего, мелькнет пред ним серебристая лента Оки и плывущий вверх по течению, стоя на развернутой епископской мантии, прижимая к груди Муромскую икону Богоматери, святитель Василий22.
Около 12 часов ночи я садился у станции Сасово в крытые сани, запряженные тройкою «гусем». Таяло, и когда, отъехав немного от станции, мы направились по льду реки Мокши, вода так и заплескала. Очень редко попадались встречные, и я подремывал. В темноте мы остановились в большом селе Просяные Поляны. Я не выходил из саней. Уже совсем рассвело, когда мы достигли громадного, в несколько поперечных улиц расположенного, села Тенгушева, где ждали переменные лошади. В нескольких местах по дороге мы поили лошадей, и вокруг саней собиралась тогда толпа ребятишек, часто и ясно выраженного монгольского типа, так как в той местности много татар.
Уже стемнело, прежде чем мы доехали до Сарова. Мой возница нетвердо знал путь. В последнем селе он расспросил о дороге, но, немного отъехав, стал беспокоиться и объявил, что не уверен, правильно ли едет. К счастью, мы завидели в стороне чьи-то санки и поехали к ним. Оказалось, что это Саровский «лесной хозяин», то есть монах, заведующий лесными дачами. Мы поехали за его быстро скользящими санками, которые, выведя нас на дорогу, покатились так стремительно, что скрылись на наших глазах. Но мы были уже вне опасности – на большой просеке, ведущей прямо в Саров.
Я не могу забыть этой последней части пути. Немая, торжественная, чуть холодная ночь; на небе мигают обильно высыпавшие звезды. Ни один сучок не треснет, не шелохнется. Вековые суровые деревья все разубрались блестящим при луне инеем. Величественно, невыразимо прекрасно и просто все кругом, как бы стена, отделяющая тот мир, откуда я еду, от светлого мира Серафимовых чудес. Скорей бы к его могиле, в его келью, к источнику в пустыньке, в его Дивеев! А ночь торжественно, красиво молчит, все притаилось, как бы выжидая чего-то невыразимо значительного и благого. Я не знал, действительность ли это, или счастливый сон. Но это было прекрасно и незабвенно.
И вот усталые лошади уже идут по окрайней дорожке, направляющейся на холм, откуда господствует Саров, и я успеваю заметить сейчас у ограды новое, громадное здание: храм над его кельей.
Вещи уже внесены в номер; мгновение, чтоб сбросить тяжелую шубу, валенки и налегке идти в монастырь.

Храм во имя преподобного Серафима Саровского, построенный над его кельей. Фото начала XX в.
Служб нет. Все тихо и безлюдно. Я быстро миную зимний собор, величественный корабль Успенского соборного храма, – и предо мной заветная часовня, из которой светят огни.
И вот опять его могила, и опять можно все тут сказать ему без слов, зная, что он все услышит, все примет и поймет и на все откликнется.
Кто знал радость свидания после долгой разлуки с близкими живыми людьми, тот поймет, что испытывается, когда стоишь у могилы отца Серафима. И, пока вся душа тихо трепещет, глаза с радостной улыбкой видят вновь этот тяжелый памятник, эти картины из жизни старца: моление на камне, явление Богоматери с девами, кончина, старец, кормящий медведя, идущий с палочкой, благословляющий богомольца у источника.
Вход в нововоздвигнутый храм, обнявший теперь келью старца, по случаю позднего времени закрыт. В гостинице за самоваром сквозь одолевающий тебя сон слышишь рассказы о новых и новых чудесах старца. Скоро полночь. В городах теперь повсюду зажгли яркое освещение, нарядно оделись и ждут боя часов, чтоб произнести слова: «С Новым годом, с новым счастьем!»
А тут, засыпая с сердцем переполненным и верою, как сладко сказать от всей крепости души куда более сильное и счастливое слово: «Старец Серафим, помогай нам!»
На следующее утро я пошел к обедне в собор, где служба отправлялась торжественно, по случаю праздника «новолетия».
У жертвенника меня поразило множество монашествующих, вычитывающих синодики. Прекрасный обычай, по которому тщательно поминаются лица, записанные для поминовения. Храм, благолепный, высокий, с высоким иконостасом, богато украшенными иконами, был полон братии и богомольцев. Саровские иноки, отличающиеся суровостью жизни, имеют маленькое, видное только опытному глазу отличие в одежде от

Монастырская келья старца Серафима, над которой был возведен храм во имя преподобного Серафима Саровского. Фото начала XX в.
прочих монастырей: темно-фиолетовые петли у пуговиц подрясников.
После обедни я пошел в келью отца Серафима. Я знал ее еще тогда, когда она была частью жилого корпуса и когда из нее открывался вид на луговой простор. Теперь здание это снято и оставлены лишь четыре стены этой кельи, с окошками. Над нею воздвигнут большой, высокий храм, а сама келья останется в западной части этого храма.
Маленькая келья в шесть шагов вдоль и поперек. В главном углу копия с иконы Богоматери «Умиление», которая была келейною иконою старца, пред которой он скончался и которая находится в Дивеевском монастыре. Сбоку – икона Собора Архангела Михаила23, так как старец носил имя Серафима. Прямо против входа два больших изображения отца Серафима с очень проникновенно написанным ликом. На восковой белизне лица столько покоя и святости. Веки не совсем закрыты... Кажется, старец вот-вот поднимет их и взглянет на икону... Другое изображение – старец идет с палочкой. В углу – большая часть того камня, на котором он молился тысячу ночей. Далее по стене две витрины. В них ногти и зубок старца, выпавшие после избиения его разбойниками, волоски его, шапочка, Евангелие, четки кожаные, крестик параманный, мантия.
Здесь служат панихиды, которые обыкновенно заканчивают у могилы старца.
Вернувшись в гостиницу, я сел в легкие монастырские санки и поехал в сопровождении одного монаха в дальнюю пустыньку и на источник.
Дорога в дальнюю пустыньку идет мимо двух памятных мест: именно где находилась ближняя пустынька, с лежащим близ нее источником, и затем мимо той части леса, где выстроена шатерчасовня в память тысячедневного моления здесь на камне старца. Дорога пролегает по берегу речки Саровки, опушкою Саровского леса. Быстро мчала нас этим

Дорога к дальней пустыньке. Фото начала XX в.
путем еле сдерживаемая лошадь, и под мощный бег ее вспоминалось, как смиренно ходил этим путем изнуренный постоянным подвигом, вечно обуреваемый народом старец Серафим, с котомкою, набитою камнями на плечах, светлый и радостный в своем страдании.
Теперь, когда нет листвы кустарников, лучше видны холмистые очертания той местности, где у старца были свои евангельские долины, свой сад Гефсиманский, Голгофа, Вифлеем.
По своему живому воображению он дал евангельские имена разным местам, окружавшим его пустынную келью, и хаживал туда молиться, вспоминая события, совершившиеся в одноименных местах Палестины.
Вот и сама дальняя пустынька. Тот домик, в котором жил старец в эпоху своего отшельничества, перенесен в Дивеевскую обитель, а здесь произведена точная копия того домика. Сени и довольно большая горница; внизу под полом находится небольшой каменный склепик, в котором старец мог тайно укрыться от тех, кто, без уважения к его уединению, вошел бы к нему.

Дальняя пустынька (реконструкция). Фото начала XX в.
Неподалеку гряды огорода, которые некогда обрабатывал старец, и около крест означает то место, где старец принял тяжкие увечья от напавших на него и так великодушно впоследствии прощенных им разбойников.
Полтора десятка лет провел он тут, – быть может, самое трудное время, когда он окончательно убивал в себе «ветхого человека», наполняясь благодатию, становясь таким, каким люди привыкли знать его. Здесь молился он ничем не развлекаемою молитвою, отделенный от всего мира, особенно когда суровая зима заваливала лес почти непроходимыми снегами. Здесь, сидя на колоде у своей кельи, подкармливал он хаживавших к нему нередко медведей.

Крест на месте, где старец Серафим был избит разбойниками. Фото начала XX в.
Здесь вынес он тяжкую борьбу с врагом, для окончательного поражения которого предпринял подвиг тысячедневного моления на камне. Здесь, работая на огороде, он погружался в такие высокие духовные созерцания, что руки у него опускались, мотыка падала на землю, и взор его, неподвижно устремленный в одну точку, созерцал что-то великое.
Отсюда, окровавленный, еле живой, славя Бога за свое страдание, он поплелся в Саров и, вопреки злобе «врага» оправившись, против всякого вероятия и человеческих предположений, вернулся опять сюда, в возлюбленную пустынь.
«О, уединенное житие, – говорил о пустыни святой Василий Великий, – дом учения небесного и училище Божественного разумения, в котором Бог есть все, чему мы учимся. Пустыня – рай сладости, где и благоуханные цветы любви то пламенеют огненным цветом, то блестят снежной белизной, и с ними мир и тишина. Там кадило непрерывной молитвы, сладко сгорая, непрестанно вскипает огнем любви Божественной. Там различные цветы добродетели процветают благодатию неувядаемой красоты».

Пещера у дальней пустыньки Преподобного. Фото начала XX в.
Для русской души есть какая-то притягательная сила в пустыни; недаром ей сложены народные стихи, распеваемые слепыми певцами. Вспоминается здесь видение, бывшее одной инокине Шамординского, основанного старцем Амвросием Оптинским монастыря, о райской обители великого старца. Она была в прекрасном саду, где тихий ветер шелестел изумрудными листьями, и все эти листья шептали молитву Иисусову: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!»

Благословение преподобного Серафима. Литография XIX в.
Вот мы уже у источника. Как любил старец Серафим этот источник!
«Радость моя, – точно слышится из глубины сказанное им кому-то слово, – радость моя, я молился, чтоб вода сия в колодце была целительною от болезней». Как часто в своих явлениях людям он или посылал их на свой источник, или приказывал им выпить воды, или натереться этою водою. От нее прозревали слепые.
Я слыхал, что Саровские иноки и многие приезжие обливаются этою водою всю зиму и что никогда никто не простужался от нее. Крепко веруя в чудотворную силу старца Серафима, я тоже хотел по-обычному облиться водой из этого источника.
Но на дворе и значит в деревянном срубе, где купаются, было 12 градусов мороза. Вода, пролитая на пол в часовне над источником, быстро леденела. Но вместе с тем, несмотря на человеческие сомнения, все, что окружало меня: колодец с ведерками на цепочках для черпания воды и громадное в часовне изображение старца, молящегося на камне, – все укрепляло мою решимость, и я вошел в купальню. Свет проникает чрез маленькие отверстия в ее стенах. Здесь, в огороженном помещении, казалось еще холоднее. Под ноги мне положили коврик. По обледенелым ступенькам лестницы, ведущей в сруб, постлали холст. Первый раз в жизни я разделся на морозе и быстро спустился в сруб. По обычаю, под струю становятся три раза, и я мог исполнить это. Когда я одевался, от тела шел сильный пар. Но я чувствовал себя необыкновенно бодрым, свежим и счастливым. Несколько месяцев после того во мне был какой-то необыкновенный прилив сил.
Я уговорился со старым монахом, который ходил раньше за кельей отца Серафима и которому теперь был устроен временный теплый чуланчик-келья в новостроящемся над кельей старца храме, чтоб он 2 января пораньше впустил меня в келью. Можно думать, что отец Серафим скончался между 4 и 6 часами утра, и именно эти часы, 70 лет спустя, мне хотелось пережить у него.
Тихо потрескивали лампады и свечи; таинственно, озаряемый этими огнями, смотрел с большой картины бледный, как воск, лик великого раба Божия, умиравшего, как жил он, одиноко, лишь пред очами Бога.

Внутренний вид монастырской кельи Преподобного. Фото начала XX века
Мне казалось несбыточным видением, мечтою, что в эту годовщину я стою тут, где все это совершилось, на месте стольких чудесных, таинственных, невыразимых событий. И трепетной душой я чувствовал здесь наслоение всего этого прошлого: труды затвора, порывы в высоту, небесные видения, и веру, и радость, и изумление стольких лиц, столько совершившихся здесь нравственных переломов и

Саровской пустыни иеромонах Серафим. Гравюра 1-й половины XIX в.
обновлений жизни... А изможденный старец умирал пред иконою тихо, таинственно, в молчании ночи, сложив крестом руки на груди и точно присматриваясь к чему-то нездешнему, уже звучавшему для него еще яснее и громче, чем когда он был восхищен в небесные обители.
И еще живее чувствовался он теперь во всем своем неизмеримом величии, во всей невыразимой ласковости своей, потому что накануне до позднего часа я слышал рассказы о нем от приехавших в Саров к этому дню дивеевских сестер.
Вот пустынное его детище – это чудное Дивеево. Там всегда его умели любить и понимать. Дивеево всегда прямо горело любовью к отцу Серафиму и усердием к его памяти. Сестры обители собрали у себя все его вещи. У них его кельи, то есть ближняя и дальняя пустыньки, его лапти и сапоги, его шапочка, его крест, его книги.
Вот уж они входят, дивеевские монахини, ведя с собою иеромонаха, и начинается одна за другой панихиды... Отрадно стоять между всеми этими лицами, так почитающими старца и так подробно знающими о нем. Вот в поминаниях инокинь вслед за именем старца Серафима стоят у всех имена его родителей Исидора и Агафии и еще некоторых его родственников. Как радостны эти молитвы за родных ему, который всегда просил молиться за его родителей и за его монастырских наставников!
И тихо звучат напевы панихиды, и часто-часто раздается это дорогое имя: раба Божия приснопамятного старца иеромонаха Серафима.
Подходим к часовне над его могилой, как вдруг в полутемноте утра видна большая толпа с иеромонахами впереди, спешно направляющимися к часовне. Это отошла ранняя обедня у «Зосимы и Савватия» – в его любимом храме, где он всегда приобщался и где приобщился накануне кончины, и идут на могилу служить панихиду.
В зимнем соборе, переполненном народом, среди которого очень много дивеевских и понетаевских инокинь, была отслужена торжественная обедня и после нее панихида.
Я никогда не присутствовал при столь радостной службе. В воздухе словно стояло какое-то ликование. А когда духовенство в праздничных ризах вышло полным собором, расположилось рядами до самых Царских дверей, затеплились свечи и началось моление о старце Серафиме, он, казалось, присутствовал тут при всяком молящемся за него. Солнце чрезвычайно ярко, как весною, светило с безоблачного голубого неба в большие окна храма. И было все вокруг и на душе светло, надежно и радостно.
Я вышел тотчас после «Со святыми упокой» из собора, чтоб без толпы стать в часовне у могилы, которая так тесна, что с трудом вмещает певчих и духовенство. И тут была та же радость, то же разлитое в воздухе ликование.
Когда я подходил к святым воротам монастыря, меня поразила маленькая подробность. Чрез пролет ворот я видел кусок голубого неба и зелень. И на секунду совсем как-то забылось, что вокруг зима и мороз. Мне казалось, что там я вижу цветущую весну.
И еще бодрее стало от того на душе... Чрез несколько часов я подъезжал к Дивееву.
Издали видны глава его громадного собора и высокая колокольня.
Хвала тебе, приют избранных, взыскавших Христа и обретших истинного загробного наставника в кротком старце Серафиме. Здесь его
излюбленное место. На всем тут лежит его дух. Он все тут наполняет, всем движет. Им тут все дышат.
Среди всех сказаний о славных людях, о благодатных местах мало сказаний так сильно заставляют трепетать сердце, как «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря». Тут все

Деревянная постройка с часовней над перенесенной в Дивеево ближней пустынькой. Фото начала XX в.
чудо. Праведным старицам этой обители были открыты многие тайны жизни дивного Серафима, и по кончине его вся история этой обители – сплошное чудо старца.
Стой же крепко, возлюбленная невеста Христова, Серафимо-Дивеевская обитель, и веруй, по слову старца твоего, что и в последние времена, во дни крушения веры, бессилен будет враг Христов переступить твою священную, твоею Небесною Игумениею – Девою Пречистою заповеданную грань.
Оставив вещи в уютной, чистой гостинице, где всегда с великим радушием встречают гостей, я пошел прежде всего в ближнюю пустыньку. Это келья старца, перенесенная потом в Дивеево и заключенная в деревянную постройку, как в футляр.
Крошечные оконца, малые сени и малая комнатка, где помещены большой портрет отца Серафима в черной полумантии и клобуке, чрезвычайно жизненный; портрет отца Серафима в гробу и несколько икон. Тут происходит неусыпное, деннонощное чтение Псалтири. Здесь обыкновенно, в память обычая старца, раздают богомольцам сухарики.
Хорошо войти сюда, в эту, в буквальном смысле слова, благоухающую каким-то сладостным благоуханием постройку. Когда нет никого в ней и слышен только шепот псалтирных слов, хорошо взять в руки свечу и, наводя свет на лик старца, долго-долго смотреть на него, как на живого.
Из ближней пустыньки надо идти в дальнюю, то есть в Преображенскую церковь монастырского кладбища, в которой алтарь сделан из сруба дальней пустыньки.
По восточной наружной стене алтаря расположены витрины, в которых хранится одежда старца. Поэтому на языке дивеевских сестер идти в Преображенскую церковь означается идти «к одежке».
И здесь опять от всех предметов, освященных прикосновением старца Серафима, ощущается какое-то неизъяснимое благоухание. В самом алтаре находится один из камней старца – тот, который лежал в этой пустыньке и на котором старец молился по дням у себя в келье, когда проходил в течение тысячи суток свой подвиг столпничества. Здесь также хранятся его подсвечник, Четья-Минея, обгоревшая во время пожара, случившегося при его кончине, медный крест – его материнское благословение, и Евангелие с пометками, сделанными его руками.

Кладбищенская Преображенская церковь в Дивееве. Фото начала XX в.

Вещи преподобного Серафима у алтаря Преображенской церкви. Фото начала XX в.
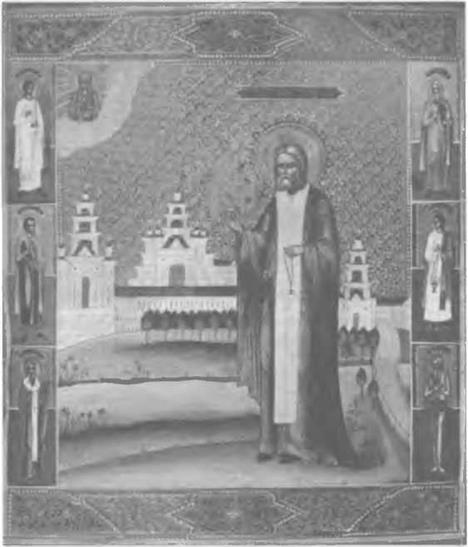
Икона преподобного Серафима. Начало XX в.
Недалеко от кладбища находится громадное здание мастерских – живописной и фотографии.
Вся живописная занята была с осени рисованием изображений отца Серафима в разных видах и разных размеров. Там писали уже «иконы» старца. На них он изображен на золотом фоне, с сиянием вокруг головы, с благословляющею рукою. На иных, где он представлен во весь рост, изображен на заднем плане Саров.
Из разных живописных изображений старца Серафима мне кажется самой удачною та, где старец изображен молящимся на камне.
Хотя службы не совершалось в большом соборе, но я заглянул в него, чтобы возобновить свои прежние от него впечатления. И снова я стоял, пораженный, радостно любуясь торжественной красотой этого прекраснейшего из виденных мною храмов. Чрезвычайное величие, простор. Купол лежит на четырех как бы пуках колонн; иконы одна прекраснее другой. Его трудно описать – нужно видеть. Недаром отец Серафим, предсказывая красоту будущего Дивеевского собора, приходил в восторг.
Есть еще два памятных места, где надо побывать. Это кельи первоначальницы Агафии Симеоновны Мельгуновой и юродивой Пелагии Ивановны. Келья матушки Александры (так в постриге звали Агафию Симеоновну) тоже заключена в дом-шатер, для сохранности.
Первая продолговатая комната была, вероятно, для келейницы и столовою. Далее еще маленький покойчик, а в стороне маленькая спаленка с каменной лежанкой, на которой без тюфяка и подушки почивала великая старица.
Жившая здесь женщина, конечно, одна из замечательнейших женщин, явившихся в Русской земле, столь обильной прекрасными женскими типами. Крупная помещица, она, оставшись вдовою, посвящает свои дни посещению святых мест и в Киеве получает повеление Богоматери идти к северу и там на месте, которое Богоматерь укажет, основать женскую обитель.
В безвестном тогда селе Дивееве ей вновь является Богоматерь, возвещая, что это место избрала Она для новой обители. И Агафия Симеоновна поселяется тут. Не собирание сестер, а собирание добрых дел первоначальницею в духовную основу будущей обители – вот чем начинает она свое великое дело. Незадолго до смерти поселяется она в этом домике, и несколько благочестивых, собравшихся около нее женщин составляют первоначальное ядро знаменитого Дивеева. Пред смертью ее соборует старец Пахомий, Саровский настоятель и наставник отца Серафима. Она просит его позаботиться о «дивеевских сиротах» – имя, которым отныне на языке отца Серафима будут называться дивеевские сестры. А отец Пахомий обещает эту заботу и, указывая на сослужившего ему его ученика иеродиакона Серафима, обещается за ученика, что по смерти его отец Серафим о них позаботится.
Святая жизнь! Вот около спаленки тесный тайничок с распятием. Здесь маливалась целыми ночами первоначальница.
Молитвами рабы Твоей Александры помяни нас, Господи, во Царствии Твоем...

Часовня над могилой первоначальницы Дивеевского монастыря схимонахини Александры. Фото начала XX в.
Неподалеку, у Казанской церкви, скромная кирпичная часовня отмечает место ее упокоения...
Зайдем неподалеку в другой домик, где много лет прожила блаженная Пелагия Ивановна. Она происходила из зажиточного купечества и приняла тяжкий подвиг юродства по благословению старца Серафима, претерпела гонение от родных, несколько лет сидела на цепи и после страшных истязаний и унижений, вытерпленных дома, поселилась, наконец, в Дивееве. И здесь вела она жизнь вольной мученицы, но стяжала великие дары благодати.
Отрада льется в душу на месте подвигов этой страдалицы. И верится, видит она и любовью откликается на усердие всех, чтущих ее. Ибо только много страдавший глубоко и деятельно любит.
И когда, посетив эти заветные места, станешь слушать беседы инокинь дивеевских о дивном старце Серафиме, чувствуешь, будто залетел на «земное небо». Какова же будет тут, где так его любят, радость прославления великого отца и старца?

Год тому назад. Воспоминания о Дивееве, Сарове и торжестве 19 июля 1903 года

Крестный ход из Дивеева с иконой Божией Матер «Умиление». 17 июля 1903 г.
Как ни поглощено внимание всякого русского войною [русско-японская война 1904–1905 гг. – Ред.], никакие самые крупные политические события не в силах затемнить в воспоминаниях очевидца того, что происходило в июле прошлого года в далекой Саровской пустыни. И теперь, когда приближается годовщина заветного дня 19 июля, все это подымается особенно ярко. Переживаешь вновь все, что там было пережито. Видишь вновь те единственные, несравненные картины и, вновь поражаясь всем этим, как тогда, спрашиваешь себя: «Да, действительно ли все это ты видел; взаправду ли все это случилось; не был ли это только дорогой прекрасный сон?»
Да, все относящееся к «отцу Серафиму», как издавна привык я его называть, до такой степени необыкновенно, что всегда, бывая у его могилы, у его источника, в Дивееве, в его Сарове, был словно уже не на земле. И всегда несколько месяцев спустя после поездки казалось все виденное выше и святее всякой мыслимой действительности.
1 Печатается по паданию: Поселянин Е. Год тому назад. (Воспоминания о Дивееве, Сарове и торжестве 19 июля 1903 года) // «Прибавления к Церковным ведомостям», 1904. № 29–35, 37, 39, 41 –43.

Так было и теперь.
Вот утром 14 июля я в Нижнем и между поездами опять с высоты Мининского садика любуюсь на ненаглядную картину соединения Волги с Окой, на бесконечную, расстилающуюся зеленым ковром «Низовую землю», на разбросанные на ней села с белыми церквями. Опять обхожу в соборном подземелье княжеские могилы, опять спускаюсь по крутому спуску, застроенному торговыми домами.
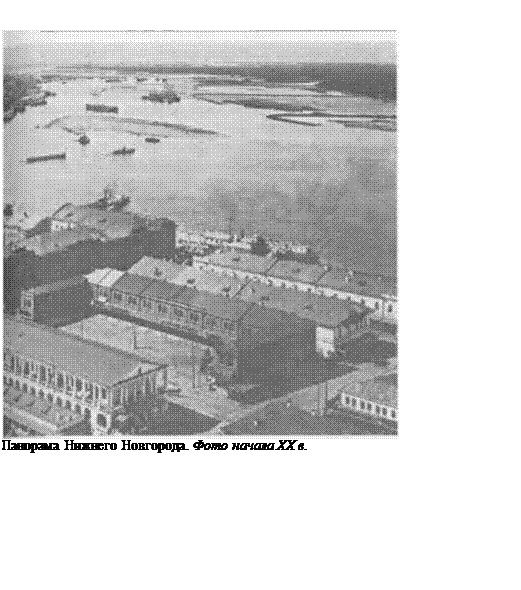
Панорама Нижнего Новгорода. Фото начала XX в.
На вокзале ветви, ведущей на Арзамас, чрезвычайное оживление. Кучками стоят простонародные богомольцы в ожидании особого, богомольческого, удешевленного поезда. Наш поезд набит битком; и в первом классе очень тесно. Невольно радуешься, что открылось наконец сквозное движение, потому что раньше приходилось ехать верст десять по пыльной дороге к тому месту, откуда ходили поезда.
Мы трогаемся. Солнце в зените палит и без того раскаленную, сухую землю. На станциях едущие прямо набрасываются на недостаточно снабженные съестными припасами буфеты. Напитков, квасу и пива, на которые по случаю томительной жары особенно жадно набрасываются, недостает на каждой станции. Это – первый опыт той дурной постановки продовольственного дела, которая сильно себя давала чувствовать во все время Саровских торжеств.
В отделении, где я находился, сидел еще один из уездных предводителей Нижегородской губернии. Его родители были тоже нижегородские помещики и знавали старца Серафима. Знали они также и известного Николая Александровича Мотовилова, который был чудесно исцелен великим старцем и на всю жизнь остался ревностнейшим почитателем его памяти. Это исцеление, как передал мне тогда старожил Нижегородской губернии, было широко известно в помещичьей среде, так же как и оригинальная личность Мотовилова.
Вот уж я по пути в Саров, оставив за собою шумный теперь Арзамас с его множеством красивых, живописных церквей, оживленными торговыми рядами, криком, гамом на всех улицах, множеством лошадей и кучками богомольцев. Все или отдыхают, или едут, или хлопочут об отъезде и рядятся с возницами.
Тройка в легкой колясочке довольно быстро везла меня по исправной, только что отделанной большой дороге. Когда я за два месяца до того, в мае, ехал из Сарова, я видел целые деревни, работавшие над разными разбитыми местами этой дороги. Какая гладь теперь! В некоторых местах часть пути, приготовленная для проезда Государя, перегорожена легкими рогатками.
То и дело встречаются то «обратные» ямщики, то почтовые тележки, то казачьи разъезды. По временам в стороне от дороги видны солдатские пикеты.

Паломники на берегу реки Сатис. Фото 1903 г.
Солдаты, разведя огонь, варят себе кашу. В одном очень большом селе, которое мы проезжаем, на просторной площади пред церковью целый лес поднятых кверху оглобель. Это на ночь расположился многочисленный караван богомольцев, едущий на лошадях.
Я ночевал в верхнем этаже одного чистого и богатого постоялого двора. Хозяин рассказал мне о нескольких бывших в Сарове исцелениях. Один исцеленный, купец из-под Ростова-на-Дону, только что останавливался у него на обратном пути. Он видел его, когда тот ехал в Саров, еле двигающимся, а тут он нарочно несколько раз бегал вниз и вверх по лестнице, чтоб показать хозяину, как он тверд на ногах.
Ранним утром по холодку мы двинулись дальше на Дивеево, обгоняя вереницы богомольцев. В одном месте под деревом я видел немолодую женщину, которая усердно молилась на коленях, обратясь лицом к разгоравшемуся все ярче и ярче востоку. Что-то значительное и прекрасное было в этой молитве тут, прямо под небом, без храма, без икон, где храмом была пробуждавшаяся от ночного отдыха природа, а иконой, отражением славы Божества – непорочный свод небесный, обрызганный первыми солнечными лучами.
«Благословен еси, Господи, просветивый день светом солнечным».
Вот виден громадный купол Дивеевского собора. Все ближе и ближе, все люднее, и наконец, наскоро переодевшись в монастырской гостинице, я уже в ограде.
Все пространство вокруг собора заполнено громадной толпой. Ожидается служение, какого еще никогда не было в Дивееве: должен служить митрополит С.-Петербургский с епископами Нижегородским и Тамбовским.
Как великолепен этот собор, залитый светом, весь всегда полный какого-то светлого торжества, какой-то радостной теплоты, так прекрасно отражающий мысль о бесконечно благом, зовущем, благословляющем и успокаивающем Боге.
Пока идет торжественная служба, мне все кажется, что тут в толпе невидимо присутствует тот, чья забота создала эту обитель, чьим именем собирались здесь сестры, ради кого терпели так много, кого звали в своих скорбях, на чье прославление так надеялись и дождались... И вот в левом нижнем приделе, где раньше был образ Богоматери, окруженный цветущими цветами, теперь образ его, старца Серафима, Саровского чудотворца.

Вид Серафимо-Дивеевского монастыря с юго-западной стороны. Фото 1903 г.
А там, в глубине алтаря, все тот же его, издавна висевший на стене, портрет: старец в круглом, старинного образца, клобуке, весь истощенный, как бы полупрозрачный. Лик не тронут, только пририсован венчик...
До конца обедни я вышел из собора, чтобы навестить заветные места Дивеева.
Прежде всего, я пошел на место возникновения монастыря, к коренной пяди его земли – келье первоначальницы дивеевской, Агафии Симеоновны Мельгуновой.
Было время, что Дивеево представлялось небольшим селом с бедною деревянною церковью.
Однажды шла чрез Дивеево женщина, которой судьба чудным образом связана с Дивеевом. В тот час не думала она, не гадала, что навсегда останется в этом месте. Шла она пешком из Киева в Саров и, утомясь, уселась отдохнуть на колоде, лежавшей у сельской церкви. И тут последовало ей явление, навеки привязавшее ее к Дивееву. Именно здесь явилась страннице Богоматерь и, по преданию, произнесла ей такие слова: «Вот то самое место, которое Я повелела тебе искать на севере России, когда еще в первый раз явилась тебе в Киеве. И вот, здесь придел, который Божественным Промыслом положен тебе. Живи и угождай здесь Господу Богу до конца дней твоих, и Я всегда буду с тобою и всегда буду посещать место это. И в приделе твоего жительства Я осную здесь такую обитель Мою, равной которой не было, нет и не будет никогда во всем свете. Это четвертый жребий Мой во вселенной. И как звезды небесные, и как песок морской умножу я тут служащих Господу Богу и Меня, Приснодеву и Матерь света, и Сына Моего Иисуса Христа величающих. И благодать Всесвятого Духа Божия, и обилие всех благ земных и небесных, с малыми трудами человеческими, не оскудеют от этого места Моего возлюбленного».
Таково было обетование, дарованное Пречистою Божиею Матерью великой дивеевской первоначальнице Агафии Симеоновне Мельгуновой.
Не только вся история, но даже христианство само немногих знало столь самоотверженных, цельных в духовных своих стремлениях личностей, как эта удивительная женщина.
Она была родом из нижегородских дворян Белокопытовых, а в то время вдова полковника Мельгунова и владела поместьями, лежавшими в трех губерниях: Ярославской, Владимирской и Рязанской. Считая потогдашнему, на душу, в ее поместьях состояло 700 душ. Был у нее и капитал.
Рано лишившись мужа, она с трехлетнею дочерью отправилась в Киев, надеясь здесь вести тихую жизнь. Здесь же приняла она постриг, как люди полагают, тайный, с именем Александры.
Здесь однажды ночью явилась ей Богоматерь и повелела идти на север России и там остаться на месте, которое ей укажет Владычица и на котором Богоматерь обещала создать великую обитель. О видении этом Агафия Симеоновна передала опытным старцам, которые, но зрелом обсуждении вопроса, нашли, что тут не могло быть «прелести», и советовали ей исполнять повеление Владычицы. Вот и отправилась она в путь под прежним мирским именем Агафии Симеоновны Мельгуновой, и во время ее отдыха на лужайке у западной стены сельского небольшого деревянного храма и последовало ей новое явление Богоматери, с приказанием остаться навсегда на этом месте.
Долго после видения не могла прийти в себя Агафия Симеоновна и долго потом молилась со слезами веры и восторга. Затем она пришла в Саров, где открылась старцам. Они посоветовали ей поселиться в Дивееве. Сперва, избегая шума села Дивеева, вокруг которого добывалась медная и железная руда, она поселилась во флигеле села Осиновки, усадьбе князей Шахаевых, в версте-полутора от Дивеева. Прожив тут года три с небольшим, она решилась продать свои имения. Сама объезжая их, она отпускала за небольшую плату крестьян на волю, а кто не пожелал идти на волю, тех продавала тем именно помещикам, которым эти крестьяне желали принадлежать. С прежним ее капиталом у Агафии Симеоновны образовался теперь большой капитал. Часть его она употребила на вклады в монастыри и церкви, для поминовения родных, большую же часть потратила на дело церковного строительства. Ее современникам было известно двенадцать церквей, ею построенных и возобновленных. Много было ею также обеспечено вдов, сирот и бедных. Около 1765 года Агафия Симеоновна поселилась во дворе у дивеевского священника отца Василия Дертева, жившего вдвоем с престарелою женой.
С 1767 года она начала строить взамен дивеевского деревянного храма во имя святителя Николая каменный в честь Казанской иконы Богоматери. Построение церкви связано храмоздательницею с делом благотворительности окрестным крестьянам во время великого голода 1770 года. Долго впоследствии местные крестьяне – тогда уже старики – рассказывали, как в малолетство их был голод и как собирала их, детей, матушка Агафия Симеоновна и приказывала носить кирпичи кладчикам, строившим Казанскую церковь. За это она давала им хлеба и денег. В 1772 году Казанский трехпрестольный храм был довершен и в нем поставлен точный список с Казанской иконы, за которым Агафия Симеоновна сама ходила в Казань.
О жизни матери Александры в Дивееве сохранились воспоминания окрестных крестьян, помещиков и сестер дивеевских.

Первоначальница Серафиме-Дивеевского монастыря схимонахиня Александра. Литография XIX в.
Поселясь в Дивееве, мать Александра заставила себя забыть свое происхождение, воспитание, былое богатство. Смиряя себя, она занималась самыми простыми работами, точно была служанкой отца Василия: чистила хлев, ходила за скотиной, стирала белье.
Кроме этой постоянной черной работы она ходила в крестьянские поля и там жала и вязала в снопы урожай на полосах маломощных крестьян. Когда в страдную пору все взрослые крестьяне уходят на целый день в поле, оставляя дома без призора одних малолетних детей, в деревне действовала мать Александра.
Она топила в избах печи, месила хлебы, приготовляла обед, мыла детей, стирала их грязное белье и к приходу измучившихся в жарком поле их матерей одевала их во все чистое. Все это она делала украдкой, чтобы никто этого не видал.
Но, конечно, укрыться от людей она не могла. Крестьяне стали догадываться о своей невидимой помощнице. Когда же дети указывали родителям на мать Александру, она принимала вид удивленной, ничего не понимающей, если ее начинали благодарить, и отрекалась от своих поступков.
В течение двенадцати лет матушка Александра в праздники и воскресные дни никогда не возвращалась из церкви прямо домой. По окончании обедни она оставалась на церковной площади и поучала крестьян. Она объясняла им их христианские обязанности, говорила о том, как надо проводить праздники, как правильно устраивать свою жизнь. Долго, уже много лет спустя по смерти матушки Александры, эти беседы оставались в памяти местного населения.
Одевалась мать Александра не только просто, но и бедно. Летом и зимою носила она одну и ту же ветхую заплатанную одежду, опоясываясь кушачком с узлом. На голове она носила холодную черную круглую шерстяную шапочку, отороченную заячьим мехом. Это смягчало ее головные боли, которыми она часто страдала; надевала также и бумажные платки. Идя работать в поле, она обувалась в лапти. На кровати ее вместо тюфячка лежал войлок, а под голову она подкладывала камень, зашитый в холстину, чтоб он издали казался подушечкой. Она постоянно носила власяницу.
Матушка Александра была большая искусница в рукоделиях и бедным невестам сама заготовляла приданое.
Она была среднего роста с веселым, круглым и белым лицом. У нее были разные благодатные дары, между прочим, дар молитвенных слез. Когда она в Саровском соборе становилась на свое обычное место, против чудотворной иконы Богоматери, именуемой «Живоносный Источник», из ее глаз текли не слезы, а потоки слез.
Она была мудра, и поэтому к ней за советами стекались со всех сторон люди разных сословий; была тонкий знаток церковного Устава, и считалось за особое благополучие, если она соглашалась быть распорядительницей какого-нибудь духовного торжества.
Незадолго до кончины своей, чтоб исполнить повеление Богоматери, мать Александра решилась положить начало общине.
Одна из совладелиц Дивеева, представлявшего собою чресполосное владение, госпожа Жданова пожертвовала матери Александре полдесятины земли, прилегавшей к церкви. На этой земле мать Александра построила три кельи с хозяйственными принадлежностями и обвела это пространство деревянною оградою. Одну келью заняла она сама, другую отдала послушницам, в третьей принимала странников. Здесь прошли в суровых подвигах последние годы ее жизни. В то время отцу Серафиму не было и тридцати лет. Но мать Александра относилась к нему с великим уважением, точно предчувствуя, чем он будет для Дивеева.
13 июня 1789 года скончалась матушка Александра. Пред концом своим она говорила одной из послушниц своих: «Молись Богу. Господь не оставит тебя. Я уж скоро отойду от сего света, а ты еще долго проживешь. И то, что сбудутся слова мои, и то, что соберется на этом месте большая обитель, ты увидишь на деле».
В смиренной простоте закатилась жизнь этой удивительной женщины. Но каким величием веет от всей этой простоты ее! И в смертный час душа ее осталась верна этим величайшим добродетелям смирения и преданности воле Божией.
Получив великое повеление Царицы Небесной, она принесла в жертву этому повелению всю свою жизнь и веровала до конца, хоть не видала при жизни исполнения того, что ей было обещано. Ее крепкая и молчаливая душа уподобилась силою упования своего тем великим ветхозаветным мужам, о которых говорит апостол, что они умерли, не прияв обетования (ср.: Евр. 11, 39). И стяжала она себе блаженство тех, чью веру ублажил Христос: веру не видевших и веровавших (ср.: Ин. 20,29).
Истинность же верования ее подтверждается всею последующею историей Дивеева.
Старец Серафим всю свою жизнь с величайшим благоговением относился к памяти матери Александры. Раз как-то он сказал: «Как нам оставить тех, о коих просила меня, убогого Серафима, матушка Агафия Симеоновна! Ведь она была великая жена, святая. Смирение ее было неисповедимо, слез источник непрестанный, молитва к Богу чистейшая, любовь ко всем нелицемерная! Одежду носила самую простую. А как идет, бывало, то госпожи великие ее ведут под ручки, – столь за жизнь свою была всеми уважаема!»
Еще не раз он повторял: «Матушка Агафия Симеоновна великая жена и всем нам благотворительница была и столь изобиловала благодатию Божиею, скажу вам, что в бытность ее здесь, в Сарове, во время служб церковных, из глаз ее текли не слезы, а источники слез, точно она сама соделывалась тогда благодатным источником этих слез! Великая и святая жена она была, матушка Агафия Симеоновна, вельми великая и святая!»
Замечательно, что старец Серафим еще при жизни своей находился в несомненном молитвенном общении с матерью Александрой. Так, он сказал раз одной больной: «Мать Александра тебя жалеет и желает тебе исцеления».
И вот в этот день, когда я должен был в Сарове увидеть сошедшуюся в нем в лице богомольцев своих всю Россию, мне отрадно было думать, как сам отец Серафим почитал современных ему праведников. После же кончины своей старец Серафим неоднократно помогал людям вместе со старицею Агафиею Симеоновной, как то показывают неоднократные их явления.
Вот недалеко от высокой монастырской колокольни – первоначальная пядь Дивеевской обители, келья первоначальницы. Войдем чрез калитку в дверь деревянного двухэтажного дома. Это еще не сама келья, это лишь «чехол» на нее. Для сохранения драгоценной монастырю кельи вокруг нее выстроили деревянный дом, в котором она заключена, как в футляре.
Над входом в келью на большой черной доске белыми буквами описано значение этой кельи. Войдем в самые покойники Агафии Симеоновны. Сперва идет маленькое как бы зальце, с маленьким окошечком. По одной, наружной стене – скамья. По бокам одной из дверей два портрета. Один изображает великую старицу. Она одета в темную шубейку с отложным меховым воротником и подпоясана. На голове отороченная мехом шапочка. Лицо красивое, круглое, с живыми черными глазами. С другой стороны – портрет отца Серафима молодым, когда он был иеродиаконом, именно в ту пору, когда он приезжал с Саровским строителем Пахомием соборовать праведницу. Этот портрет представляет большую ценность как единственный портрет из молодых лет старца Серафима.
Другой покойчик, в котором хранятся кое-какие вещи первоначальницы, – ее чашка, очки, – замечателен тем, что в нем сохранилось окно, у которого совершилось чудо явления иконы.
Когда Агафия Симеоновна воздвигла новый каменный храм для Дивеева, трехпрестольный, вместо прежнего двухпрестольного, она долго недоумевала, в чье имя освятить третий придел. Разрешения своего колебания она решила искать в молитве, и однажды ночью она долго молилась, чтобы Бог указал ей Свою волю об этом храме. Вдруг она слышит стук у окна и голос: «Во имя архидиакона первомученика Стефана». Подойдя к окну, первоначальница увидела, что на окне лежит неизвестно откуда взявшийся небольшой образ архидиакона Стефана, писанный на простой доске, почти обрубке, а за окном никого не было. Образ этот, раньше находившийся в церкви, теперь хранится в этой самой комнате, у окна.
Есть еще третья комната, маленькая спаленка, с кирпичным узким ложем и таким же изголовьем, и в этой же комнате, как выражаются дивеевские монашенки, «коренное убежище» Агафии Симеоновны – маленький тайничок без окон с наглухо запирающеюся дверью. В этом тайничке стоит большое распятие, освещенное лампадой. Тут молилась она, невидимая людьми, изливая пред Богом весь пыл своей души. И доселе что-то невыразимое испытывает душа, когда перешагнешь за заветный порог. Живая святыня охватывает вас, на сердце легко, и легка кажется жизнь, и светла и близка вечность. Помяни нас, тихая праведница!
Этот сокровенный покойчик с большим распятием – место уединенной молитвы Агафии Симеоновны – тем неотразимо сильным впечатлением, которое производит, кажется, один уже достаточно свидетельствует о праведности ее.
Один человек с мятущеюся, беспокойной душой рассказывал мне, что испытывает всякий раз, как постоит в этой тишине, пред старинным распятием, на этом иолу, который «орошен дождем слез» Агафии Симеоновны, необыкновенное успокоение.
Да, что значит это воздействие мест, где жили праведники, на человеческую душу много лет спустя по исчезновении праведника? Это значит, что чувства людей бессмертнее той материи, о которой сложена теория «вечности материи». Пропадают здания, но в воздухе стоят чувства, те свежие, могучие чувства, которые одушевляли когда-то живших в этих местах людей. И эти чувства, стоящие, как завороженная волшебная сказка, в воздухе, бросают яркий отсвет и в наши больные, темные, измученные души.

Врата ограды Казанской церкви. Фото начала XX в.
Вера и мольбы преподобного Сергия и отзвук слов Пресвятой Девы: «Неотступна буду от места сего» – стоят в воздухе Лавры Сергиевой. И точно так же великое смирение и безграничная крепость упования и живая, душу пронзавшая, любовь к страдающему Христу наполняют заветное убежище Агафии Симеоновны и охватывают всякого доступного религиозным впечатлениям человека.

Церковь в честь Казанской иконы Божией Матери в Дивееве с пристроенными к ней храмами Рождества Христова и Рождества Богородицы. Фото конца XIX в.
Вот святая колыбель этой святой, удивительной обители, лучшего творения величайшего святого последних веков Русской Церкви...
В нескольких шагах от кельи находится и место Дивеевского храма, у которого Богоматерь явилась Агафии Симеоновне. Тогда он был деревянным и ею перестроен в каменный. Затем в последние годы жизни старца с западной стороны храма сделана пристройка, кирпич в кирпич, нового уже монастырского храма, который представляет собою цену великого самоотречения.
Отец Серафим находил неудобным, чтоб дивеевские первоначальные сестры, ходя в сельскую Дивеевскую церковь, тем постоянно соприкасались с мирянами, и задумал к паперти Дивеевской Казанской церкви пристроить особую церковь, и притом так, чтобы у той и другой церкви были совершенно особые входы. И эти входы разделялись друг от друга оградой. Так оно существует и доселе. Спереди выстроенная Агафиею Симеоновною трехпрестольная Казанская церковь села Дивеева, со входами с боков, а сзади в связи с тою первоначальною церковью двухэтажный храм Дивеевского монастыря. От середины общего здания, перпендикулярно к нему, идет в обе стороны ограда, так что самые входы в оба храма совершенно разъединены.
Храмоздателем этой первой, собственно монастырской, Дивеевской церкви явился Михаил Васильевич Мантуров, над которым старец проявил дар исцелений.
Владелец села Нуча, Ардатовского уезда, Нижегородской губернии, в сорока верстах от Сарова, долго служил в военной службе, но потом принужден был поселиться в своем поместье,

Михаил Васильевич Мантуров. Рисунок XIX в.
выйдя в отставку вследствие тяжелой болезни. Лучшие врачи не могли ни определить болезнь, ни излечить ее. А страдания становились все невыносимее, и наконец из ног больного кусками стали выходить кости. Была одна надежда на Бога. Слух о святой жизни старца Серафима достиг до больного, и он велел везти себя в Саров. С усилием ввели барина его люди в келью старца, и, пав ему в ноги, больной стал молить об исцелении.
Трижды торжественно старец с любовию спрашивал больного, верует ли он в Бога, и трижды Мантуров исповедал свою веру. На это старец сказал: «Если ты так веруешь, то верь же и в то, что верующему все возможно от Бога. А потому веруй, что и тебя исцелит Господь. А я, убогий Серафим, помолюсь».
Пока больной ждал в сенях, старец молился в своей келье и наконец вышел, неся освященное масло. По его приказанию Мантуров обнажил ноги, и старец стал растирать их маслом, произнося слова: «По данной мне от Господа благодати первого тебя врачую».
Мантуров вышел из кельи старца совершенно здоровым. Прожив некоторое время в Нуче, с радостным чувством, как бы вновь родившегося на свет человека, он поехал в Саров посетить своего исцелителя. В разговоре старец сказал ему:
– Радость моя, ведь мы обещались поблагодарить Господа, – и на вопрос Мантурова, как это сделать, вымолвил слово, которое должно было изменить всю жизнь его. И так велика была прозорливость старца, что, всего второй раз видя человека, он знал его душу и знал ее способность к величайшему, необыкновеннейшему подвигу.
Жизнь и все ее радости только что возвратились к Мантурову. Он снова был в цвете лет, обеспечен, доволен, свободен. А старец, радостно глядя на него, сказал:
– Вот, радость моя, все, что ни имеешь, отдай Господу и возьми на себя самопроизвольную нищету.
Что происходило тогда в пылкой, прямой, бесконечно благодарной душе Мантурова? Отказаться от свободы, идти на унижения, какие ведет за собой нищета?

Внутренний вид храма Рождества Христова. Фото начала XX в.
Мантуров принял этот подвиг, продал свои земли, крепостных людей отпустил на волю. Пришло время, чтоб чистая жертва Михаила Васильевича нашла себе достойную цель. Отец Серафим задумал устроить церковь и употребить на это деньги, вырученные от продажи земли.
Призвав к себе Михаила Васильевича, он объяснил ему свое намерение, высказал мысль, что паперть Казанского храма достойна стать алтарем, так как «матушка Агафия Симеоновна, стоя на молитве, всю ее потоками своих слез омыла», и просил Мантурова дать на этот храм свой капитал. Замечательно, что еще прежде другие лица вызывались выстроить храм для дивеевских сестер. Но старец отклонял эти предложения, а однажды сказал: «Не всякие деньги угодны Господу и Его Пречистой Матери, и не всякие деньги попадают в эту обитель. Другие-то и рады бы дать, да не всякие деньги примет Царица Небесная. Бывают деньги обид, слез и крови. Нам такие деньги не нужны».
Церковь эта была готова в 1829 году и посвящена Рождеству Христову. Старец торопился освятить ее. Святили без иконостаса и без входа. Из одного села привезли два местных образа; вместо крыльца поставили лесенку.
Существует предание, что Богоматерь явилась старцу и сказала ему: «Отчего ты не почтил Меня в новом храме?» И тогда старец решил устроить придел в честь Рождества Богоматери. Места для другого алтаря не было, и старец придумал под церковью вкопаться в землю и устроить полутемный храм. В нем очень тесные своды, висящие на четырех столбах, и он напоминает катакомбы. По завету старца в этом храме неугасимо теплится свеча пред иконою Спасителя и лампада пред иконою Богоматери. Старец придавал великое значение исполнению этого его завета. Действительно, великие беды постигли одно время обитель, когда эта заповедь старца была нарушена...
Много, много вынес на своем веку храмоздатель Мантуров: и унижения, и холод, и голод, и всякие оскорбления. По смерти старца он жил в Дивееве в маленьком срубе, который построил на 75 рублей ассигнациями, которые дал ему дивеевский священник отец Василий Садовский – ревностный почитатель отца Серафима. Эти деньги были последним сбережением священника на черный день.

Священник Василий Садовский с дивеевскими сестрами. Фото 1870-х гг.
Помня многие распоряжения старца, он, несмотря ни на какие гонения, старался, чтоб они исполнены были в Дивееве, когда в Дивееве распоряжался самовластный человек24, выше всего ставивший свою волю. Четверть века страдал Мантуров после кончины старца.
За несколько дней до смерти он видел во сне отца Серафима. Старец сказал ему: «Жди меня, я за тобой приду скоро. Благовестят. Ступай к обедне. Мы там вместе помолимся!» После молитвы старец сказал своему верному ученику: «Потерпим еще, батюшка, потерпим еще немного!»
7 июля 1858 года, накануне праздника той Казанской иконы, в честь которой воздвигнута Дивеевская первоначальная церковь, воздвигнутая для дивеевских сестер ценою добровольной нищеты Мантурова, Мантуров заказал обедню в пристроенной им Рождественской церкви и приобщился. После обедни он стал повторять церковнице некоторые распоряжения отца Серафима относительно этой церкви, что удивило сестер. Вернувшись домой и напившись чаю, Михаил Васильевич прошел в сад, почувствовал сильную усталость, присел на скамейку и тут же безболезненно почил смертным сном.
Светлая жизнь Мантурова, озаренная ореолом столь редкого духовного подвига, была хорошо известна его современникам. Как ценили его мирские люди, видно из следующих строк, написанных Саровскому игумену пензенским помещиком Михайловским-Данилевским (сыном знаменитого военного историографа), которого семья издавна имела отношения к Сарову и Дивееву и бабки которого, родовитые и богатейшие пензенские помещицы Чемодановы, были духовными дочерьми Агафии Симеоновны.
«Михаил Васильевич скончался. Два или три раза видел я его, но беседа с ним была мне очень впечатлительна. Нельзя ли собрать какие-нибудь хоть краткие, но верные сведения о его жизни: о подвиге бедности Бога ради, о излечении его отцом Серафимом и, наконец, о его блаженной кончине? Я напечатал бы эти сведения в одном из журналов. Право, оно было бы, во-первых, полезно для ближних, ибо может кто из читателей, прочтя о простоте жизни его, и опомнился бы, и, во-вторых, главное, было бы многопорочному и греховному миру напоминанием, что есть люди, пренебрегшие благами мира, и что все-таки свет их не забыл».
У меня есть фотография с портрета Михаила Васильевича. Чрезвычайно приятное, открытое, доброе и, вместе, красивое лицо с выражением полнейшей искренности и сердечности. Таким был он в жизни со своим веселым, простым нравом, со своей безграничною добротою. Когда я смотрю на это чисто русское лицо, мне все представляется, как старец Серафим, радостно смотря ему в глаза, говорит: «Вот, радость моя, все, что ты имеешь, отдай Господу и возьми на себя самопроизвольную нищету», – и все то великое, та конечная победа над миром и собою, что совершилась тогда в душе этого бесхитростного человека.
Вот и могила этого преданнейшего послушника великого Серафима. Сейчас с левого боку Рождественской церкви между церковною стеной и оградой есть узенькая полоса земли, поросшая густой травой. Среди этой полосы возвышается на кирпичном фундаменте простая деревянная доска с крестом из черного дуба. На стене церкви против могилы прибита икона Михаила Архистратига. Это последний, нынешний, не кричащий, как вся его жизнь, покой Михаила Васильевича. И вспоминаются у одинокой его могилы великие, сердце пронзающие слова о тех людях, которые «верою творили правду, как бы видя Невидимого, были тверды, испытывали поругания, скитались, терпя недостатки, скорби, озлобления, – те, которых весь мир не был достоин» (Евр. 11, 38).
Нет надписи на смиренной могиле Михаила Васильевича, но всякий раз, как я в глубокой задумчивости стою пред ней, поражаясь самою его преданностью отцу Серафиму, мне кажется, что чей-то тихий, ласковый голос шепчет простые, вечные слова: Претерпевый до конца спасется (Мк. 13, 13).
На кладбище при первоначальной Дивеевской, матерью Александрою строенной церкви нашли приют тоже близкие отцу Серафиму люди.
Вот маленькая кирпичная часовенка над гробом первоначальницы. Вот могила родной сестры Михаила Васильевича, Елены Васильевны, тоже имевшей совершенно необыкновенную жизнь.
Умная, бойкая, веселая, красавица с черной косой и черными глазами, сверкавшими умом и волею, она с юности любила светские забавы, наряды, шумную жизнь, многочисленное общество, и восемнадцати лет была невестой любимого человека. Вдруг безо всякой причины она ему отказала и говорила брату: «Не могу понять. Но почему-то он мне страшно опротивел!» Всею душою она отдалась тогда светской жизни, и это в связи с ее отказом жениху даже тревожило ее родных.
Как-то ехала она из одной дальней поездки одна в карете со своими людьми. На почтовой станции города Княжнина она послала людей в комнату готовить ей чай, а сама осталась ждать в карете. Когда слуга пришел доложить барышне, что все готово, он нашел ее в таком положении, что невольно вскрикнул и остолбенел. Она стояла во весь рост, высунувшись из кареты, держась судорожною рукой за дверцу, недвижимая, бледная, с невыразимым ужасом на лице. На крик лакея сбежались люди и внесли ее в комнаты. Долго сначала не могла она очнуться от своего оцепенения. Ей позвали священника, который все же мог ее исповедать и приобщить.
Вернувшись домой, она рассказала брату, что с нею было. Когда она, желая выйти из кареты, поставила ногу на подножку, то, взглянув кверху, увидала над головой страшного змия, изрыгавшего пламя. Он все ниже опускался к ней. Она не могла позвать на помощь и, наконец, с величайшим напряжением закричала: «Царица Небесная, спаси! Даю тебе клятву идти в монастырь!» Тогда призрак исчез.
Елена Васильевна совершенно изменилась. Полюбила церковь, духовное чтение, потеряла всякий вкус к мирской жизни. Она поехала к отцу Серафиму просить благословения на поступление в монастырь. Но долго испытывал ее старец, прежде чем послал погостить в Дивеево, и наконец заговорил, что время ей обручиться с Женихом. Когда она зарыдала в ответ на эти слова, старец ей объяснил, о каком Женихе он говорил. И стал отец Серафим ее ближайшим руководителем в жизни монашеской. Велел ей читать Псалтирь, а днем прясть, чего она тогда еще не умела. Заповедал ей как можно больше молчать, отвечая лишь на самые нужные вопросы, всегда быть занятой, больше поститься; от пробуждения до обеда творить молитву Иисусову, а от обеда до сна молитву «Пресвятая Богородице, спаси нас!».
«Вечером, – говорил ей старец, – выйди во двор и молись сто раз Иисусу, сто раз Владычице и никому не сказывай, а так молись, чтобы никто не видал. И пока Жених твой в отсутствии, ты не унывай, а крепись лишь и больше мужайся. Так молитвою, вечно неразлучной молитвою, и приготовляйся ко встрече с Ним».
Часто видали Елену Васильевну сидящей на крылечке ее кельи, выходившей на Дивеевскую церковь. Радуясь близости храма, она входила в свои думы, созерцая красоту неба, и губы ее тихо шептали никогда не замиравшую на них молитву.
Когда старец устроил в Дивееве мельницу и перевел к ней жить инокинь-девушек, чтобы отделить их от вдов, он назначил им начальницею Елену Васильевну. Но она сказала: «Лучше, Батюшка, прикажите, чтоб умерла у ваших ног; но начальницей быть не желаю».
Старец открывал Елене Васильевне судьбу Дивеева, говорил, что нигде еще не было женских лавр, а в Дивееве будет лавра; предсказывал о большом Дивеевском соборе; описывал, как расположатся постройки, и набросал собственноручно план, доселе хранящийся у дивеевской игумении.
Елену Васильевну старец посылал покупать тот клочок земли, который он определил для будущего большого Дивеевского собора, и, когда она привезла ему купчую, пришел в чрезвычайный восторг.
Подвиги свои Елена Васильевна тщательно скрывала. Она тайно помогала бедным. Дивеевские сестры были очень бедны и во всем нуждались, и часто Елена Васильевна передавала им что-нибудь как бы от чужого имени. Она питалась печеным картофелем и лепешками. То и другое висело в мешочках на крыльце ее кельи. Их выходило так много, что пекарша ворчала на нее, укоряя ее в жадности. И все это раздавалось втайне сестрам.
Отец Серафим дал ей послушание быть ризничего и церковницею и дал ей заповедь, выражающую взгляд старца на святость храма.
«Нет выше послушания, как послушание в церкви. Все, что ни творите в ней, как входите и исходите, – все должно творить со страхом и трепетом и непрестанною молитвою, и никогда в церкви, кроме необходимого, должного, церковного и о церкви, ничего не должно говориться в ней. Что краше, превыше церкви? Где же возрадуемся духом, сердцем и всем помышлением нашим, как не в ней, где Сам Владыка Господь наш с нами всегда присутствует!»
Обстоятельства кончины Елены Васильевны совершенно необыкновенны.
Брат ее, находившийся по поручению старца в отъезде, сильно заболел. Старец объяснил Елене Васильевне, что настала ему судьба умереть, но что его жизнь нужна для Дивеевской обители, и предложил ей послушание умереть за брата.
Старец долго беседовал с ней, успокаивая ее и говоря о сладости смерти, о безграничном счастье будущей жизни. Выходя от старца, Елена Васильевна упала; ее снесли домой. Она проболела несколько дней. Предлагали ей вызвать брата. Но она ответила: «Нет, не надо. Мне будет жаль его, а это помутит мою душу, которая не столь чистою уже явится к Престолу Божию».
Она почила после семи лет жизни в Дивееве, 28 мая 1832 года, за 7 месяцев до кончины великого старца, в возрасте 27 лет. Схоронена рядом с первоначальницею Агафиею Симеоновною, и на надгробном памятнике ее начертано, какую подвижническую и безмолвную жизнь она вела и как умерла из послушания старцу.
Тут же могила другой незабвенной из первоначальных дивеевских сестер, 19-летней Марии, в схиме Марфы. Она происходила из крестьянской семьи (Ардатовского уезда), находившейся под духовным руководством старца Серафима. Ей было 13 лет, когда старец велел ей остаться в Дивееве. Мария была избранная, необыкновенная душа, совершенно особенная, ангелоподобная на вид. У нее был высокий рост, прекрасное продолговатое лицо, дышавшее свежестью, голубые глаза, светло-русые брови и волосы. Тотчас по вступлении в общину она приступила к таким великим подвигам, что превосходила строгостью жизни самых опытных сестер. Она ничего не говорила, потому что всегда была занята молитвою. Только на самые необходимые вопросы отвечала с какою-то небесною кротостью.
С великою заботою следил старец за быстрым духовным ростом этого богоизбранного существа и почитал эту рано созревшую для Царства Божия душу. Он многое открывал ей. Говорил с нею и о будущем Дивеева и посвящал ее в великие духовные тайны. Мало сведений сохранилось о подробностях ее 6–7-летней жизни в Дивееве; но о духовной высоте ее можно судить по той цене, какую давал ей отец Серафим. Причина ее смерти объясняется следующими словами старца: «Когда в Дивееве строили церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы, то девушки сами носили камешки: кто по два, кто по три. А она наберет пять или шесть камешков и с молитвой на устах молча возносила свой горящий дух к Господу. Скоро и преставилась Богу!» Она почила 29 августа 1829 года. Предузнав час ее кончины, старец с плачем сказал тотчас своему соседу по келье, отцу Павлу: «Павел, а ведь Мария-то отошла. И так мне ее жаль, так жаль, что, видишь, все плачу».
Трогательны были заботы старца о ее погребении. Он послал ей дубовый цельный гроб, а сестре ее сказал: «Марию я посхимил. Она схимонахиня Марфа. У нее все есть: схима, и мантия, и камилавочка моя. Во всем этом положите ее». Еще послал старец в Дивеево 25 рублей на расходы по похоронам, 25 рублей меди, чтоб всем, кто ни будет на погребении, раздать по три копейки. На сорокоуст послал колоток свечей, чтоб, не переставая, горели в церкви ночью и днем, рублевую свечу желтого воску ко гробу и для отпевания полпуда двадцатикопеечных свечей.
Всех, приходивших к нему в те дни, старец направлял в Дивеево на похороны Марии: «Грядите, грядите в Дивеев. Там отошла ко Господу великая раба Божия Мария».
Положили юную схимницу в подаренных ей старцем вещах, в зеленой бархатной шапочке, в черной с белым крестом схиме и длинной мантии. Старец много говорил о том, как высока пред Богом жизнь этой верной по чистоте, равноангельской души. Так и почивают они рядом, три столпа Дивеевской обители: Агафия Симеоновна, Елена Васильевна, схимонахиня Марфа25.
Есть еще могила, к которой всегда подходишь, когда бываешь близ первоначального Дивеевского храма.

Часовни над могилами первоначальницы матушки Александры (Мельгуновой), монахини Елены (Мантуровой), схимонахини Марфы (Мелюковой) и надгробие над могилой Николая Александровича Мотовилова у Казанской церкви. Фото начала XX в.
В чугунной решетке стоит стоймя чугунная плита, покрытая зеленью растущих из камня березок. Вылитые чугунные буквы говорят, что здесь почивает коллежский советник, помещик Николай Александрович Мотовилов, исцеленный старцем Серафимом от тяжкой болезни и по кончине его послуживший Дивеевской обители имением своим.
Это тот самый Мотовилов, которого старец в молодых его годах исцелил от неизлечимой болезни ног одним словом своим 9 сентября 1831 года и многое открыл ему в беседах с ним. Мотовилов находился в Воронеже в день кончины старца, и знаменитый праведностью Воронежский архиепископ Антоний утром же (старец скончался ночью) указал ему, что в два часа пополуночи скончался старец Серафим. Очевидно, архиепископ Антоний получил об этом чудесное извещение.
Мотовилов на всю жизнь остался ревностнейшим почитателем памяти старца. Он собирал сведения о его жизни, между прочим, и на родине старца, в Курске, заботился о делах дивеевских и чтоб ничто из заветов старца насчет этой обители не было нарушено. Часто посещая Дивеево, он щедро подавал милостыню всегда бедствующим дивеевским сестрам. Еще помнят, как он со своею величественной красивой фигурой, с развевающимися волосами ходил по церкви с пуком свечей в руках, ставя свечи к образам, что он очень любил делать. Он оставил весьма ценные записки о старце Серафиме. Кое-что из них разобрано и напечатано в высшей степени интересных статьях благоговейного почитателя преподобного Серафима, г. Нилуса, в «Московских Ведомостях».
Мотовилов умер вдали от Дивеева, куда привезли его тело. Всю жизнь ревностно он чтил Богоматерь, и, когда его подвозили к Дивееву, случилось так, что навстречу ему несли торжественным ходом чудотворную Оранскую икону, обходящую ежегодно некоторые места Нижегородской епархии и именно тогда прибывшую в Дивеев.
Сколько воспоминаний над этими могилами, как глубоко невольно над ними задумаешься!
Есть еще в Дивееве заветная келья, заветная могила подвижницы, тоже совершенно необыкновенной, юродивой Пелагии Ивановны.
Происходя из зажиточной купеческой семьи Арзамаса, она рано вышла замуж за Серебренникова, купеческого приказчика, и как-то с мужем поехала в Саров. Старец Серафим очень долго, говорят, – около шести часов – беседовал с нею и дал ей четки. Следует полагать, что именно в это время он и возложил на нее чрезвычайный, тяжелый подвиг юродства.
Вернувшись в Арзамас, Пелагия Ивановна повела новую жизнь: молилась целыми ночами в холодной стеклянной галерее и начала юродствовать. Ею овладела та жажда вольного страдания и терпения мук и уничижения, которая составляет признак истинных «во Христе юродивых». Наденет, бывало, на себя самое дорогое платье, голову обернет грязной тряпкой и пойдет в народ, и чем над нею больше смеялись, тем больше она радовалась. Все это поведение так раздражало ее мужа, что он ее жестоко бил. Пелагия стала чахнуть, но не сдавалась. Она стала бегать по городу, уносила из дому вещи и раздавала их бедным. Им же отдавала деньги, которые ей совали из жалости в руки, или ставила на эти деньги свечи в церквях...
За ее побеги муж ловил ее и жестоко бил поленьями и палками, а ее ответом на все было: «Оставьте, меня Серафим испортил». Наконец, муж решился на еще более жестокую меру: он попросил городничего без пощады наказать жену его в полиции. Это было сделано с беспощадной лютостью, так что присутствовавшая при наказании мать Пелагии оцепенела от ужаса. Тело висело клочьями, кровь лилась на пол, а она не испустила ни одного слова.
И это не помогло. Тогда муж заказал железную цепь с железным кольцом, своими руками заковал жену и мог истязать ее, сколько хотел. Иногда ей хватало сил разрывать цепь, и, гремя ею, она полураздетая бегала по улицам. Муж ловил ее и заковывал на новые муки. Наконец вернул ее в дом ее отчима, где она тоже много терпела.
Случилось, что как-то раз мать ее послала Пелагию в Воронеж и Задонск. В Воронеже она со спутницами зашла к знаменитому архиепископу Антонию. Благословив всех, он велел ей остаться у себя и пробеседовал с нею три часа наедине, так что спутницы ее роптали, зачем он так долго говорил с «дурочкой». Выходя с нею, Антоний сказал: «Ну уж ничего не могу говорить тебе более. Если Серафим начал твой путь, то он же и докончит». А в обличение укоров «дурочке» архиепископ сказал богомолкам: «Не земного богатства ищу я, а душевного».
Узнав, что родные держат Пелагию на цепи, старец Серафим строго приказал отпустить ее. Она стала ночи проводить на погосте Арзамасской церкви, молясь всю ночь напролет под открытым небом, с поднятыми вверх руками и слезами. А днем в лохмотьях бегала по улицам.

Блаженная Пелагия Ивановна Серебренникова
Уже после кончины старца Серафима одна дивеевская инокиня взяла ее в Дивеев. И здесь она юродствовала. Летом и зимой ходила босиком, всячески себя истязала, питалась хлебом и водою. Сперва она все переворачивала и носила камни; потом привязалась к цветам, которыми были всегда полны ее руки. Она не давала себе отдыху. Днем иногда подремлет, а ночью молилась под открытым небом, обратясь лицом к востоку.
Последние годы жизни, достигнув глубокой старости, она проводила весь день на полу, на войлоке между дверей, желая, по-видимому, выбрать себе самое неудобное место. Тут посещали ее дивные видения. Из надзвездных высот спускался к ней, по преданию, таинственный гость, благословивший ее на безмерно великий ее подвиг: приходил из лучшего мира великий старец Серафим и утешал ее долгою, благодатною беседой.
Много народа шло к ней, уверенного в дарах ее прозорливости, примеров которой не перечесть, в силе ее молитвы.
Уже было сказано о том, как оценил ее замечательный подвижник Антоний Воронежский. Необходимо отметить отношение к ней митрополита Московского Филарета, столь чуткого в различении людей духовных. Был в жизни Пелагии Ивановны один высоко буйственный поступок. В Дивееве был возбужден раздор партий монахинь, отделившихся впоследствии от Дивеева и основавших Серафимо-Понетаевский монастырь. Пелагия Ивановна находила, что Нижегородский епископ Нектарий держит сторону неправых. Когда архиерей, ласково подойдя к ней, дал просфору, она его заушила.
Что бы, казалось, должен сказать на это Филарет, так высоко державший стяг епископства, такой противник какого-нибудь самочиния?
Он без всякого осуждения отзывается об этом происшествии в письме к лаврскому наместнику Антонию, своему духовнику. «Одна живущая в Дивееве и всеми уважаемая юродивая ударила епископа в щеку».
Так за безмерною дерзостью этой выходки мудрейший митрополит сумел различить великую исповедническую ревность.
Пелагия Ивановна скончалась 30 января 1884 года, 75 лет. При громадном стечении народа, собиравшегося во все те восемь дней, которые она стояла в зимней церкви, ее схоронили за алтарем большого Дивеевского собора. Высокий, тонкий, стройный чугунный памятник, как бы говорящий о постоянном устремлении души ее к небу, воздвигнут па ее могиле. На нем четыре надписи. Вот отрывки из них.
1) Пелагия Ивановна Серебренникова, урожденная Сурина, по благословению старца Божия иеромонаха Серафима, за святое послушание оставила все счастье земной жизни, мужа и детей, приняв на себя подвиг юродствия и приняла гонения, заушения, биения и цепи Христа Господа ради.
2) Все здесь претерпевшая и все превозмогшая силою любви твоей к Богу, любви Его ради потерпи нашу немощь духовную и крестом подвига твоего заступи нас.
3) На тернистом пути подвига твоего не оставляла ты никого, к тебе прибегающего; не забуди и там, в блаженстве вечной Божией славы, обитель, тобою излюбленную.
Мы, «мирские празднолюбцы», мало можем понять подвиг юродства. Безмерная скорбь об утраченном небесном отечестве, безмерное сочувствие мук Христа распятого и потребность всякую минуту жизни ощущать горечь страдания – вот основы юродства. Человек, в безумии отчаяния бьющийся у гроба любимого человека: вот с какою силою «Христа ради юродивый» ежечасно скорбит об изгнании из рая. И чем жесточе мучения его, тем больше утоляется жгущая душу его любовь ко Христу, и немыслимо для этой души ничего, кроме самого напряженного страдания там, на той земле, где Христос принял поругания, терн и Крест.
Как искренни, как честны и глубоки эти люди в святой своей скорби, в безумии своего отвержения мира и всего, что, отводя наши мысли от неба, отводит нас от пути к небу.
Вот, против и не особенно далеко от кельи первоначальницы Агафии Симеоновны, домик, где была келья Пелагии Ивановны.
В домике этом живет престарелая сестра, ходившая за подвижницею.
Вот и заветное место, где сидела она на полу, погруженная в молитву. Где приходили к ней люди из лучшего мира и сам дивный учитель ее Серафим. Со стены смотрит она с большого поясного портрета. Какое благородное, красивое лицо и сколько в нем безмерной скорби!
Дальше комната, где она скончалась, лишь за несколько дней до конца легши после свыше полувекового подвижничества в постель.
В витрине хранятся ее вещи: убогая одежда, одеяло, железный пояс, который восемь лет носила она на себе в миру, так что он врос в ее истерзанное тело, железная цепь, на которой муж и родная мать приковывали ее к стене.
А в углу – ее иконы: родительское благословение – Спаситель с Евангелием, раскрытым на словах: приидите, благословенный Отца Моего (Мф. 25, 34). Пред ними теплится красивая неугасимая лампада – совершенно такая же, как в келье Агафии Симеоновны. Обе поставлены известным почитателем старца Серафима и ревностным приверженцем его в Дивеевской обители, отцом Серафимом (Чичаговым).

Архимандрит Серафим (Чичагов), автор «Летописи Серафиме-Дивеевского монастыря». Фото 1903 г.
И здесь вы переживаете что-то неизъяснимое. Что-то согревающее, ласковое, ободряющее охватывает вас в этом месте жестокого подвига, великого вольного страдания. Так сочувственно, ободряюще, с чувством матери, смотрят вам в душу эти скорбные глаза «все претерпевшей и все превозмогшей силою любви к Богу».
Когда вы обойдете все эти места, все эти могилы, вы невольно изумляетесь той силе духа, которую показали эти люди.
Богатая барыня, ставшая скотницей сельского священника; человек, пошедший на вольную нищету; красавица, из светской блестящей девушки превратившаяся в молчальницу; таинственно прекрасный цветок, юная схимонахиня Марфа; закованная в цепи Пелагия; ради чего жили и мучились вольною мукою эти птенцы старца Серафима, эти «испорченные» им люди? Да, он для мира их испортил: искру тлевшего в них Божественного огня он раздул в такой стихийный пожар, который сжег в них последние связи с миром.
Есть дивное место в книге «Подражание Христу» в главе «О жизни вечной и о великих наградах, обещанных борцам»26, которое прекрасно объяснит судьбу таких людей. Христос говорит душе:
«Желания других сбудутся, а ваши желания будут бесплодны. Слова других будут выслушаны, а ваши слова останутся без значения. Другие будут просить и получать, вам откажут. О других будут говорить с большой похвалой, о вас никто не будет говорить... Но за ту жестокость к себе, с какою вы отреклись от своей воли, она будет вечно удовлетворена на небесах. Там вы найдете все, что только можете пожелать. Все блага придут к вам, и не будет уже боязни их потерять. И все предметы ваших желаний всегда пред вами, насытят и наполнят всю ширину вашего сердца. Там Я превращу в славу перенесенный вами позор, и за то, что вы стали на последних местах в жизни, вы будете иметь престол в Вечном Царстве».
Как велик должен быть учитель таких учеников, как верен был путь учеников такого учителя! «Потерпим еще, потерпим еще немного», – вспоминаются слова отца Серафима Мантурову незадолго до конца его.
Когда я в мыслях стараюсь собрать в одну горсть это святое дивеевское ополчение, в моих ушах звучат чудные слова песни, сложенной Церковью в честь мучениц, слова, которые с таким правом могла петь и эта дивеевская рать, слова всесовершенной отдачи души Богу, таинственного ее обручения со Христом.
«Тебе, Женише мой, люблю, и Тебе ищуще страдальчествую, и сраспинаюся, и спогребаюся крещению Твоему, стражду Тебе ради, яко да и царствую в Тебе, и умираю за Тя, да и живу с Тобою»27.
И они страдали за Него и теперь царствуют в Нем. Умерли за Него – и живы в Нем.
Как любил отец Серафим свой Дивеев!
Он даже выносил за него гонения. Все, что приносили посетители старцу в последние годы его жизни, – все то он отправлял в Дивеев. Игумену Саровскому это очень не нравилось, и он притеснял всячески дивеевских сестер. Случалось, что их даже обыскивали при выходе из Саровской ограды.
«Дивеевские сироты» – так звал он свою обитель, и сколько любви умиленной, сколько жаления в этих словах!
Никогда не бывая в Дивееве (он был там лишь два раза, молодым иеродиаконом, во время соборования Агафии Симеоновны), он знал там всякий колышек и в точности предвидел судьбу этой обители.
«Будет время, – говорил он, – что по убогом Серафиме взыщут вас, бедных девушек, великие лица и будут спрашивать о всех словах моих». Он говорил, что счастлив тот, кто хоть сутки поживет в Дивееве, потому что ежедневно Царица Небесная посещает этот «Свой жребий». Старец оставил завет, что всякий, кто послужит Дивееву, «помяновен будет пред Богом», даже тот, кто, не имея, чем помочь, вздохнет о «сиротах дивеевских», – и тот не утратит своей награды. Когда было старцу 25 марта 1831 года преславное посещение Богоматери, он долго молил Владычицу о Дивееве, потому что заботу о Дивееве принял он на себя по непосредственному Ее указанию.
И любили же старца в Дивееве... Прежний Саров был холоден к нему, не понимая, какое бесценное сокровище ему дано. Когда уже вся Россия тянулась к старцу Серафиму, когда, чуть не при жизни его, его изображения вешали с иконами, один Саров был равнодушен к этому яркому светильнику. Там ходила даже фраза, глубоко возмутительная по косности и непониманию подвижничества: «У нас все Серафимы».
Он скончался. Сестры дивеевские, как святыню, старались собрать у себя все, что относилось к старцу, а саровцы совершенно спокойно уступали им эти вещи, не догадываясь и тогда, что не пройдет трех четвертей века, как эти лапти и мантия, рукавицы, топорики и мотыжки «убогого Серафима» станут заветными святынями русского народа.
И так собрались здесь ближняя и дальняя пустыньки старца, вся его одежда и обувь; Евангелие, которое он всегда носил в суме за плечами, книга, загоревшаяся при его кончине; пни деревьев, служившие ему стулом; его иконы, его топорики и мотыки, камни, на которых он прошел подвиг столпничества, его келейная икона Богоматери «Умиление», пред которой в коленопреклоненной молитве он скончался. Здесь за много лет до его церковного прославления был готов алтарь во имя его.
В Дивееве же лежат и те люди, которые служили ему, страдали за него, которые больше своей души любили «убогого Серафима».
Если вашего сердца коснулся покоряющий образ старца Серафима, если вам хочется чем-нибудь послужить ему – послужите бедствующему доселе Дивееву и в его убожестве живущим сестрам. Еще же молитвой послужите тем единомышленникам и друзьям Серафимовым, которые здесь почивают. Старец при жизни всегда просил молиться о близких ему покойниках. Потому, если вы хотите порадовать его, вслед за именами родителей его Исидора и Агафии, и старцев его, Иосифа, Пахомия и Исаии, запишите в ваших помянниках имена стариц Агафии и Пелагии, схимонахини Марфы, боляр Михаила, Елены (Мантуровых) и Николая (Мотовилова), и отрадна будет эта забота ваша заботливой душе старца Серафима.
Ведь и сам он «живет в Дивееве». Здесь кроткий его, невыразимо привлекательный дух. Здесь невидимо обласкает он и утешит всякого приходящего.
Как-то раз один странник заблудился в дивеевских дорожках; навстречу ему старый согбенный старичок, и вывел его куда надо.
– Кто ты, дедушка?
– А я тут живу, – отвечал старичок и скрылся.
Странник в изображениях дивного Серафима узнал этого живущего в Дивееве старичка.
Дивеев, Дивеев, какая-то притягивающая сила заключена в тебе! Стоишь ты в плоской скучной местности, и как много красивее тебя расположены другие обители. Но отчего так тянет к тебе, так вдруг затоскует в миру душа по твоим деревянным домикам, по заветным кельям и могилам твоих подвижниц, и хочется на крыльях лететь к тебе, часто-часто видеть тебя и сложить кости в твоей благословенной земле.
И стоишь ты в сердце, вечно дорогая, вечно таинственная, тихая девственная обитель, вся в ореоле святыни, вся гласящая о твоем Серафиме.
Или духом живет здесь он, или ежедневно посещает тебя твоя Небесная Игумения?
В чем сила твоя? Не знаю места отраднее тебя.
Велика Москва с чудотворцами, Лавра Сергиева с дремлющим в живом творческом сне игуменом Русской земли; безгранично дороги горы киевские, с которых брызнул на Русь свет веры, которые родили столько преподобных, – Саров с ракой кроткого, непостижимого Серафима. Но только в тебе душа испытывает это чувство небесного. И не знаешь уже, когда ходишь по Дивееву, где кончилась земля и началось небо, – стерты границы, небесное переплелось с земным.
Как давно было то, что прославило те заветные места! Как временем к нам близки, как благоухают свежестью твои святыни!
Что за счастье бродить по Дивееву: пройти по Канавке, где прошли стопы Царицы Небесной, зайти к «одежке» старца Серафима, в келью матери Александры, в богозданный собор и долго созерцать величие иконы «Умиление»; стараться воскресить в мыслях добрую улыбку Михаила Васильевича, зреющую для рая красоту схимонахини Марфы, тихие, мудрые речи Агафии Симеоновны.
А когда зажгутся звезды над широко раскинувшеюся обителью, и Ангелы Божии залюбуются на тебя, и в ночи живее станет и ближе твое прошлое, тогда душа словно совсем отделяется от земли и вступает в вечность – не рассказать словами, что перечувствуешь тогда, и только твердишь одно: «Земное небо, земное небо!»
Посетив памятные места дивеевских подвижниц, я направился к вещественным воспоминаниям о самом старце Серафиме – его кельям. Ближе от собора находится ближняя пустынька старца. Она заключена в деревянное строение, для сохранности, так что можно обойти кругом всего домика. Самый домик-пустынька состоит из крошечных сеней и крошечной комнатки, полуосвещенной лампадою, горящей пред большим образом Спасителя; зажегши свечу, можно рассмотреть находящиеся в комнате большой, в рост, портрет старца в последние годы его жизни, а также изображение его в гробу, второе – очень неважной работы.
На портрете старец представлен с чрезвычайно изможденным лицом, совсем сгорбленным, с выражением и в лице, и в позе конечного изнеможения, с характерной глубокой складкой у переносицы.
Этот портрет, производящий сильное впечатление своею как бы суровостью, где отец Серафим является действительным «пустыни жителем», разнится от известного серебряковского портрета, где старца невольно назовешь «во плоти ангелом». Между тем и тот и другой можно считать удачными и похожими на старца. Современница отца Серафима, живущая доселе в Дивееве, вдова Николая Александровича Мотовилова, Елена Ивановна, говорит, что и тот и другой портрет похожи. Надо думать, что у старца Серафима, при его живом, впечатлительном характере, очень часто менялось выражение лица. Портрет в ближней пустыньке изображает его, погруженного в задумчивость или в созерцание людского горя; портрет серебряковский – в его радостные минуты, например, когда он после Причастия возвращался из церкви к себе в келью и имел, по свидетельству очевидцев, удивительно лучезарное выражение.
Вопрос об иконах преподобного Серафима, очень важный вопрос, получил, кажется, не совсем правильное разрешение. Большинство икон, чего, впрочем, и следовало ожидать, пишутся чрезвычайно сухо. Если икона имеет целью не только напоминать об известном святом, но воспоминанием этим растрогать душу, настроить на молитву, то бесконечно важно и святых изображать в самые трогательные моменты их жизни.

Преподобный Серафим Саровский. Портрет второй четверти XIX в.
Нельзя достаточно настаивать, например, на том, чтобы преподобного Сергия изображать в посещении его Богоматерью, святителя Спиридона Тримифунтского – в ту минуту Вселенского Собора, когда этот пламенный поборник догмата Святой Троицы, взяв в руки кирпич, сравнил Троичность Божества с тремя стихиями, водой, землей и огнем, образовавшими этот кирпич, и по его слову кирпич мгновенно разложился в эти три элемента.
А как тепло действуют на душу изображения святителя Николая, бросающего ночью золото отцу «трех дев» или избавляющего «неповинных от смерти».
Так и старца Серафима следует, по возможности, изображать не в сухой схиме монаха в черной мантии, с благословляющею рукой, а молящимся на камне в лесу или во время посещения его Богоматерью. Особенно, как мне приходилось замечать, «Моление на камне», с этим художественным контрастом белой одежды старца и темной зелени соснового бора, производит чрезвычайно сильное впечатление.
...Отрадно находиться в этой темной келейке, чувствовать всю запечатлевшуюся здесь святость этого необыкновенного человека и думать о нем, вглядываясь в черты его изможденного лица. Слава Богу, в этой келье все по-старому, все без изменения.
А вот еще другое заветное место – неподалеку от ближней пустыньки находится кладбищенская Преображенская церковь. В ней алтарь сделан из стен дальней пустыньки старца, где он прожил в лесной глуши и в полном уединении много лет, где совершил все свои величайшие аскетические подвиги, где он молился тысячу дней на камне, где кормил медведя хлебом, которого и так у него было немного, где три года пропитался исключительно отваром травы снитки.
В самом алтаре хранились некоторые предметы, принадлежавшие старцу. Камень, тот келейный камень, на котором он, совершая свое тысячесуточное моление и молясь ночью в лесу, молился днем; его несколько келейных икон, тот подсвечник, от которого загорелась при его кончине книга, что и было причиною, почему взломали тогда его дверь; Евангелие, которое он постоянно носил в суме на плечах.
Вокруг кельи алтаря идет коридор, и с наружной стороны алтарной восточной стены устроена была под большим, во весь рост, портретом старца Серафима простая длинная деревянная витрина, со стеклянной подъемной крышкой, и в этой витрине лежала разная одежда старца Серафима; поэтому все это здание, вся церковь, на языке дивеевских инокинь, и называется кратким словом «одежка»: «у одежки много богомольцев», «я пойду к одежке».
Едва ли есть храм оригинальнее этого по простоте и расположению. Несколько икон в иконостасе, стены пустыньки без всякой отделки, во всей своей неприкосновенности...
Как хорошо бывало здесь раньше, до того наплыва богомольцев, какой произошел при вести о канонизации преподобного Серафима.
Бывало, выбрав время потише, придешь один в эту церковь и осмотришь с монахинею, которая ею заведует, все эти драгоценности. В алтаре она отопрет шкатулочку, где в порядке, завернутые в чистом полотне, лежат и Евангелие старца, и его крест, потом пойдешь к витрине и долго смотришь на все эти знакомые предметы: большие, на толстых подошвах, кожаные коты, лапти, полушубок, мантии, наметки. Какое-то особое тонкое благоухание исходит от этих вещей, и когда, бывало, положишь голову, зароешься лицом в какой-нибудь полушубок или мантию, так и кажется тебе, что ласковый, старческий голос шепчет над ухом:
– Ну что, радость моя? Зачем пришел к убогому Серафиму?
Так было прежде. Теперь не то. Я увидал по стенам храма и пред солеей великолепнейшие бронзовые витрины, с толстейшими прекрасными стеклами. В этих витринах были размещены эти знакомые сокровища – вещественные воспоминания о старце Серафиме. Все это было под ключом, недоступно, видимо только глазу, и мне стало грустно и тяжело.
Это было первое шевеление того чувства, которое мною, как человеком, не раз посещавшим Саров и Дивеев, овладевало во время торжеств его прославления.
Старец Серафим был как бы отнят от нас, людей, его знавших и безгранично, восторженно чтивших в тишине своей души. Он был для нас святой, быть может, самый близкий и дорогой, но святой не календарный, святой нашего внутреннего существа, нашего одиночного сознания, наша заветная, тайная и невысказанная святыня.
В том, как чтили мы его, еще не признанного Церковью, было какое-то особое счастье. Мы теплили лампады пред его изображениями, изображениями, которые мы считали иконами, хотя вокруг головы его не было венчиков.
Что за радость была приехать к нему в Новый год, накануне его памяти, и в ту ночь, как совершилось таинство его смерти, стоять одному у его могилы, идти одному в его келью, где просияли последние годы его жизни и откуда в ликующее небо полетел его великий дух, и быть так, один на один с ним, и шептать ему, с простотой и доверием ребенка, все, что скопилось для него в душе, что возбудил в этой душе его образ... И вдруг... теперь – витрины, бронза и стекла, полиция и народ, нескончаемые, неизбытные волны народные, и никогда уж, никогда вокруг него не будет этой сладкой тишины прежних дней, этой возможности побывать у него наедине.
И вот сжимает душу это чувство тонкого, духовного эгоизма там, где надо бы радоваться.
Исполнилось над ним евангельское слово: Ему подобает расти (ср.: Ин. 3, 30). И с замиранием сердца думаешь: «Теперь, когда отовсюду стали звать тебя и у твоего гроба бушует нескончаемое море голов, бьются все сердца человеческие с требованиями, с желаниями, с надеждою на тебя, забудешь ли ты тех, кто и прежде ходил к тебе; тех, кто давно поклонился тебе всем существом своим, прежде чем твое имя промчалось по Русской земле, тех, которые окружили твой сотканный из лучших солнечных лучей образ всею верною и восторженною привязанностью, на какую способно человеческое сердце. Неужели же теперь, с прославлением твоим, с новыми бесчисленными детьми твоими, они будут тобою оставлены и осиротеют?»
У «одежки» преподобного Серафима я наслышался о многих бывших за последнее время чудесах. Между прочим, послушница, племянница монахини, которая приставлена ходить за Преображенскою церковью, зимою была исцелена у источника отца Серафима от многолетней тяжкой болезни. Теперь она, свежая, веселая, прибирала церковь, радостно смеялась и говорила, что все время после исцеления у нее чрезвычайный аппетит.
Так как шла еще служба, я не мог посетить настоятельницу дивеевскую, матушку игумению Марию.
Почтенная, стойкая женщина! При своем очень преклонном возрасте она так же мудро правит этою многочисленнейшею в России обителью, одушевляемая верою в предстательство за эту обитель пред Богом старца Серафима, как правила ею уже многие десятилетия. Безграничная вера в помощь старца не оставляла ее в самых трудных обстоятельствах. А скорби, перенесенные ею в прежние времена, были громадны. Иногда приходилось так тяжело, что, как мне рассказывали, бывали случаи, что мать Мария от страданий за обитель падала без чувств.
Теперь эти дни миновали, и как было не радоваться за эту старицу, что Бог привел ее дожить до столь горячо желанного события.
Есть еще замечательнейшая личность в Дивееве, современница старца Серафима, Елена Ивановна Мотовилова.
Она родная племянница той юной схимонахини Марфы, о которой было выше рассказано, и маленькой девочкой, часто бывая в Сарове со своими тетками, видала старца Серафима. Великий старец по своей прозорливости знал, что она выйдет замуж за Мотовилова и чрез мужа станет благодетельницею Дивеева. Он часто низко кланялся ей, тогда крестьянской девочке, и называл ее «госпожа».

Игумения Серафиме-Дивеевского монастыря Мария (Ушакова). Фото 1887 г.
Слушать воспоминания ее о старце Серафиме чрезвычайно отрадно. Вот, между прочим, интересная подробность. Как-то я спросил Елену Ивановну, в хороших ли отношениях были Михаил Васильевич Мантуров и ее муж.
– Приятели! Когда мы, бывало, из симбирского имения Николая Александровича приезжали в маленькую усадьбу, что у него была близ Дивеева, как под вечер явится к нам Михаил Васильевич – так я уж и знаю, что они в кабинете до утра проговорят. И только ведь и говорили о старце Серафиме.
Интересна же эта подробность тем, что показывает, до какой степени в близко знавших тогда старца людях оставалось глубокое впечатление от его личности, что много лет спустя, часто видясь, они все еще не успели всего переговорить о старце.
Сколько воспоминаний, картин, портретов, святынь в уютных кельях Елены Ивановны.
Оригинальные, в разных позах, кроме как у нее, нигде мною не виденные изображения старца. Вот прекрасный портрет архиепископа Антония Воронежского, опять иной, чем распространенные его портреты, и много других интересных вещей. Некоторые из бывших у нее вещей, принадлежавших старцу Серафиму, Елена Ивановна отдала недавно в Дивеевскую Преображенскую церковь, к прочей «одежке» старца.
Елена Ивановна была при подъеме из могилы гроба старца, недавно совершившемся в Дивееве. Мне рассказывали, что, когда гроб стал подыматься, она с плачем воскликнула: «Дорогой ты наш, видела я, как тебя в могилу клали, а теперь на моих глазах мощи твои подымаются!»
Еще успел я побывать в двух дивеевских учреждениях, которых всегда стараюсь не миновать: в фотографии и живописной.
Большие бревенчатые светлые покои живописной полны картин-образов, и прежних, стоящих как модели, и вновь изготовленных. Когда строился Дивеевский собор, в Петербурге, под покровительством Великой княгини Марии Николаевны, которая была президентом Академии художеств, обучались живописи дивеевские послушницы. Находящиеся посейчас в мастерской картины петербургского происхождения – этой именно эпохи. Обучавшиеся в Петербурге сестры дивеевские и расписали потом так превосходно Дивеевский собор.–

В живописной мастерской Серафимо-Дивеевского монастыря. Фото 1908 г.
Хорошо в этих больших покоях, где приятно пахнет красками и за мольбертами стоят и сидят послушницы с кистями в руках. Теперь они пишут большею частью изображения старца Серафима. Окончательную отделку лику дает обыкновенно старшая по живописной, мать Серафима. (Несмотря на то, что имя старца так почитается в Сарове, кажется, только две или три монахини во всем Дивееве носят его.)
Вот, чрез коридор, заветная комната, где работает всегда неутомимая, всегда вдохновенная мать Серафима, обыкновенно со своею помощницею, приветливою и деятельною Лидией Ивановной.
Мне кажется, что мать Серафима получила от Бога дар влагать столько духовности, столько мягкой и покоряющей силы в изображения старца Серафима. Знаю одно – что нет изображения старца, писанного вне Дивеева, которое могло бы выдержать какое-нибудь сравнение с дивеевскими ликами старца.
Пред ними стоишь, поражаясь невольно этой торжествующей святости, этой тихости, этой детской чистоте, безграничной мягкости и ласковости, вложенными в черты старца. Как весь он светится светом, какая на дивеевских изображениях в нем притягивающая сила!
За последнее время одна лишь подробность мне не нравилась: золотые сияния, которые стали делать вокруг головы старца, были слишком массивны и давили эту голову. Гораздо художественнее делать эти сияния в виде отсвета, негрубых, тонких лучей вокруг головы.
В мастерской матери Серафимы стоит всегда много изображений старца разных размеров и в разных видах.
Мать Серафима, нестарая еще на вид монахиня, с очень приятным энергичным лицом. Начнешь с нею рассматривать ее работы, спрашиваешь, куда что заказано:
– Нет ли у вас, мать Серафима, чего-нибудь продажного? Уж, наверно, есть что-нибудь такое, чего у меня нет. Вот это, например?
– Нельзя, нельзя это продать, с этого мы пишем, это оригинал.
– А вот этот старец с медведем, он мне очень нравится, очень тепло написан.
– Да он еще не окончен и, видите, лаком не покрыт.
– А по-моему, кончен. Велите его покрыть лаком, и готово, я его возьму. Мне даже больше нравится, что елки смутно вырисованы.
Так всегда почти, как мать Серафима ни защищает находящиеся у нее в мастерской прежние изображения старца, удается вывезти от нее что- нибудь оригинальное и интересное.
Раз я нашел у нее на цинковой дощечке удивительное, лучезарное какое-то изображение отца Серафима, другой раз мне посчастливилось найти не особенно маленький камень, из той скалы-камня, на котором молился старец тысячу ночей. На камне с умилительной теплотой была нарисована сцена кормления медведя – лес и бревнышки, на которых сидит старец, держа в одной руке хлеб, ласково протягиваемый медведю, а в другой – прутик, вероятно, для удержания зверя в повиновении, и все это так светло, наивно и обаятельно-детски, что трогает чуть ли не до слез: вот действительно «воплоти ангел и пустыни житель»28.
Замечено, что достаточно сильно желать иметь изображения отца Серафима, чтоб они сами давались вам в руки. Старец идет сам навстречу тем, кто его ищет, и я знаю случаи, как с изумительною последовательностью, сцеплением разных случайностей, в одних руках сосредоточивались целые коллекции редких изображений старца Серафима.
Куски камня старца особенно теперь ценятся, потому что их почти невозможно иметь: все они хранятся в разных семьях как заветные святыни, и никто расстаться с ними не хочет.
Кажется, Николай Александрович Мотовилов первый стал брать куски от этого камня. Он также доставал их с нарисованным на них изображением молящегося старца членам Императорской Фамилии.
Когда я стою в мастерской матери Серафимы, я чувствую, как много делает эта славная труженица для распространения почитания старца.
Художественное изображение необыкновенно сильно действует на внутренний мир человека и запечатлевается в нем. Быть может, человек, в детстве любивший картину со стареньким пустынником, впоследствии утратит веру, но этого кроткого лика старца Серафима все же никак не выкинет из своей души, и в свое время этот лик согреет окаменевшее сердце, вызовет в нем слезы и воскресит веру былых дней...
Надо было прощаться с Дивеевым после нескольких проведенных в нем и как миг пролетевших часов. Уже в Сарове один мой петербургский знакомый сказал мне, что Дивеев ему менее нравится, чем столь деятельные молодые женские монастыри северо-западного края.
Конечно, там больше работают. Здесь же больше чувствуют. И в этом значение Дивеева.
Именно в те часы, когда душа ваша устала от пошлости, когда сердце просит «высокого», когда все существо ваше жаждет осязательной вести из потусторонней жизни, тогда вы вспомните о Дивееве.
Как не будет деятельности, в грубом житейском смысле, в будущем ликующем Царстве, так же мало ее и в Дивееве, хотя и в нем и мастерские, и свои заводы, и школы.
Живая ограда вокруг тех неизмеримо великих событий и лиц, которые здесь жили, здесь совершались; пламенеющая, не перестающая любовь и хранение преданий о всем, что здесь просияло, – вот значение современного Дивеева. И душе, той душе, которую так гнетет суета и внешние заботы мира, ни одно место во вселенной не даст той отрады, как этот мистический, тихий Дивеев.
Пред отъездом из Дивеева мне захотелось в гостинице выпить чаю, и здесь я встретился в первый раз с одним из тех неудобств, какими полна была жизнь приехавших на торжества.
Ресторатор, снявший в Дивееве буфет, объявил, чтоб в гостинице не было выдаваемо никаких съестных припасов, и за каким-нибудь стаканом молока приходилось идти в ресторан.
Ресторан представлял из себя деревянный навес с простыми столами и лавками. Служащие были очень мало расторопны; цены на все высокие. За одним из столов, неподалеку от меня, сидели какие-то петербургские господа и рассказывали друг другу о виденных ими исцелениях, о некоторых типах среди богомольцев. Какая-то крестьянская семья из Сибири, чтоб совершить богомолье в Саров, распродала свой дом и имущество и двинулась на возах, путешествуя много недель.
На выезде из Дивеева стояли деревянные бараки для простонародных богомольцев. Я вошел в один из них. Сверху, с полатей, слышен мерный голос. Молодой человек, аскетического вида, читал листок о каком-то святом. Несколько богомольцев и солдат его внимательно слушали.

Богомольцы около деревянного барака для паломников. Фото 1903 г.
Я быстро ехал к Сарову. Невольно мне думалось о том времени, когда я, бывало, совершал этот переезд из Дивеева в Саров или обратно по пустынной местности, изредка лишь обгоняя богомольцев, а теперь оживает Серафим, говорил я себе, и к нему, как при жизни, стремятся народные волны.
Уже после события 19 июля 1903 года вышла брошюра госпожи Аксаковой «Отшельник 1-й четверти 19-го столетия и паломники его времени», которая с удивительною яркостью передает как самый образ старца Серафима, так и то впечатление, которое он производил на своих посетителей.
Госпожа Аксакова в детстве ездила с родителями и семьею из Нижнего, где они жили, в Саров.
«В первую ночь нас, детей, не будили к заутрени, и попали мы лишь к обедне. Отца Серафима у служб не было, и народ прямо из церкви повалил к тому корпусу, в котором находился монастырский приют отшельника. К богомольцам примкнула и наша семья. Долго шли мы под сводами нескончаемых, как мне тогда казалось, темных переходов. Монах со свечой шел впереди. “Здесь”, – сказал он и, отвязав ключ от пояса, отпер им замок, висевший у низенькой, узкой двери, вделанной вглубь толстой каменной стены.
Нагнувшись к двери, старик проговорил обычное в монастырях приветствие: “Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас”. Но ответного “Аминь”, как приглашения войти, не последовало. “Попробуйте сами, не откликнется ли кому из вас”, – сказал старик вожатый, обращаясь к богомольцам. Обычный возглас у закрытой двери повторил и отец мой, и другие, пробовали и женщины, и дети... “Коли не ответил, стало быть, старца-то и в келье нет, – пояснил вожатый. – Идти разве понаведаться под окном, не выскочил ли он, как послышался грохот вашего поезда на двор”. Мы вышли за седеньким вожатым из коридора другим, уже более коротким путем. Обогнув за ним угол корпуса, мы очутились на небольшой площадке под самым окном старца
Серафима. На площадке этой между двумя древними могилами, действительно, оказались следы от двух, обутых в рабочие лапти, ног. “Убег”, – озабоченно проговорил седенький монашек, смущенно поворачивая в руках ненужный теперь ключ от опустевшей кельи. “Эхма”, – глубоко вздохнул он, смиренно возвращаясь к делу своего послушания как вожатая богомольцев по монастырской святыне.
Отец игумен благословил нас, богомольцев, отыскивать отца Серафима в бору. “Далеко ему не уйти, – утешал игумен, – ведь он сильно калечен на своем веку. Сами увидите: где рука, где нога, а на плечике горб. Медведь его ломал... люди ли били... ведь он что младенец, не скажет. А все вряд ли вам отыскать его в бору. В кусты спрячется, в траву заляжет. Разве сам откликнется на детские голоса. Забирайте детей-то побольше, да чтоб наперед вас шли. Непременно бы впереди бегли”, – кричал еще игумен вослед уже двинувшейся к лесу толпе.
Лес становился все гуще и рослее. Нас все более и более охватывало лесною сыростью, лесным затишьем и терпким непривычным запахом смолы. Под высокими сводами громадных елей стало совсем темно... И деревенским, и городским сделалось жутко в мрачном бору. Хотелось плакать...
По счастью, где-то вдалеке блеснул, засветился солнечный луч между иглистыми ветвями... Мы ободрились, побежали на мелькнувший вдалеке просвет и скоро все врассыпную выбежали на зеленую, облитую солнцем поляну.
Смотрим – около корней отдельно стоящей ели работает, пригнувшись чуть ли не к самой земле, низенький, худенький старец, проворно подрезая серпом высокую лесную траву Серп же так и сверкает на солнечном припеке.
Заслышав шорох в лесу, старичок быстро поднялся, насторожив ухо к стороне монастыря, и затем, точно спугнутый заяц, проворно шарахнулся к чаще леса. Но он, не успев добежать, запыхался, робко оглянувшись, юркнул в густую траву недорезанной им куртины и скрылся у нас из виду. Тут только вспомнился нам родительский наказ при входе в бор, и мы чуть ли не в двадцать голосов дружно крикнули: “Отец Серафим! Отец Серафим!”
Случилось как раз то, на что надеялись монастырские богомольцы. Заслышав неподалеку от себя звук детских голосов, отец Серафим не выдержал в своей засаде, и старческая голова его показалась из-за высоких стеблей лесной травы. Приложив палец к губам, он умильно поглядывал на нас, как бы упрашивая ребяток не выдавать его старшим, шаги которых уже слышались в лесу.
Смоченные трудовым потом желтоватые волосы пустынника мягкими прядями лежали на высоком лбу; искусанное лесной мошкарой лицо его пестрело запекшимися в морщинах каплями крови. Непригляден был вид лесного отшельника. А между тем, когда, протоптав к нам дорожку через всю траву, он, опустившись на траву, поманил нас к себе, крошка наша Лиза первая бросилась к старичку на шею, прильнув нежным лицом к его плечу, покрытому рубищем. “Сокровища, сокровища”, – приговаривал он едва слышным шепотом, прижимая каждого из нас к своей худенькой груди.

Паломники у колодца в ближней пустыньке. Литография XIX в.
Мы обнимали старца, а между тем замешавшийся в толпу детей подросток, пастушок Сема, бежал со всех ног к стороне монастыря, зычно выкрикивая: “Здесь, сюда. Вот он... Вот отец Серафим. Сю-ю-да-а”. Нам стало стыдно. Чем-то вроде предательства показались нам и выкрикивания наши, и наши объятия. Еще стыднее стало нам, когда две мощные запыхавшиеся фигуры, не помню, мужчин или женщин, подхватили старца под локотки и повели к высыпавшей уже
из лесу куче народа. Опомнившись, мы бросились вдогонку за отцом Серафимом... Опередив своих непрошеных вожатых, он шел теперь один, слегка прихрамывая, к своей хибарке над ручьем. Подойдя к ней, он оборотился лицом к поджидавшим его богомольцам. Их было очень много. “Нечем мне угостить вас здесь, милые, – проговорил он мягким, сконфуженным тоном домохозяина, застигнутого врасплох среди разгара рабочего дня. – А вот деток, пожалуй, полакомить можно”, – вспомнил он, как бы обрадовавшись собственной догадке. И затем, обратившись к подростку, брату нашему, сказал: “Вот у меня там грядки с луком. Видишь? Собери всех деток, нарежь им лучку, накорми их лучком и напой хорошенько водой из ручья”. Мы побежали вприпрыжку исполнять приказание отца Серафима и засели между грядками на корточках. Луку, разумеется, никто не тронул. Все мы, залегши в траве, смотрели из-за нее на старичка, так крепко прижавшего нас к груди своей.
Получив его благословение, все стали поодаль почтительным полукругом и так же, как и мы, смотрели издали на того, кого пришли посмотреть и послушать.
Много было тут лиц, опечаленных недавним горем. Большинство крестьянок повязано было в знак траура белыми платками. Дочь старой няни нашей, недавно умершей от холеры, тихо плакала, закрыв лицо передником.
“Чума тогда, теперь холера”, – медленно проговорил пустынник, как будто припоминая про себя что-то давно, давно минувшее.
“Смотрите, – громко сказал он, – вот там ребятишки срежут лук, не останется от него поверх земли ничего... Но он подымется, вырастет сильнее и крепче прежнего... Так и наши покойнички – чумные и холерные... и все восстанут лучше, краше прежнего. Они воскреснут. Воскреснут.
Воскреснут, все до единого...”
Не к язычникам обращался пустынник с вестью о воскресении. Все тут стоявшие твердили смолоду “о жизни будущего века”29. Все менялись радостным приветствием в “Светлый день”. А между тем это громкое “Воскреснут. Воскреснут”, провозглашенное в глухом бору устами, так мало говорившими в течение жизни, пронеслось над поляной, как заверение в чем-то несомненном, близком.
Стоя перед дверью лесной своей хижинки, за которой нельзя было ни стать, ни лечь, старик тихо крестился, продолжая свою молитву, свое немолчное молитвословие... Люди не мешали ему, как не мешали непрестанной его беседе с Богом ни работа топором, ни сенокос, ни жар, ни холод, ни ночь, ни день.
Молился и народ.
Над смолкнувшей поляной как будто тихий Ангел пролетел.
В обратный к монастырю путь мы шли уже одни, семьей своей, соображаясь с усталой походкой бабушки, матери моего отца. С нами были только Алексей Нефедович, да длинный ряд домочадцев тянулся на некотором расстоянии позади. Толпы богомольцев уже вступали в монастырские ворота, когда мы все еще не выходили из широкого прохладного просека, в конце которого виднелись вдалеке главы монастырского собора.
Отец мой тихо запел – что он всегда делывал, когда был между своими и ему было хорошо на душе, запели, как всегда, и обе старшие сестры и брат-подросток своим ангельским, еще полудетским голосом; подтягивал им глубокий тенор Прокудина. Отделившись от прочей прислуги, двинулись стороной Семен и Василий, обычные басы наших семейных песен, и скромный, но стройный хор огласил высокие своды просека: “Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим и молимтися, Боже наш, Боже наш, Боже наш...” Звуки последнего “Боже наш” еще замирали в вышине, когда мы тихо выступали на монастырскую поляну. А между тем кроткий облик лесного старца невольно носился перед глазами поющих. Сестренка моя, Лиза, та самая, которую так обнимал отец Серафим, называя ее сокровищем, сестренка моя крепко держалась за меня обеими руками. При выходе из лесной темноты она сжала мою руку и, взглянув мне вопросительно в лицо, проговорила: “Ведь отец Серафим только кажется старичком, а на самом деле он такое же дитя, как ты да я. Не правда ли, Надя?”
Много с тех пор в продолжение следующих семидесяти лет моей жизни видала и умных, и добрых, и мудрых глаз, много видала и очей, полных горячей, искренней привязанности, но никогда с тех пор не видала я таких детски-ясных, старчески прекрасных глаз, как те, которые в это утро так умильно смотрели на нас из-за высоких стеблей лесной травы. В них было целое откровение любви...
Улыбку же, покрывшую это морщинистое, изнуренное лицо, могу сравнить только с улыбкой спящего новорожденного, когда, по словам нянек, его еще тешат во сне недавние товарищи – Ангелы.
На всю жизнь памятны остались мне саженки мелких дров, вперемежку с копнами сена, виденные мной в раннем детстве моем на лесной прогалине, среди дремучего леса, посреди гигантских сосен, как будто стороживших этот бедный, непосильный труд хилого телом, но сильного Божией помощью отшельника».
С великим проникновением госпожа Аксакова постигла эту черту характера старца Серафима. Великии старец, пророк Божии и таиновидец, умалившись, стал действительно как дитя.
«С раннего утра следующего дня отец Серафим, согласно своему обещанию, оказался уже в монастыре.
Нас, паломников, он встретил, как радушный домохозяин встречает приглашенных им гостей, в открытых дверях внутренней своей кельи. Пребывания в “пустыне” не видно было на нем и следа: желтовато-седые волосы были гладко причесаны, в глубоких морщинах не заметно было крови от укушения лесных комаров; белоснежная полотняная рубаха заменяла заношенную сермягу30. Вся его особа была как бы выражением слов Спасителя: когда постишься, помажь главу твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцем твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6, 17–18). Лицо отшельника было радостное, келья была заставлена мешками, набитыми сухарями из просфор. Свободным оставалось только место перед иконами для коленопреклонения и молитвы. Рядом со старым монахом стоял такой же мешок с сухарями, но открытый. Отец Серафим раздавал из него по пригоршне каждому подходящему к нему паломнику, приговаривая: “Кушайте, кушайте, светики мои. Видите, какое у нас тут обилие”. Покончив с этой раздачей и благословив последнего приходящего, старик отступил полшага назад и, поклонившись глубоко на обе стороны, промолвил: “Простите мне, отцы и братья, в чем согрешил против вас словом, делом или мышлением”. (Отец Серафим шел в этот вечер на исповедь у общего для всех монастырских духовника.) Затем он выпрямился и, осенив всех присутствующих широким иерейским крестом, прибавил торжественно: “Господь да простит и помилует всех вас”.
Так закончилось наше второе свидание с преподобным старцем. Как мы провели остаток этого дня, не помню, но зато тем более ярко сохранился в моей памяти третий и последний день нашего пребывания в Саровской пустыни.
Исповедавшись, как я говорила, накануне, отец Серафим в этот день служил как иерей обедню в небольшой церкви. Размер ее позволял немногим из паломников присутствовать при богослужении.
Вспомнив об нас, не попавших в храм, Преподобный выслал послушника сказать, что он выйдет к нам с крестом после богослужения.
Все мы, богатые и бедные, ожидали его, толпясь около церковной паперти. Когда он показался в церковных дверях, глаза всех были устремлены на него. На этот раз был он в полном монашеском облачении и в служебной епитрахили. Высокий лоб его и все черты его подвижного лица сияли радостью человека, достойно вкусившего Тела и Крови Христовых; в глазах его, больших и голубых, горел блеск ума и мысли. Он медленно сходил со ступеней паперти и, несмотря на прихрамывание и горб на плече, был величаво прекрасен.
Он стал говорить нам о значении Креста Господня – и красноречивым потоком полилась звучная, стройная речь из уст старца Серафима.
Ежели бы и доставало у меня памяти, чтобы сохранить за все эти годы слова отшельника, то и тогда не могла бы я занести импровизированную эту проповедь в свои воспоминания. Я в то время не была в состоянии уразуметь ее. В то время мне не могло быть более девяти лет.
Но что могло тогда понимать, видеть и слышать дитя, того не изгладили из моей памяти десятки годов прожитой с тех пор жизни. Не забыть мне этого ясного взора, вдохновленного в эту минуту мудростью свыше, не забыть внезапно преобразившегося лица дровосека муромских лесов. Живо помню звуки его голоса, говорившего, как власть имеющий (Мф. 7, 29), малому стаду собравшихся в Сарове богомольцев. Помню сочувственный блеск в черных очах Прокудина, помню старую бабку свою, смиренно стоявшую перед отшельником, “аки губа напоемая”. Помню юношеский восторг, разгоревшийся в глазах меньшого дяди. Его заметил проповедник и, слегка нагнувшись к дяде, сказал: “Есть ли у тебя деньги?” Дядя бросился было разыскивать в карманах бумажник. Но отшельник остановил его тихим движением руки. “Нет, не теперь, – сказал он. – Раздавай всегда, – везде”. И с этими словами протянул к нему первому крест.
И покойный дядя мой не отошел скорбяй (ср.: Мф. 19, 22), как это было с богатым юношей Писания...
Вот настало время отъезда. Наши лошади стояли уже у крыльца гостиницы. Сытые кони наши били оземь копытами, поторапливая своим нетерпением прислугу, разносившую по экипажам дорожную нашу кладь. К Алексею Нефедовичу, ехавшему верхом и заносившему уже ногу в стремя, подошел старый монастырский служка. “Еще утресь, – сказал он, – отец Серафим, выходя из церкви, изволил шепнуть мне мимоходом свой наказ, чтобы вы, Алексей Нефедович, не отъезжали вечером, не повидавшись с ним еще раз”.
Алексей Нефедович Прокудин был известен своею благотворительностью. Он раздал бедным все свое имущество.
“Проститься хочет старый друг, отец мой духовный, – заметил на это Прокудин и, обратившись к нам, промолвил: – Идите за мной и вы все”.
И вот вся семья наша с отставным гусаром во главе снова потянулась по длинным коридорам монастырского корпуса.
Дверь в прихожую отшельника была открыта настежь, как бы приглашая войти. Мы разместились молча вдоль стены длинной и узкой комнаты, насупротив дверей внутренней кельи.
Последний замиравший луч заходившего солнца падал на выдолбленный из дубового кряжа гроб, уже десятками лет стоявший тут в углу на двух поперечных скамьях. Прислоненная к стене, стояла наготове и гробовая крышка...
Дверь кельи беззвучно и медленно отворилась. Неслышными шагами подошел старец к гробу. Бледно было его бескровное теперь лицо, глаза смотрели куда-то вдаль, как будто сосредоточенно вглядываясь во что-то невидимое, занявшее всю душу, весь внутренний строй человека. В руке его дрожало пламя поверх пучка зажженных восковых свечей. Налепив четыре свечи на окраинах гроба, он поманил к себе Прокудина и затем пристально и грустно глянул ему в глаза. Перекрестив дубовый гроб широким монастырским крестом, он глухо, но торжественно проговорил: “В Покров”.
Действительно, Прокудин, будучи совершенно здоровым, приобщился в Нижнем в день Покрова, а вечером безболезненно скончался».
Тексты эти – вдохновенные воспоминания о старце его современницы.
Яркие и художественно изложенные воспоминания госпожи Аксаковой обрисовывают то впечатление, какое производил старец на детскую душу, но еще не вполне объясняют его.
Это был человек невыразимо обаятельный, притягательный, как магнит, и магнитом была его любовь.
Трудно представить себе всю силу его любви, пылавшей, как бурное пламя, и в то же время согревавшей и светившей, как спокойный, лучистый источник света.
Сильных и слабых, богатых и бедных, знатных и смердов он любил одинаково, всех одинаково жалел. А это ведь так трудно, так почти недостижимо. И обыкновенно те, кто любят и покровительствуют простым, низко стоящим и обделенным судьбою людям, относятся если не враждебно, то с тайным внутренним осуждением к счастливым, взысканным жизнью людям, как будто возлагая на них вину за несчастие первых.
А для него все были равны, потому что во всех безмерно чтил он заложенную в них Божью искру. И, встречая каждого земным поклоном, целуя руки и каждого называя дорогим, ласкающим словом «радость моя», не чтил ли он в них эту искру Божества, не воздавал ли почитания Самому Богу в лучшем и совершеннейшем Его творении, какое есть человек.
Как мало понимают дух так называемого «старчества» те, кто осуждают как людей, обращающихся к старцам по делам чисто житейского характера, так и самих старцев, которые берутся давать по таким делам советы.
Забывают эти люди, что в жизни нашей внешнее и внутреннее тесно связано одно с другим. Неужели для спасения человека, для направления его жизни безразлично, в каких обстоятельствах будет жить человек? Разве, например, для человека средних духовных сил такое семейное счастье с любящей женщиной не есть лучшие условия для чистой хорошей жизни? И неужели если старец, имеющий дар прозорливости, может, с одной стороны, предчувствовать, что два лица, вступая в брак с лучшими намерениями, тем не менее испытают величайшее несчастие, – неужели это такая мелочь, что о ней спрашивающему не стоило спрашивать и отвечающему отвечать?
В жизни нет мелочей. Часто то, кого мы встретим в доме, куда зайдем на десять минут по самому простому поводу вежливости, имеет потом на нашу жизнь решающее значение. И люди, которые не хотят ничего в жизни делать зря, понятно, ищут во всех важных случаях благословения тех духовных людей, которые в их глазах окружены ореолом великой праведности и прозорливости.
Старец Амвросий Оптинский, который в той высокой мере обладал этим даром, говорил как-то, что первая мысль, которая возникает у него при вопросе лица, обращающегося за советом, есть Божие внушение.
Я сам в первые минуты моего знакомства с этим человеком, который, несомненно, был одним из удивительнейших явлений конца истекшего века, был свидетелем такого внушения. К отцу Амвросию подошел совершенно неизвестный ему простолюдин и просил благословения идти на заработки в какой-то большой город. Старец, ни минуты не думая, сказал ему, чтоб он туда не ходил. И когда тот стал доказывать, насколько правильно его намерение, не только не склонился на его доводы, но назвал те два совершенно в другой стороне лежащие города, в один из которых по его выбору посоветовал ему направиться. Уверен, что не пришлось тому человеку раскаиваться, если он послушался старца.

Старец Амвросий Оптинский
Сам я, в последний раз видясь с отцом Амвросием за два месяца до его кончины, говорил ему, что, наверное, несколько лет не буду в тех местах, а он несколько раз повторил: «Как знать, может, и очень скоро придешь». Я стал доказывать старцу, что это невозможно, и он, наконец, заметив: «Ну, тебя не переспоришь!» – перешел к другой теме. И действительно, я, получив известие о неожиданной его кончине, поехал в Оптину.
Если б я спросил у него в то последнее свидание благословение путешествовать в октябре, он бы отменил это путешествие, так как я бы не попал тогда к его свежей могиле...
И то, что старцы советуют, они советуют вовсе не по житейской опытности, вовсе не по здравому житейскому смыслу, не тем путем, каким приходят к заключению люди просто умные, люди даже мудрые.
Здесь есть вдохновение, этот великий дар в то мгновение получать от Бога откровение, куда направить человека. И какое великое счастье иметь такого благодатного руководителя, как, привыкнув к нему, безгранично тяжело его терять... Есть люди, не имеющие этого дара, но берущиеся давать советы, и какие жестокие разочарования постигнут тех, кто слепо доверится им.
А вот в старце Серафиме это свойство прозрения было в величайшей степени. И лиц, которые к нему приходили, среди громадной толпы, в первый раз, он постоянно называл по именам, и будущее чужой жизни он видел, кажется, яснее, чем люди видят свое прошедшее...
Его сострадательное сердце с глубокой скорбью относилось к той неестественной приниженности людей, какое создавало крепостное право, и он не упускал случая говорить помещикам об их обязанностях к крестьянам.
Когда один генерал Куприянов, владевший большими имениями, приехал к отцу Серафиму благословиться перед польским походом и просил Михаила Васильевича Мантурова, преданнейшего старцу человека, заняться в его отсутствие его имениями, старец дал Мантурову такую заповедь: «Поезжай, батюшка. Мужички бедные, брошены, совращены, и плохо им жить. Так бросить их нельзя. Займись ты ими, моя радость. Обходись с ними кротко и хорошенько. Они тебя полюбят, послушают, исправятся и возвратятся ко Христу. Для того-то больше я тебя и посылаю».
Вот слова, характерные для того времени, и сколько бы несчастий было предотвращено в крепостной Руси, если б все смотрели на дело глазами старца Серафима, тогда как – это было и в данном случае в поместьях Куприянова – крестьяне жестокостями и грабежом управляющих доходили до озверения, одичания и преступлений.
И как старец умел заботиться о людях и понимать их!
Елена Ивановна Мотовилова помнит, как она раз пришла к нему в келью и он, собираясь стать на молитву, усадил ее и дал орешков.
О каких великих вещах молился он тогда, какие созерцал великие откровения? И вот этот тайновидец временами отрывался от своих созерцаний, и, подходя к девочке, показывал ей, как надо колоть орешки двумя камешками.
...Все в Батюшке был один свет, одна радость, одна ласка. Религия являлась в нем с самой лучезарной своей стороны.
Радостное сознание искупления нашего Богочеловеком, постоянное живое ощущение этой тайны наполняло всегда душу его несмолкаемым ликованием.
Раз встретился с ним молодой монах, находившийся в настроении резкого уныния, близкого к отчаянию. В этом расположении духа он даже хотел избежать старца, но очутился с ним лицом к лицу.
Благословив монаха, старец запел слова из канона Богоматери: «Радости мое сердце исполни, Дево, яже радости приемшая исполнение, греховную печаль потребляющи»31. Затем, топнув ногою, сказал: «Нет нам дороги унывать, потому что Иисус Христос все победил: Адама воскресил, Еву свободил, смерть умертвил». Монах, оживотворенный духовною радостью старца, был вне себя от восторга.
Вообще душа отца Серафима была исполнена духовной радости и, при всей мужественной ее крепости, мягкая, нежная, привязчивая и глубоко благодарная.
С каким пылом говорил он о великих святых, о тех праведных жизнях, которых был свидетелем, например, об Агафии Симеоновне Мельгуновой. С какою верностью молился о том, кого знал, а о дорогих ему покойниках и других просил молиться.
Зато какое великое общение в последнее время своей жизни старец дал любившим его людям: «Если я стяжу дерзновение у Господа, то повергнусь за вас ниц пред Престолом Божиим».
Вид у него был как у ангела Божия. Лицо его сияло каким-то внутренним светом, пробивавшимся чрез кожу. Кто-то сравнил это сияние с тем, как светится бумага, за которою стоит яркая свеча.
Что-то неизъяснимо сладостное было в его улыбке, и самый слог его, его манера говорить, как можно судить по дошедшим до нас записанным словам его, имели в себе что-то особенное, простое, детское, прямое.
Во всякой сказанной им фразе звучит какой-то великий интерес ко всему живущему, какая-то душевная свежесть. Его слова были так же мягки, ласковы, желанны, как и благодатный его вид.
Понятно, почему он производил на всех чрезвычайно сильное впечатление, какой-то необыкновенный, с первой же встречи, охват.
«Он приказал нам сесть; но мы невольно стали на колена, наслаждаясь его беседою о будущей жизни, о жизни святых, о заступлении, предстательстве и попечении о нас грешных Владычицы нашей Богородицы и о том, что необходимо нам в здешней жизни и для вечности. Беседа продолжалась не более часа, но этого часа я не сравню со всею моею прошлою жизнию. Во все время ее я чувствовал неизъяснимую небесную сладость, Бог весть каким образом переливавшуюся в сердце, сладость, которую нельзя сравнить ни с чем на земле и о которой впоследствии я никогда не мог вспомнить без слез умиления и ощущения живейшей радости во всем существе».
Вот один из отзывов о впечатлении, которое производил старец Серафим, и такие чувства переживали все, кто к нему приближался.
Понятно, почему воспоминания о нем современников постоянно прерываются живыми криками восторга, почему и теперь ни говорить, ни писать о нем спокойно невозможно. Душа сразу настраивается на какой-то высокий лад и смущенно радуется, видя это неимоверное для земли явление.
– Все его дорогие наставления, – говорит один современник, – одушевлены были духом помазания. Его каждое слово доходило до души и пронзало сердце. Его молитвы были мощны, дары сильны, а сердце его горело пламенем небесного огня.
– Я дивился, – восклицает другой, – что такой чудный человек живет в наше время и что наши глаза его видят.
Едва ли был другой человек более ласковый, греющий, как святой Серафим; едва ли от какого человека на земле лилась большая отрада в другое человеческое сердце.
Если трудно найти более суровую, жестокую жизнь, такое, можно сказать, ухищрение добровольных над собою пыток, то трудно найти и более простосердечное, нетребовательное отношение к другим.
Те подвиги: молитвенное стояние и столпничество на камнях, доведшие его до неизлечимой болезни ног, молчальничество, трехлетнее питание отваром травы снитки – это все было для себя. А для людей у него была одна ласка, одно ободрение, одни нежные слова: «Сокровище мое, радость моя!»
Не испытывали ли вы чувство какой-то робости, подходя к святыням, например, прославленной Лавры Киевской? Эти безмолвные, темные пещеры, эти мрачные суровые лики, отсутствие солнца. «Господи, – невольно возникала в вас тревожащая мысль, – да как же спасусь я, не ждет ли меня, пользующегося и сверканием этого Божьего солнца, и блеском весенней природы, и многими радостями жизни, от которых я не в силах отказаться, – не ждет ли меня осуждение и гибель?»
С таким болезненным вопросом стоял я, помню, восхитительным майским утром над той чарующей лощинкой, что заключена между двумя горами, где изрыты дальние и ближние пещеры. Потрясенный видом этих пещер, я с ужасом спрашивал себя, можно ли спастись иначе, не грех ли, что я тут же, в нескольких шагах от них, наслаждаюсь несказанной красотой этого южного утра, морем сочной зелени, веселым щебетаньем птиц. Мне было как-то совестно тогда, точно я делал что-то незаконное. О, как далеко то от жизни, от наших маленьких радостей и надежд; как, кажется, малопонятны им наши грехи и увлечения, наши внутренние страдания – вся наша из света и теней сложенная современная жизнь... И в памяти они стоят: суровые лики, слишком для нас высокие и нам недоступные.
Никогда не испытаете вы этого чувства отчужденности от вас, этого обособления от современной жизни и всех ее больших и маленьких дел в старце Серафиме.
Весь он – нескончаемая ликующая радость уже искупленного человека, – не раба, а дорогого сына Господня.
Когда, неимоверными подвигами приблизясь к Богу, он пошел к людям, он нес им только любовь, а не суд; снисхождение, а не суровость; не клятвы, а лишь благословения и благословения...
Он был истинным последователем того Христа, Который, Сам придя на землю для венца и пропятия,
Чистых радостей не гнал,
И, Магдалину возрождая,
Детей на жизнь благословлял.
И Серафим взял от земли затвор, столпничество и снитку, а людям дал одни радости и утешения.
О, как далек он от какого-нибудь исступленного Савонаролы32, с бичом в руке, Савонаролы, стремившегося задавить самые законные порывы души человеческой к солнцу, к веселью, к радостям. Не топтать и оскорблять жизнь пришел Серафим, а облагообразить и украсить ее.
Всею своею непостижимо высокою святостью он преклонился к земле, и, казалось, эта святость хотела растаять, распуститься в грешном море житейском, чтоб благодатною силою обезвредить все яды жизни и чтоб еще сильнее стало все чистое, светлое и хорошее.
Это был луч солнечный, сноп этих лучей, ярко, радостно и животворно ударивший в нашу людскую жизнь. Луч, который может светить и веселить всякого, кто только поймет, полюбит и призовет в свою жизнь его, столь отдаленного от нас святостью и столь близкого сочувствием радостного Серафима.
Да, он только любовь, он сильнейшее доказательство этой верховной стадии жизни во Христе, оправдание бесценных слов апостола: совершенная любовь изгоняет страх (1Ин. 4,18).
И вот почему он только дорог и желанен, а не страшен.
И вот почему не мысли о мучениях, не терзание за ваше будущее, а бесконечную радость спасения переживаете вы, когда думаете о нем, когда ходите по местам, где он жил, где он любил.
Как мало распространено у нас здравых, глубоких понятий о почитании святых, составляющем одну из самых привлекательных подробностей в учении Церкви!
Почитание святых основано на вере в вечность души, в великую близость тех двух громадных областей, которые составляют жизнь земную и жизнь загробную.
Наша индивидуальность бессмертна. И душа в тот мир приносит все свои заветные привязанности, все свои серьезные интересы. Не с презрительным равнодушием относятся отшедшие от жизни к делам, хлопотам и стремлениям людей, а с сочувствием, потому что сами были когда-то участниками этой жизни. Великую любовь, великое желание добра людям они продолжают в себе сохранять и, стоя теперь так близко к Источнику всякого добра и всяких милостей, молить Его о помощи людям.
Что значит, что одних святых чтут больше, других меньше?
Это зависит от степени их отзывчивости на горе людское, как и среди живых людей больше любят и больше посещают приятных, ласковых, доброжелательных людей.
Какое таинственное чудо эти невидимые, но прочные узы, какими переплелись эта временная, земная и вечная, небесная жизнь. Как там, на свободе, развилось все то, что как бы в зачатке, в намеках было тут в душе человеческой!
Как Пантелеймон-целитель и на земле любил врачевать, так же теперь могучей молитвой, уже без ящичка и ложечки, которыми он действовал, живя на земле, и с которыми поныне изображается на иконах, он подает врачебную помощь.
И так же, как помогал бедным великий Спиридон Тримифунтский, во время голода словом своим претворивший для подачи милостыни змею в золото, так же и теперь творит он чудеса на той же скорбной ниве человеческих денежных недостатков.
Конечно, почитание святых имеет еще и гораздо более идеальное значение, представляя собою как бы целую галерею лучших типов христианства, которым нам следует подражать. Тем не менее, пока на земле живет, и страдает, и нуждается в помощи бедное человечество, прежде всего оно будет смотреть на святых как на молитвенников за себя пред Богом и на помощников.
Вам чего-нибудь надо, очень надо, и вы просите святого, как безгранично доброго и очень сильного человека, чтобы он умолил Бога для вас «отверсти щедрую руку Его и исполнить вас благоволения»33.

Икона целителя Пантелеймона. Афон. Конец XIX – начало XX в.
И когда святой, к которому вы обратились, слыша рассказы о широкой вере в него, основанной на опытах его заступления, исполнил раз, и два, и три вашу благую просьбу и вымолил вам желанную милость, тогда слагается постепенно в вашей душе великая благодарность, теплая любовь и нерушимая вера в такого помощника. Вам кажется, что вы знаете его, потому что вы, так сказать, осязали его на деле и он заявил вам самым реальным и ощутительным образом о своем существовании и отзывчивости вам. И образуются у вас отношения живого к живому, отношения прекрасные, чистые, обаятельные. Вы чувствуете, что приобрели могучего, светлого друга, при котором не страшна вам никакая беда, который позаботится о вашем спасении в вечности и о земных условиях вашей жизни. И вы, как ребенок отцу, можете высказывать ему все, что у вас на душе, все, о чем вы мечтаете, все, чего хотели бы иметь для своей жизни, в полной уверенности, что он устроит все как можно лучше. И много раз в году в крупных и мелких делах вы будете живо чувствовать его невидимую, но несомненную руку, всякий раз вновь поражаться и вновь испытывать прилив великого счастья от этой его заботы о вас.
И в свою очередь согретому, растроганному, переполненному благодарностью вашему сердцу будет постоянно хотеться воздать добром за добро, порадовать чем-нибудь такого верного покровителя. Сделать доброе дело ради него, чем-нибудь его прославить будет потребностью души, которой он доставил столько отрады и утешения.
Вот что такое почитание святых не в мертвых, а в жизненных, одушевленных формах.
Поверьте, не предрассудок, не бесплотные без всякой реальной подкладки предания влекут народ к ракам и могилам святых.
Если, например, все прибывает и прибывает богомольцев всех классов общества у могилы блаженной Ксении, на Петербургском кладбище, значит, все сильнее и сильнее испытывают на себе люди ее милости.
И не только умиление пред действительно почти немыслимой высотой духовной старца Серафима приводило богомольцев к его могиле, но и живая надежда на его реальную помощь в испытаниях и затруднениях жизни.
Любили, да. Чтили, да. Изумлялись, да. Но и просили помощи, надеялись, веровали крепко в эту помощь. И потому, что в ней не обманывались и иногда получали чрез него больше просимого и раньше просьбы, за то еще горячей любили, еще святей чтили, еще восторженней изумлялись.
И находили в нем одном утешение от всех жизненных разочарований, от страшного холода жизни.
«Радуйся, превождение сущих в вихрех, радуйся, согреяние сущих во мразех»34, – говорится, и говорится очень глубоко, проникновенно и верно в одном из акафистов, святителю Николаю Чудотворцу.
Эти слова можно повторить и о старце Серафиме.
Нам всем, богатым и бедным, умным и глупым, – всем почти холодно. Холодно потому, что не любят нас, не умеют любить как надо.
Большею частью то удовольствие, которое мы доставляем людям своим обществом, и то желание, которое они испытывают видеть нас, они считают за свою любовь к нам, причем решительно не думают о нас самих, нашем благе, заботясь только о самих себе.
Между тем как любовь достаточно определена уже восклицанием апостола: не любим словом ниже языком, но делом и истиною (1Ин. 3,18).
Любовь – это деятельное желание человеку добра, стремление доставить ему то, что он желает и что ему нужно, причем личность человека любящего стоит совсем на заднем плане. Любовь не ищет своего (ср.: 1Кор. 13, 5).
Именно такою заботливою, предупредительною, действительною любовью и любит приходящих к нему старец Серафим.
У всех нас во всякую минуту жизни есть заветные желания, которые порою настолько сильны, что обращаются в какое-то страдание.
И как эти желания человеческого сердца видимы и понятны старцу Серафиму.
Одному нужен сын; отсутствие сына для этого человека составляет постоянное страдание, жизненный крест. И вот горячая, короткая молитва: «Старец Серафим, вымоли нам сына».
Другому надо поскорее выздороветь и выдержать экзамены, третьему – разыскать украденную у него лошадь, четвертому – встретиться с без вести пропавшим сыном, пятому – соединиться с любимым человеком, с которым разводит судьба, шестому – примириться с родными, седьмому – вытащить со дна жизни дорогую погибающую душу, восьмому – найти постоянный кусок хлеба, девятому, едущему издали к умирающему отцу, – на несколько часов продлить эту бесценную уходящую жизнь, чтоб застать человека, прошептать ему в последний раз слова любви и благодарности, получить последнее благословение. И все эти до боли нужные желания выливаются в один общий крик:
«Отец Серафим, вымоли. Отец Серафим, дай! Отец Серафим, помоги!»
И вот за то, что он слышит эти отчаянные вопли, подымающиеся из утесненного горем сердца человеческого, что он вникает в эти нужды и силою своего безмерного дерзновения к Богу умеет открыть для нас щедрую руку Божиих милостей, – за то так любят его, потому так и стремятся к нему.

Преподобный Серафим Саровский. Литография 2-й половины XIX в.
Да, такой чудотворец делает величайшее в жизни чудо. Он отогревает сердце, закоченевшее от жизненного холода. Он доказывает человеку, измученному одиночеством и безответственностью людей, что он не одинок, что есть живая душа, о нем заботящаяся, живущая его интересами, готовая сделать все для него возможное, что и ему на долю выпала чистая, преданная привязанность.
Смотрите, как скор, как предупредителен он на помощь.
Больной в доме: видят, как старец в белом балахончике стоит на коленях у кровати: молится или дает какое-то незримое лекарство.
Или входит к одинокой больной и, заботливо сказав: «Открой, где болит», – накладывает перевязку.
Жаждете иметь его изображения: нечаянным образом посылает свои старинные, редкие изображения.
Любят его в доме: сам входит в дом с приветом «Мир дому сему и благословение», и когда, видя бедную одежду его, прислуги гонят его, кротко говорит, выходя: «Я приду, я скоро приду», – и чрез день получается с почты портрет, по которому узнают убогого посетителя.
В ночной тишине одиноко страдает богатая барыня: нарыв в горле мешает ей дышать. Входит старец и, говоря больной два слова: «Простая и добросердечная!» – исцеляет ее.
Вообще совершается ряд необыкновенных дел. Давно зарытый в могиле человек, в том самом образе, в каком жил на земле, ходит по всей Русской земле, исцеляет больных, утешает несчастных, наставляет слабых, хлопочет о делах, устраивает жизни.
И если вы имели радость довериться ему, вы постоянно чувствуете над своею жизнию его руку и во стольких случаях жизни проявившуюся его силу, что вам уже не надо больше никаких доказательств, никаких чудес. Вы и только вы, сами поймете, как важно то, что сделал для вас старец. Только вы знаете, что то, что другие назовут случайностью, есть в ваших глазах несомненное, сотворенное для вас чудо. И слыша о том же самом от других людей, невольно воскликнешь:
«Да неужели же все он один, а не несколько, все один всеобъемлющий Серафим!»
И изо всего, что вы о нем слышали, читали, из всех изображений его, которые вы видели, из тех мест, где он жил и трудился, из всего, что он для вас и для других людей сделал, создается мало-помалу совершенно живой образ в чрезвычайной реальности очертаний. Вам кажется, что вы знаете его больше, чем людей, которых вы тысячу раз видали. Вы уверены, что он самым внимательным образом следит за вашею жизнию и участвует в ней.
Всякий раз, как вы хотите, вы можете близко-близко чувствовать его. Только подумайте глубже о нем, прочтите о нем несколько страниц, и в каком бы настроении пред тем вы ни были, вас начнет охватывать какая-то безмятежная, тихая радость, похожая, конечно, на то, что испытывали люди, воочию подходившие к старцу при его жизни. Вы думали о нем, и он уже пришел к вам: «Что тебе, радость моя?»
Может быть, вам ничего от него не нужно; только порадоваться его святыне, только отогреть душу в его лучах.
Да, привлекать к себе людей есть одна из интереснейших черт в характере старца Серафима.
Трудно выразить, как пламенно его любят. Он, ему одному ведомыми путями, как-то пронзает человеческое сердце, как-то укрепляется в душе, и ему дается вся та мера привязанности, на какую только способно это сердце. О нем могут говорить спокойно, но прерывают свои рассказы и рассуждения о нем восклицаниями удивления и восторга. Чего бы, кажется, ни сделал для него, чем бы ни пожертвовал!
И всякий из любящих его думает, что никто так не чтит старца, как именно он.
Вспоминаются мне слова Дарьи Феодоровны Тютчевой, которая пламенно его любила и чрез свою близость к Императрице Марии Александровне много сделала для Серафимо-Понетаевского монастыря. А при посредстве ее сестры Анны Феодоровны (впоследствии Аксаковой) была привезена к маленькой Великой княжне Марии Александровне мантия отца Серафима, исцелившая ее от тяжелой болезни. Эта дочь знаменитого поэта любила говорить о старце Серафиме своею изящною французской речью:
«Я не знаю, есть ли кто-нибудь на свете, кто может более меня чтить старца Серафима. Я так чувствую его близость. Я зову его во всех мелочах жизни. Вот, если я не могу заснуть, я призываю его, кладу под подушку его изображение и засыпаю. Я с ним, как ребенок со своей няней».
Много было сказано мною в надежде яснее объяснить всю обаятельность старца Серафима, а теперь, как последний штрих этого, неумелою, недостойною, но любящею рукой нарисованного образа я скажу о нем короткие, простые слова.
То было золотое сердце.
На полпути между Дивеевом и Саровом в длинной большой деревне меня поразил ее оживленный вид. По деревне стояли казаки, во дворах были видны чьи-то щеголеватые экипажи, и все носило тот бойкий характер, какой принимает всякая местность, только что явятся в ней на постой солдаты.
Путь к Сарову очень тяжелый вследствие сыпучих песков. Когда же вы въезжаете в тот густой бор, который повсюду охватывает Саровскую гору, пески становятся так глубоки, что приходится ехать совсем шагом. Вероятно, впоследствии здесь будет устроено хорошее шоссе.
Но вот мы выехали из леса, и я не узнал местности кругом. Прямо против выезда на обширной
речной луговине выстроена большая часовня-шатер. Чрез несколько дней именно тут Саров, во главе с преосвященным Тамбовским Иннокентием, встречал крестный ход женских Серафимовых монастырей.

Часовня-шатер, где встретились крестные ходы Дивеевского и Понетаевского монастырей. Фото 1903 г.
Там из-за реки слышались звуки топоров: это доканчивали два дома для помещения Великих князей. Вот среди многочисленного конного и пешего люда мы переезжаем мост и попадаем в целую как бы улицу, образованную гостиницею, скотным и конным дворами и еще каким-то домом, где теперь поместилась полиция.
Всюду народ, городовые, околоточные, пыль, настроено несколько новых деревянных гостиниц, и все они под номерами.
Обычная, так называемая «дворянская» гостиница – белое длинное двухэтажное здание, стоящее боком к лицевой части ограды, – была назначена, главным образом, для светских лиц. Крыльцо дома справа от святых ворот, где помещалась когда-то лавка, вело в квартиру губернатора. А в верхнем этаже того же дома, но со входом из монастыря, были комнаты преосвященных: митрополита С.-Петербургского высокопреосвященнейшего Антония, архиепископа Казанского Димитрия, епископов Нижегородского Назария и Тамбовского Иннокентия. В соответствующем этому, левом флигеле помещались лица, командированные собственно на торжество: архимандрит Серафим (Чичагов), товарищ обер-прокурора Святейшего Синода В.К. Саблер, прокурор Московской Синодальной конторы князь Ширинский-Шихматов и состоящий для поручений при гофмаршальской части князь М.С. Путятин, которому поручен был Государем надзор за исполнением по его рисунку раки для мощей Преподобного.
Внутри монастыря игуменский корпус, совершенно переделанный, был назначен для принятия Государя и обеих Императриц.
Помещение у всех вообще было непросторное. Все были более или менее стеснены ввиду такого исключительного многолюдства в столь пустынной местности.
Несомненно, квартирный вопрос будет существовать и впредь в Сарове, потому что количество богомольцев не будет сокращаться. Для приема их будут служить выстроенные тогда вновь для торжества помещения. Но они, по расположению своему, не совсем удобны. Одни стоят под монастырской горой, и для лиц, которые, приехав к мощам Преподобного, несомненно, входят в монастырь до десяти и более раз в сутки, это

Павильон, сооруженный для Великих князей. Фото 1903 г.
обременительно. Гостиница, где помещался я во время торжеств, находится в сторону от дороги к источнику и представляет собою большой дом, назначавшийся для школы или больницы, с высокими комнатами, очень светлый, стоящий на высоком месте и с трех сторон обхваченный сосновым бором. Все это хорошо, но опять-таки до стен монастыря более пяти минут хода по дороге всегда пыльной. В этой гостинице помещались тамбовские предводители дворянства, имевшие все своих лошадей и экипажи, и я часто жалел, что не удержал привезших меня лошадей.
Единственный вполне удобный пункт для гостиниц – это там, где находится старая монастырская гостиница, место напротив и вблизи нее. Оттуда до ограды минута–две хода, не приходится переходить никаких площадей, ни взбираться в гору. И удоб-

Окрестности Саровского монастыря. Вдалеке – павильон-гостиница тамбовского дворянства. Фото 1903 г.
нее всего было бы им надстроить один-два этажа над существующим новым зданием или построить около новое. Надо иметь в виду, что в Саров приезжает много лиц больных и слабых, для которых быть поближе к монастырю чрезвычайно важно.
Едва вышел я в ворота монастыря, как встретился с мальчиком, бывшим расслабленным и исцелившимся в то утро у источника.
Он стоял в кучке народа, и мать его со слезами рассказывала об исцелении.
Меня поразило светлое выражение его лица. Мне казалось, что никогда я не видал такой несказанной радости. Все лицо его было озарено каким-то изнутри шедшим светом. Это не была буйная детская радость, а какое-то таинство обновления и возрождения.
Этою зимою мне приходилось видеть лиц, которые говорили, зачем это так много пишут об исцелениях, бывающих в Сарове. Ведь это только подбивает народ не искать врачебной помощи, а ехать в Саров. Народ приучается к странному, неправильному взгляду. Он начинает смотреть на старца Серафима как на знаменитого врача, который исцеляет болезни, не поддающиеся лечению обычных докторов. И вот идут, идут, и многие не получают облегчения. «Вы лично видали его исцеления?» – спрашивали они.
Я отвечал таким совопросникам следующее.
– Как это вы хотите затушить в душе человеческой одно из сильнейших ее стремлений – ее жажду видеть живые доказательства потустороннего бытия, подтверждение надежды человечества на то, что там, в далеком счастливом небе, живут святые, мудрые, сильные люди, которым близко страдание земли, которые рвутся облегчить его... Вам кажется «странным» это трепетное ожидание исстрадавшегося, изверившегося в земные средства человека сверхъестественной помощи от небесного благодетеля. Вам самим живется так хорошо, что вы ни в какой – ни людской, ни Божьей помощи – не нуждаетесь. Не отымайте у других последнего, чем они еще держатся в жизни. Вам не показалось бы «странным», если б больной сказал о своем отце: «Знаю, что он сделает все возможное, чтоб меня вылечить». Отчего же «странно» то, что люди возлагают ту же надежду на человека, правда давно умершего, но доказавшего с тех пор свое бытие и свое чрезвычайное попечение о страждущих людях множеством живых, незабвенных дел? Да, я смотрю на него как на благодетеля, как на «знаменитого доктора», где мне нужна врачебная помощь, как на «советчика» там, где я недоумеваю и молюсь, чтоб он дал мне ясность ума, как на помощника и покровителя, где мне надо устроить какое-нибудь дело.
Вы говорите, что не все исцеляются. Но ведь повальное исцеление было бы началом золотого века на земле, и полагаю, что в тех даже местах, где ходил, благовествуя, Сам Христос, после Его Божественного посещения все же оставались недужные. Божий Промысел знает, почему одним Он посылает исцеление, а другим определяет продолжение их прежних страданий, вероятно более полезных для их судьбы, чем здоровье.
Вы спрашиваете, видал ли я лично чудеса. Должен вам сказать, что я их не искал. Чудотворная сила старца Серафима, подтвержденная среди известных мне людей многими знамениями, была слишком для меня несомненна, чтоб я искал еще новых ее подтверждений. Я был в Сарове не для наблюдений, не для писания своих заметок, а единственно из чувства безграничного почитания старца Серафима и жажды быть при нем в эти дни. Я намеренно ничего не искал. Но тем не менее до меня постоянно доходили от несомненных очевидцев – каковы были известный архимандрит Никон, теперь епископ Муромский, петербургские проповедники отцы Орнатский и Рождественский и другие, мирские люди – рассказы о том, что происходило на их глазах.
И не «чудеса» ли то, что надо мной и известными мне людьми случилось и о чем я тут расскажу.
Я знаю, как в ту же самую эпоху, когда получила исцеление от тяжелой болезни мантиею отца Серафима Великая княжна Мария Александровна, теперешняя великая герцогиня Кобургская (это исцеление, как весь ход болезни, описаны в дневнике, который вела ее воспитательница, Анна Феодоровна Тютчева-Аксакова и который принадлежит Великому князю – Сергию Александровичу, равно как и та мантия старца Серафима), – в эту же эпоху, на расстоянии всего нескольких дней, в Петербурге был исцелен приговоренный знаменитостями к неминуемой смерти трехлетний мальчик, единственный ребенок моего дяди.
В январе 1903 года со мною лично был следующий случай. Я был в Сарове, только что год назад вынесши тяжелую продолжительную болезнь, от которой чуть было не умер, и проведя предыдущую весну в теплом климате. Стояли морозные дни, было 12 градусов. Между тем мне непременно хотелось выкупаться в целебном колодце. По вере в старца Серафима я знал, что эта вода ничего, кроме пользы, не принесет, но по-человечески уже самая необыкновенность такого купания меня пугала. Мне казалось чем-то ужасным на таком морозе раздеваться и стать под струю воды, которая и летом почти ледяная. Тем не менее я себя осилил.
Итак, я отправился на источник в санках, на одном из тех ретивых коней, какими славится пустынь. Со мной был послушник из гостиницы. Я стал раздеваться, а он расстелил грубого холста по лесенке, ведущей вовнутрь сруба, так как ступеньки обледенели и можно было упасть и разбиться. Не испытанное никогда столь резко чувство холода прохватило меня, когда я сходил по лесенке и, боясь поскользнуться босыми ногами по ледяному полу, подобрался под кран. Господи, как холодно, как необыкновенно! Но вот, собрав все присутствие духа, я повернул кран, и страшно студеная струя побежала на голову и по всему телу. Мне казалось, что кости во мне ломаются... Три раза, как всегда, подставлял я голову под эту струю, потом поднялся наверх, отдышался и, по привычке, спускался еще два раза в сруб, трижды окачиваясь; потом стал неспешно одеваться. Всего с четверть часа провел я раздетым на двенадцатиградусном морозе, обливаясь студеной водой. Я не мог даже вернуться в пустынь пешком, потому что мне надо было поспеть обратно к сроку, и, одевшись, поехал в тех же санках.
Никогда в жизни я, кажется, не чувствовал себя столь свежим, как в продолжение нескольких месяцев после этого купания. До того, кроме болезни, я пережил много тяжелого и чрезвычайно устал душевно. Теперь все – и тело, и душа – словно помолодели, была необыкновенная бодрость и жизнерадостность.
И я невольно спрашивал себя: что бы сталось со мной, если б не у Саровского источника старца Серафима, а в другом каком месте я совершил бы на морозе такую же операцию? Конечно, я лежал бы чрез несколько дней в гробу. А это купание зимою совершают в Сарове многие приезжие, и никто никогда не получал от него ничего, кроме пользы.
В этом последнем январе месяце купался в источнике преосвященный Иннокентий, епископ Тамбовский, который сам мне об этом рассказывал. У него был ревматизм в руке, от которого он после этого купания избавился.
Кому посылает Бог исцеление чрез молитвы своих святых и кому продолжает страдание, отчего иным посылает, а другим нет? Это вопрос, который, вероятно, никогда не будет разрешен, иначе как в догадках, нашим ограниченным разумом. Конечно, тяжелое духовное состояние переживают те, кто надеются на чудо, на исцеление и не получают его.
В последнее мое посещение Сарова, в мае, за два месяца до торжеств, я, подъезжая к Саровской гостинице, увидел рессорную коляску, приготовленную, очевидно, для больного. Сидение было обложено подушками, и устроено что-то вроде кровати. На стоявшей сзади подводе было большое кресло на колесах, на каких возят лиц, не владеющих ногами.
Мне сказали, что это уезжает одна молодая женщина из южного города, которая приехала в Саров в надежде получить исцеление.
– Тяжело видеть, как она грустит, – говорили мне. – Так уж она надеялась, что в Сарове встанет и пойдет. «И зачем только, – говорит она, – я сюда приезжала. Как там, дома, станут надо мною и над моей верой смеяться».
Тогда этот рассказ произвел на меня очень тяжелое впечатление.
Как мы горячо требуем чуда и какое чувствуем колебание веры, если оно не всегда и не сразу приходит!
А рядом было совершенно противоположное.
Когда я в январе того же года приезжал в Саров, я заметил одну молодую барыню, молившуюся с чрезвычайным рвением. Видно было, что она вся пылает невыразимым усердием к старцу Серафиму. В «живописной» в Дивееве мне сказали, что она накупила и заказала очень много изображений старца и что предыдущею весною ее дочь получила исцеление у источника отца Серафима.
На торжествах открытия мощей она тоже была, на этот раз с дочерью, и хорошенькая симпатичная девочка, всегда в белом платье, обращала на себя внимание.
Эту барыню зовут госпожа Васильева, и она живет или тогда жила в Ушаковском переулке в Москве.
Дочка ее после тяжкой болезни перестала владеть ногами. Как-то раз видела она во сне старца, который принес ей просфору. Обстановку сна она узнала впоследствии, приехав в Саров. Госпожа Васильева, женщина набожная, ходила часто по московским святыням. Однажды остановилась она как-то у книжного прилавка, что стоит в сенях Чудова монастыря, справа от двери в храм. Монах, продававший книги, присоветовал ей купить жизнеописание старца Серафима, о котором он говорил как о совершенно необыкновенном праведнике. Госпожа Васильева, раньше ничего не слышавшая о старце Серафиме, купила эту книгу и, как это бывает часто с лицами, впервые узнающими о старце, чрезвычайно стала чтить его. Eй очень хотелось иметь изображение отца Серафима, но в иконных лавках она не могла его достать. (Это было за несколько месяцев до постановления Святейшего Синода об открытии мощей.) Желание ее получить такое изображение все росло, и вместе с тем образовалось в ней предчувствие, что отец Серафим исцелит ее дочь. Однажды навестила она знакомую ей монахиню Вознесенского монастыря, которая ей рассказала, что недавно получила от сестры своей старинное изображение старца Серафима. Эта сестра жила в одной семье гувернанткой, и дети, находившиеся на ее попечении, как-то роясь в песке, вырыли там изображение старца Серафима, которое та и передала сестре монахине. Госпожа Васильева упала монахине в ноги, прося дать ей это изображение. Таким образом было послано этой жаждущей душе то, чего она так усердно добивалась.
Тогда возникло у госпожи Васильевой другое желание: ехать в Саров. Но пути туда она не знала и ни у кого не могла спросить. Наугад она, взяв с собою больную дочь, в надежде, что старец Серафим исцелит ее, поехала в Нижний. Там на улице подошла к встречным монахиням, прося их сказать, как ехать в Саров. Монахини оказались дивеевскими. Они привезли ее на свое подворье, и там в большом портрете, висевшем на стене, она узнала являвшегося ей старца.
Накануне Троицына дня мать с дочерью были в Сарове и ехали к желанному источнику. Цвела счастливая весна. По опушке леса белели ландыши, девочка Васильева тосковала, что не может нарвать их. Приехали к источнику, и мать стала готовить дочку к обливанию. Тут находились какие-то другие дамы, которые, видя недвижимую девочку, стали уверять ее мать, что обливать ее холодной водой одно безумие. Но та не поддалась этим уговорам. Больная из-под струи источника встала на ноги и пошла. На возвратном пути она соскакивала из экипажа и рвала ландыши.
Вот одно из типичных «чудес». И как для зоркого глаза интересно это постепенное раскрытие себя верующей душе старцем Серафимом, и постепенное, так сказать, путем необыкновенных совпадений, притягивание к себе человека для подания ему великой милости.
Мне хотелось сразу отдать себе отчет в том, что происходит в Сарове, и я побывал в церквях и посетил игумена.
Особенно мне было интересно видеть большой Успенский собор, где должно сосредоточиться торжество. Этот обширный, высокий собор чрезвычайно величественен. Своды покоятся на четырех столпах. Уходящий в небо многоярусный золоченый массивный иконостас, как бы сплетенный из ветвей, представляет его главное украшение. Теперь между двумя столпами с правой стороны приготовлялось место для мощей отца Серафима.
Все это место было затянуто с внутренней стороны собора холстом, так как работы не были еще кончены. Я с интересом смотрел, зайдя за эту колыхающуюся ограду, на мраморный, в несколько ступеней, помост, на котором стояла мраморная рака под балдахином-шатром. Там приделывали решетки, укрепляли в балдахине образа. Общее впечатление этой раки было чрезвычайно приятное.
Потом я прошел к келье старца, над которою только что был закончен строящийся над ней храм. Стены этого обширного храма были оштукатурены, и пол из разноцветных плиток настелен. Я не узнал самой кельи. Ее прежняя простота и неприкосновенность как бы отлетели, и здесь я пережил то же чувство, что в Дивееве, у «одежки» старца.
Я помнил келью еще тогда, когда она составляла часть монастырского корпуса. К ней подымались по лестнице, проходили мимо дверей той кельи, где жил во дни старца сосед его, прямодушный, простосердечный отец Павел, вступали в темные сенцы и, наконец, в келью. Чрез окошко в левой стене были видны широкие луга и за ними лес, справа от двери была печь из белых, с зеленым рисунком, кафелей. По противоположной от входа стене было два больших, в рост, изображения старца: его кончина и он, идущий, опираясь на палку. По соседней стене, против окна, были еще его другие изображения. В углу в убогой деревянной витрине были немногие сохранившиеся о нем воспоминания. В большом подсвечнике обыкновенно теплились, тихо потрескивая, десятки свеч, и как все было тихо и отрадно.
Особенно памятно мне раннее утро, почти ночь на 2 января 1903 года – ровно 70 лет со дня кончины старца. Я пришел тогда в эту келью часа в три и провел в ней несколько часов. Сперва я был один, потом стали подходить богомольцы, большею частью дивеевские и понетаевские монахини, и панихиды служились почти без перерыва, одна за другой. А в воздухе стояли какие-то сладостные обещания, какая-то невыразимая радость. Помню и торжественную обедню в этот день в зимнем соборе, и опять какую-то чрезвычайную радость, какое-то непередаваемое ликование, которое наполняло собор. Яркие лучи солнца били в большие окна, и что-то говорило без слов о великой победе, о незаходимой славе, о всеобъемлющей любви и доступном духовном счастье. А когда после панихиды, закончившеюся литиею на могиле, я подошел в задумчивости к воротам, оттуда, снаружи, на меня глянула свежая зелень сосен, и я остановился, изумленный: так сильно охватило меня тогда чувство весны...
И вот опять она, эта заветная келья, где жил и молился убогий Серафим, где, обращаясь к знаменитым словам Филарета о келье преподобного Сергия, «запечатлено столько глаголов священных, чудодейственных, пророческих, чей воздух орошен дождем слез Преподобного». Вот порог, «который истерт ногами святых и который переступили однажды стопы Царицы Небесной».
Здесь совершались те таинственные встречи, как та, что описана госпожою Еропкиной, здесь обновлялись существования, здесь застарелые недуги исцелялись мгновенно; здесь звучало слово, сияла улыбка, животворила благодать дивного Серафима. И хочется воскликнуть всякий раз, вступая в это святое место: «Братие, ведь это все здесь!»
Теперь келья изменена. Оставлены ее четыре стены и оконца. Вместо деревянной витрины сделана дорогая бронзовая, печка заключена в стеклянную с бронзой витрину, из изображений старца оставлено только одно, самое замечательное.
Всмотритесь поглубже в него. На коленях со сложенными крестом на груди руками, с медным распятием, стоит он с закрытыми очами, и великая тайна легла на это прекрасное лицо с каким-то восковатым оттенком. Кажется, сейчас подымутся длинные закрытые веки и блеснет мягкий, ласковый взор – но нет: душа освободилась, и в небе с ликованием принимают земного Серафима, Саровского ангела.
Из кельи я прошел к часовне над могилой, откуда за несколько дней до того был поднят и вынесен гроб с останками старца. Теперь там шли работы. Громоздкий большой памятник, стоявший над могилой, оставлен на своем месте, а там, где стоял гроб, сделана выемка, к ней ведет сверху лестница; и в самом месте нахождения гроба он будет поставлен опять, за стеклянной рамой. Вся выемка облицована белым мрамором.
Я видел этот гроб, в котором семьдесят лет пролежал старец в земле, видел его прежде, чем он был водворен на старом месте. Мне пришлось в одной маленькой Саровской церкви застать, как его края один монах, в присутствии Тамбовского епископа Иннокентия и игумена Саровского Иерофея, обивал жестью. Я просил преосвященного дать мне несколько щепок от гроба, и он разрешил мне собрать и унести те части сырого дерева, которые были на дне и которые, не выламывая, можно было взять руками. Гроб этот, который задолго до кончины старец приготовил себе и держал постоянно в сенях, представляет собою дубовую колоду.

Могила и гроб преподобного Серафима, в котором его мощи находились в земле 70 лет. Фото 1903 г.
Посетив эти места, я отправился к себе в гостиницу. Вскоре приехал мой петербургский знакомый, а теперь компаньон по комнате, один молодой генерал, известный ревнитель церковности. Быть с ним являлось чрезвычайно удобным, потому что благодаря своей военной форме в те дни, когда монастырь отовсюду был оцеплен войсками и возникали затруднения для пропуска даже лиц, снабженных всевозможными билетами, он мог повсюду проходить и проводить своих спутников.
Первые часы были посвящены на то, чтоб устроиться возможно удобнее.
В гостиницах не было никаких буфетов и ничего съестного, подавали только самовары. Съедобное можно было иметь только в ресторане, устроенном под навесами прежнего монастырского конного двора.
Устроившись, разобравшись с вещами и обдумав порядок дней за время жизни в Сарове, я в тот же вечер отправился на источник.
Дорога между Саровом и источником отца Серафима представляла одно из самых интересных и типичных мест в широкой панораме тех дней.
Идущая по извилистому берегу речки Саровки, вдоль стены старого соснового бора, эта живописная дорога как-то раздвинулась за это время. Узкая тропа старца Серафима, к сожалению, превратилась в ширококолейную бойкую дорогу, по которой свободно разъезжалось несколько экипажей. Скачущие взад и вперед тройки и пары, непрерывная почти лента богомольцев по обеим сторонам, идущих к источнику и возвращающихся оттуда, – все это производило большое впечатление, усиливаемое частыми встречами с исцеленными или рассказами о только что совершившихся исцелениях. Не только все то, что там происходило, не было точно зарегистрировано, но часто об исцелениях никто и не знал; они тонули в общей неизмеримой массе добрых дел старца Серафима, и иногда вы шли рядом с каким-нибудь исцеленным, ничего не подозревая, пока не заговаривали с ним, и тогда лишь, из бесхитростной беседы его, вы узнавали о том, что с ним случилось. И все эти серые люди, из близких и дальних мест – старики, взрослые и дети, – сливались как-то в одно, вы забывали имена, местности, подробности их недугов, только все ярче сияла, все несомненнее вырисовывалась пред вами исцеляющая благодать старца Серафима.

Часовня над источником преподобного Серафима. Фото 1903 г.
Вот стоит толпа народа вокруг деревянной тележки, на которой лежит мальчик, согнутый несколько лет болезнью чуть ли не колесом; он начал выпрямляться, стал владеть руками; в безжизненных, натуженных членах явилась гибкость, откуда-то по иссохшим жилам потекли соки, и он, точно сам не веря, все поводит рука ми, все более и более приспособляется к новому своему счастью: способности движения.

Хромой Василий Лыков, исцелившийся на источнике во время торжеств по прославлению Преподобного. Рисунок начала XX в.
«Мальчик пошел», «у девочки ножка развернулась», – вот слова, так часто слышавшиеся на этой дороге к источнику.
Бывали сцены прямо потрясающие.
Петербургские священники отцы Орнатский и Рождественский как-то увидели окруженную толпой женщину, которая только что прозрела после многолетней слепоты. Она потеряла зрение внезапно, занятая на поле жатвой. Ее рассказ был прерван громким восклицанием:
– Голубушка, да я тебя знаю, ты у меня слепенькою останавливалась.

У купальни на источнике преподобного Серафима. Фото 1903 г.
Оказывается, что исцеленная, шедшая откуда-то из Туркестана в Красноводск, у Каспийского моря, останавливалась ранней весной у этой женщины, которая ее теперь узнала. Прозревшая же могла вспомнить ее только по голосу. Обе зарыдали, стали обниматься, и исцеленная все повторяла: «Смотри, смотри, глазоньки-то мои смотрят, все видят, ох, глазоньки открылись!..»
Другой раз они видели, как родители прозревшего мальчика не смели верить происшедшему над ним чуду. Чтоб проверить его, родители потихоньку стали уходить от него в лес, а он весело побежал за ними, крича: «Не уйдете от меня! Я вас вижу, я все вижу».
Было множество и не столь крупных чудес.
Один средних лет мужчина, Михаил Матвеев Крымов, служащий ревизором вагонов на станции Лиски Юго-Восточных железных дорог, рассказывал мне следующее.

Петр Зобнин, 6-ти лет, из Тамбовской губернии Моршанского уезда, деревни Бодино. Три года не владел ногами и получил исцеление на источнике преподобного Серафима 11 июля 1903 года
У его дочери, восьмилетней девочки Серафимы, три года была на ноге мучительная мозоль, затвердевшая как кость. Бедная девочка не могла при ходьбе ставить ногу иначе как ребром. Мать ее ездила просить совета у харьковских профессоров, но без пользы.
Родители взяли девочку с собою в Саров и, накануне моей встречи с ее отцом, больную купали в источнике. На следующее утро, когда девочка проснулась, весь этот нарост оказался с корнем, без всякой боли, отделившимся от ноги.

Иеромонах Афанасий записывает случаи исцелений у святого источника, бывшие во время прославления Преподобного. Рисунок начала XX в.
Вы, охваченные воспоминанием о старце, который два раза в день, согбенный под тяжестью своего мешка с камнями на плечах, изнуренный, искалеченный, но радостный, светлый ходил этою дорогою, приближаетесь к источнику, любуясь и светлой Саровкой в зеленых берегах, и могучим бором, но опушке которого вы идете, и многонародием, пестротою красок, разнообразием типов.
По дороге много колодцев, у которых богомольцы утоляют жажду, забирая воду деревянными черпаками, и несколько больших распятий.
Но вот дорога завернула, и вам открылось место ближней пустыньки и источника.
«Радуйся, яко источника твоего воды древния Вифезды славнейшия и сильнейшия показуются» 35.
Эти слова из одного рукописного акафиста старцу Серафиму невольно приходят на ум, когда приближаешься к этому заветному месту.
Там, где протекали в трудах последние дни жизни старца Серафима, Богу угодно было открыть великий «источник исцелений». Предание
говорит, что однажды, когда старец пробирапся обычным путем своим, он в стороне от тропы, в топком низком месте увидел Царицу Небесную. Она ударила жезлом по земле, и тогда у ног Ее воскипел источник чистой ключевой воды.

Внутренний вид часовни над колодцем преподобного Серафима. Фото начала XX в.
«Я молился, радость моя, – слыхали такое свидетельство старца, – чтоб вода сия в источнике была целительною от болезней».
Действительно, кроме массы засвидетельствованных исцелений, полученных от этой воды или чрез купание в источнике, или при употреблении ее в болезнях в разных местах России, все единогласно свидетельствуют о какой-то необыкновенной свежести и приливе сил, чувствуемых после купания в студеной воде этого источника.
Такое же впечатление испытал известный публицист В.В. Розанов, посетивший Саров этим летом и передающий о том в «Новом Времени» в статье «По тихим обителям».
Замечательны свойства этой воды из источника старца Серафима. Она совершенно не портится от времени и всегда сохраняет свою свежесть и прохладу.
Недавно мне пришлось наблюдать такой случай.
Один господин, у которого были большие запасы этой воды, проездом из деревни на дачу занялся приведением в порядок своей городской квартиры. Было удушливо жарко.
Между прочим, слуга его принес ему бутылку с водой, стоявшую все время в кухне, близ плиты.
«Что это за вода? – подумал он. – В таких бутылках у меня только Саровская вода. Попробую-ка ее».
Он велел принести себе рюмку и налил. Вода была прозрачная, чистая и, что удивительнее всего, прохладная, будто сейчас из колодца. Он был поражен; дал слуге, который тоже был удивлен и долго спустя передавал другим об этой необычной подробности.
Когда стоял, бывало, в июле прошлого года около источника, по той жадности, стремительности, с которою шли к нему, невольно сравнивал это место с участком земли, на котором открылись золотые россыпи. Да может ли золото дать человеку то счастье, которое дает ему здоровье? Потерю этого драгоценнейшего, первейшего условия человеческого благоденствия не заменят никакие груды золота.
Я помню источник раньше. Бывало, медленно подходишь к нему, сочувственно оглядываясь по сторонам. Вот на горке стоит подобие унесенной в Дивеев подлинной ближней пустыньки. Тут грядки огородца, на котором трудился старец. И говоришь себе: сколько чувств вместилось в этом воздухе. Здесь происходили эти необычные встречи, где старец называл прямо по имени неизвестных ему людей и рассказывал им всю их жизнь. Здесь он одним словом исцелил многолетнюю застарелую болезнь Мотовилова. Все это видели старые, старые неподвижные сосны. Господи, сколько бы они могли рассказать интересных, необыкновенных, дивных вещей, если бы заговорили!
Потом, бывало, войдешь в высокую восьмигранную деревянную часовню, воздвигнутую над источником. Позади нее идет решетка по краям колодца, уровень воды которого довольно глубок. По борту решетки прикреплены ведерки на цепочках. Их бросают в колодец и, вытягивая кверху, достают таким образом воду. Справа и слева от дверей на бревенчатых плотно и часто сложенных стенах висят в простых деревянных широких рамах два громадных изображения старца Серафима: молящимся на камне и идущим к лесу, опираясь на палку. Слева от входа стоял монах со свечами; у него же можно было иметь и бутылки для воды, со штемпелем: «Из источника старца Серафима, Саров».
Как было приятно стоять в тишине у этой отрадной воды, самому бросать в колодец ведерко и вытягивать его.
Есть какое-то особое обаяние для русской души в этих «целебных колодцах».
Помню я купание в селе Косине, недалеко от Москвы, знаменитый источник преподобного Тихона Калужского; источник в Богословском, под Казанью, монастыре; у Антония Дымского, близ Тихвина; новый колодец старца Амвросия, в Руднове, близ Шамординского монастыря.
Что-то очистительное, животворящее есть в самой водной стихии, силу которой современные врачи считают все более и более целебною. И чем-то глубоко успокоительным, ласковым, приветливым веет на душу от всех этих целебных колодцев. Мягко звучит вода, мягко раздаются вокруг пониженные голоса, и вера того народного множества, что долгими годами – то толпою, то поодиночке, – проходило здесь, невольно охватывает и вас.
Этому спокойно-углубленному настроению уже не было места у источника старца Серафима в прошлое лето.
Если б кто там стал пригоршнями бросать золото, и тогда, кажется, не могло бы быть большей давки.
Было очень трудно получить, а еще того труднее зачерпнуть воды в самом источнике. Очень трудно искупаться в срубе. Народ стоял бесконечными шеренгами, ожидая очереди. Конная полиция сдерживала напор толпы, а входы в купальни эти охранялись командами солдат. В самых купальнях была страшная давка. Раздеваться приходилось почти в толпе.
Во избежание давки многие приезжие дамы, судя по внешности, образованные и богатые, снимали платья и шляпы где-нибудь неподалеку, входя в купальню в одном белье.
Я слышал, что с этого года купальни подвеглись коренному переустройству, чему нельзя порадоваться. Как и прежде, теперь их четыре: две мужских, одна для народа почище, другая для простонародья, и две женских. Но купальни, говорят, сделаны теперь теплые, так что и робкие в вере станут теперь купаться зимою. Кроме того, вместо одного крана, бывшего прежде во всех купальнях, теперь сделано, кажется, по восьми.
Жадность, с которою расхватывалась Саровская вода, трудно описать. Множество ее вывозится и выносится из Сарова людом всякого звания и всевозможными способами – от дорогих английских чемоданов до бедных богомольческих котомок. Кроме того, множество ее рассылается по почте, так как в Саров постоянно приходят требования на эту воду из разных мест России. И если знакомые ваши знают, что у вас есть большие запасы этой воды, к вам постоянно обращаются за ней.
Невольно, глядя на ужасные недуги, от которых ждали себе исцеления богомольцы, зарождалась мысль о необходимости устроить при Сарове что-нибудь вроде братства братьев милосердия.
Каких ужасных положений, увечий, подчас прямо невероятных, вы насмотритесь в Сарове. Параличные со сведенными членами, слепые, немые, бесноватые, многие идут на костылях. Кто идет на четвереньках, лицом книзу; я видел даже одного, шедшего на четвереньках, лицом кверху, и это производило особенно ужасающее впечатление.
Я был также поражен видом одного человека, лежавшего поодаль от источника в лесу, в телеге, в которой привезла его стоявшая тут же у телеги жена его, приятная, здоровая женщина.
Когда я заглянул под полукруглый навес телеги, я увидал лежавшее там человеческое существо, поразившее меня своими руками. Руки от самого плеча были невероятно тоненькие, красные, и, что было особенно страшно, не круглые, а плоские. К этому обезображенному недугом корпусу была приставлена совершенно на вид здоровая голова с умным, симпатичным лицом. Если б прикрыть его до шеи, ни за что бы не догадаться, какую зловещую развалину он представляет.
До военной службы он был очень силен, славился по всему селу как первый силач. На военную службу он был взят в Кронштадт, во флот, а там, в числе лучших матросов, определен в учебную команду. Он сильно как-то заболел, температура подымалась до 41 градуса. Врачи, вероятно, не поняли его болезни и сажали его в ледяные ванны. С этого он и захирел.
Смотря на эти ужасающие примеры человеческих болезней, невольно вспоминал евангельские строки о Вифезде, пять притвор имущи, в тех слежаше множество болящих, слепых, хромых, сухих, чающих движения воды (Ин. 5, 2–3).
Исцелительное движение воды в Сарове не совершается, но вода его целебна всегда. И мне думалось, как бы необходимо собрать сердобольных людей, которые посвятили бы себя исключительной цели – служить привозимым в Саров больным. Как, например, женщине подносить к купальне недвижимого мужа? Приходится обращаться к помощи посторонних. А как трудно этим посторонним подносить к крану такого паралитика.
Все бы это могло быть так хорошо выполнено такими братьями милосердия, хотя, очевидно, можно бы было учредить особое для этой цели послушание для Саровской братии.
Что такие люди нашлись бы из мирян, в этом нет сомнения.
Когда-нибудь я предполагаю подробнее остановиться на вопросе громадной важности в духовной жизни образованного общества, а именно о необходимости создания таких центров, где образованные люди, слишком опутанные цепями мира, могли бы, хоть временным в них пребыванием, настраивать душу на иной лад, не давая при этом никаких обетов, и с целью после этого, так сказать, курса духовного лечения возвратиться снова в мир.
Замечу кстати, что такая мысль была у почившего митрополита Киевского Платона, который передавал ее одному моему знакомому.
Как-то раз, посетив Саров, я шел от источника к дальней пустыньке, где со мною повстречался молодой человек аскетического вида. Он стал меня расспрашивать, узнав, что я приехал из Петербурга, не слыхал ли подробностей о возникающем кружке «братьев милосердия», к которому он, как он говорил, охотно бы примкнул.
Вот бы и были разом достигнуты две прекрасные цели: помощь больным и удовлетворение духовных запросов людей, которые ищут жизни самоотверженной, но не склонны к монашеству.
Весьма жаль, что запись исцелений в Сарове не была обставлена с достаточной точностью.
Чудеса, несомненно, происходили; и их было много.
Между тем не было производимо обследования исцеленных врачами, и многие исцеления остались вовсе не записанными.
Рассказывали, что сильное впечатление производили костыли исцелившихся у источника, которые эти люди тут же с радостью бросали.
Их народ собрал и сжег.
Громадная толпа народа, какое-то радостное ее возбуждение, разнообразие и пестрота красок на фоне голубого неба и темно-зеленых красок – все это производило сильное впечатление.
За два дня до открытия святых мощей, под соснами, иеромонах исповедовал народ, готовившийся к приобщению накануне торжеств. И было что-то особенное в этой исповеди под открытым небом и соснами, современницами старца, в нескольких шагах от чудодействующего его источника.
От источника с ближней пустыньки можно пройти к дальней пустыньке. Дорога лежит по лесу. Проходя среди стен этих громадных сосен, вспоминаешь, как ходил здесь старец. В систему своего духовного воспитания он ставил, между прочим, живое воспоминание о крестной жертве, и потому он окрестность своей пустыньки назвал евангельскими именами. Саровку он представлял себе Иорданом; был у него и сад Гефсиманский, и Фавор, и Голгофа.
Хорошо в этом лесу, который я видал в разные времена года. Хорошо весною, когда перекликаются в нем соловьи и слышен здоровый смолистый запах; хорошо и зимой, когда между деревьями надует сугробы и в поредевшем лесу все ждешь, что вот затрещат сухие сучья и пройдет медведь, потомок одного из тех, что хаживал в гости к старцу Серафиму.
Путь к дальней пустыньке идет мимо того места, где находился знаменитый камень – скала старца Серафима, на котором он проходил подвиг столпничества.
Подвиг этот был совершен в глубокой тайне и открыт лишь незадолго до кончины старца...
Посещая место подвигов старца Серафима, богомольцы бывали и у этого камня, и из незаметной лесной тропы мало-помалу образовалась к нему дорога, по которой можно проехать в экипаже.
Самого камня давно уже нет на этом месте. Богомольцы отламывали от него кусочки, которые получили ту же целебную силу, как и вода из источника старца. И не раз великий старец, являясь больным, приказывал погружать такие кусочки в воду и пить ее, обещая исцеление.
Некоторых смущает мысль, как же столь многочисленные куски могли быть отломаны от камня средней величины и еще осталось два куска (один – в келье старца в Сарове; другой – в ближней пустыньке в Дивееве).
Надо заметить, что камень этот был весьма обширен, уходил глубоко в землю. Его можно даже назвать скалою. Камень же, бывший в келье, мал, тонок и имеет довольно правильную овальную форму. Он хранится в полной, кажется, неприкосновенности в Дивееве, в алтаре, устроенном из дальней пустыньки.
Моление на камне стало любимою темою из жизни старца Серафима. В смысле художественном трудно придумать что-нибудь более удачное. На темной зелени бора, под блеском звезд, старец с поднятыми кверху руками, с медным крестом на белом балахоне.
Вот и самое это место: под крышей на четырех столбах положен камень, отдаленное подобие того камня, и пред ним распятие. Тихо, задумчиво, сосредоточено все кругом, и так как в тишине пройден был этот тяжкий подвиг, то кажется, что всякая игла на окружных соснах творит неустанно молитву, какой молился тогда старец: «Боже, милостив буди мне грешному!»
Вы стоите пред этим местом и силитесь понять, к чему, для чего был предпринят им этот выходящий из ряду, необыкновенный, странный подвиг «моление на камнях». Ведь сколько людей осуждают старца за этот его труд, находя его излишним, сравнивая его с каким-то факирством.
А между тем кому, как не этому великому психологу должно было быть понятно все значение, вся великая цель этого подвига. Он предпринял его тогда, когда яростные нападения на него врага спасения стали особенно жестоки. Он чрез этот подвиг как бы бросился весь в лоно любви Божественной, словно говоря Богу этим мучительством: «Господи, Ты видишь, что я готов пострадать. Только пощади меня; только дай мне сил терпеть. А я, вот, видишь, распинаюсь с Тобою!»
Нам, людям, поглощенным миром, лишь изредка и мельком воспринимающим духовные впечатления, мало понятным кажется эта жажда мученичества для Бога, которая распаляет избранные души. Взять на себя все муки земли и в горниле страданий, почти невыносимых, возвыситься до созерцания Бога – вот цель таких душ. Та жертва Христова – распятый Христос с каплями крови, стекающими по челу из-под тернового венца, – вечно свежа пред ними, составляя вечную рану – хоть сладостную, но все же рану их сердца.

Часовня на месте подвига столпничества преподобного Серафима. Фото начала XX в.
«Пострадать», выбрать себе вольную муку и упиться ее истязанием – вот жажда этих безусловно искренних и пылких душ, пред чьим образом все радости мира заслонены Крестом с распятым Богом. И мы, чтоб спокойно наслаждаться жизнью, срывать лучшие цветы существования, – мы закрываем глаза пред этим великим знамением страдающего за нас Бога. Мы, видя Крест, не видим Его, не видим Его требований, не понимаем необходимой взаимности страданий. Не то эти люди, слишком глубокие, прямые и честные, чтоб жить в широте, неге и счастье там, где Сын Человеческий прошел, не имея постоянного пристанища, где Он начал с яслей скота и кончил Голгофой.
Один из глубочайших богословов Франции, вдохновенный Массильон, превосходно, дивно рассуждает о соучастии верующего человеческого сердца в вечно живых для него страданиях Христа.
«Что дает нам право пользоваться плодами крестными и Евхаристией? Страдания, подвиги, жизнь духовная и покаянная. Живя в неге, хватит ли у вас смелости возвещать смерть Спасителя? Осмелитесь ли вы питать такое тело, как ваше, избалованное удовольствиями, прихотями, осмелитесь ли вы питать его плотию распятого Бога? Как заключите вы в ваше тело, страстное и чувственное, Христа умирающего, венчанного терпением? И такое соединение не было бы ли чудовищным? Превращая Его Тело в ваше существо, решитесь ли вы обратить это Тело Божественное в тело сладострастное? И какое будет имя у такого кощунства! Чтобы вам воистину напитаться Телом Христовым, надо, чтоб ваши члены стали Его членами, чтоб Его Тело приняло вид вашего тела. А ведь Его Тело есть тело распятое; Его члены подвергнуты истязаниям. И если вы живете без страданий, если вы не носите на теле язв вашего Христа, если вы никогда не боролись с вашими чувствами и пожеланиями, если дни ваши протекают в безмятежной неге, если испытания вас раздражают, если вас возмущает все, что идет против вашей воли, если вы не предписываете себе сами подвигов умерщвления плоти или с ропотом принимаете те подвиги, на которые вас обрекает небо, – то как же вы хотите принять в вашу плоть – плоть Христа Иисуса?»
А вот еще вдохновенные строки36 о высочайшем значении страдания:
«В чем Ангелы могли бы завидовать людям? Конечно, лишь в том, что мы можем страдать для Бога, а они никогда за Него не страдали... И не одни Ангелы могли бы пожелать себе этого величия, этой трогательной красоты страдания. На вершине Своей славы Сам Бог был восхищен тем, что являет из себя человек, объятый страданием, этою дивной способностью забыть себя, страдать и умереть за того, кого любишь. И кажется, что, если б Бог не нашел средства умереть за человека, который страдал и умирал за Бога, то у человека был бы некоторый оттенок красоты и величия, которого бы недоставало Самому Богу. И вот почему настал заветный день, когда небеса отверзлись и Сын Божий восшел на Крест в бесконечном страдании, чтобы, как велики ни были жертвы человека для Бога, человек всегда видел Бога в славе заклания высшего, чем все его жертвы».
И не нам, во всяком случае, пред теми неимоверными непостижимыми плодами, которые пожал своею жизнию старец Серафим, осуждать какую-нибудь из главнейших стадий того жизненного пути, который он так сознательно прошел, восходя от силы в силу, и на котором это «моление на камне» было одним из главнейших оружий, которыми он вырвал у «врага» славную победу.
Понятно, почему это орудие – его камень, – как бы запечатлев в себе силу духа и святость старца, в свою очередь, стал чудотворным, то есть победительным в борьбе жизни человеческой с нападающими на нее недугами.
После довольно продолжительной ходьбы по лесу открывается стоящая на холме, среди полянки, дальняя пустынька, то есть точная копия стоявшей здесь и перенесенной в Дивеево дальней кельи старца Серафима.
На этом именно месте прошло самое важное время его жизни, здесь он возрос до своей великой меры. Тут прошел он подвиги пустынножительства и молчальничества; здесь кормил диких зверей, здесь три года пропитался исключительно отваром травы снитки. И какие тайны его сокровенной в Боге жизни заключены в этом месте. Чего бы не дал, чтоб поднять завесу над этой тайной. Но нет! И только сознаешь, что великое что-то осталось в воздухе этого места, что неизгладим неощутимый, но душе внятный след той жизни, что здесь когда-то блистала.
По крылечку вы входите в сенцы, и за ними довольно просторный покойчик с большим портретом старца. Очень интересен маленький коридорчик-тайничок, между стеною и печью. Сюда отец Серафим мог укрываться, когда он избегал людей, и к нему в келью входили чуть ли не силою. Еще интереснее его другое убежище, куда он прятался от искавших его людей, когда его душа требовала уединения. А из воспоминаний госпожи Аксаковой мы видели, что иногда народ гонялся за старцем, словно охотник за драгоценною дичью.
Уже много лет по кончине старца на месте его пустынной кельи нашли в земле как бы каменный четырехугольный ящик-склеп, в который, очевидно, он мог влезать, лишь подняв половицу. Можно думать, что это тайное убежище имело для него еще какое-то особое значение, которое вполне и не может быть никогда разгадано.

Внутренний вид реконструированной дальней пустыньки (с входом в помещение под кельей, куда Старец скрывался для молитвы). Фото начала XX в.
Холм, на котором стоит келья, окружен другими возвышенностями, и это строение почвы напоминало старцу Серафиму Афон.
Внизу, внутри холма, вырыта маленькая пещерка, куда тоже старец иногда уединялся.
Меня очень интересовало видеть траву снить, отваром которой отец Серафим пропитался три года. По моей просьбе один монах нарвал мне ее. Трава самого обыкновенного вида. В Дивееве мне рассказывали, что весною со снитью часто варят щи.
Неподалеку от кельи находится огород старца со вскопанными им грядами. Здесь он работал, выращивая овощи для своего пропитания. Для удобрения гряд он клал мох, а мох этот собирал, обнажив себя по пояс, чтоб его жалили комары, оводы и слепни, мириадами вившиеся над болотом. Здесь на этом огороде во время работы погружался он в духовные созерцания. Топор или мотыка падали из его рук, руки опускались, и душа словно отлетала на небо.
Как приятно взять на память несколько картофелин из этих гряд, возделанных чудным старцем. В память его доселе садят на них картофель.
На этом же огороде совершилось событие, о котором гласит прибитая к столбу дощечка.
Однажды отшельник был занят рубкою дров в лесу, как к нему подошли трое крестьян и стали нагло требовать с него денег, говоря: «К тебе ходят мирские люди и деньги носят». Отец Серафим отвечал: «Я ни от кого ничего не беру». Те не поверили, и один из них кинулся на отца Серафима сзади и хотел повалить его, но сам упал. Будучи необыкновенной силы и при топоре, старец мог бы легко справиться со злодеями. Эта мысль, по

Место огорода преподобного Серафима. Фото 1903 г.
человеческому инстинкту, мелькнула в нем. Но он вспомнил слова Христовы: ecu бо приемшии нож ножем погибнут (Мф. 26, 52). И спокойно сложив на груди руки, он произнес: «Делайте, что вам надобно». Отец Серафим нарочно выронил из рук топор, и один из разбойников ударил его топором в голову так, что изо рта и ушей его хлынула кровь, и, упав на землю, он потерял сознание. Разбойники поволокли его к келье, продолжая бить его колом и обухом топора и топтать ногами. Потом обшарили его келью, но ничего в ней не нашли, кроме нескольких картофелин и иконы. Тут охватило их раскаяние, и они в ужасе убежали. Придя в чувство, старец кое-как выпутался из веревок и стал благодарить Бога, что Он послал ему безвинное страдание, и помолился, чтоб Господь простил его обидчиков. Он еле приплелся в Саров. Вызванные из Арзамаса врачи удивлялись, как он остался жив. Голова у него была проломлена, ребра перебиты, грудь оттоптана, по всему телу смертельные раны. Отец Серафим был исцелен явлением Богоматери, но остался искалеченным на всю жизнь. Еще раньше, во время общей с братиею работы в лесу, он был придавлен упавшим на него деревом и потерял природную статность и стройность. Теперь же он окончательно пригнулся к земле и стал ходить не иначе, как опираясь на топор, мотыку или палку.
И тут, среди этих всех вещественных следов его жизни, на этой земле, истоптанной его ногами, увлажненной его кровью, так ослепительно ярко встает пред вами его жизнь, точно вы воочию видели его здесь.
Смотрите: вот он в балахоне из белого полотна, в лаптях, с медным крестом на груди задумчиво пробирается по лесу. Вот он дошел до места, которое называется у него Вифлеем, и все существо его охватила радость рождения Христа, и тишину пустыни оглашает песнь, принесенная когда-то с неба Ангелами: «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение»37... Священные слова пронзают мысль старца. Значение этого громадного события постигается им все глубже и глубже, и вот настает чудный миг высшего откровения. Песня славословия замолкает. Лицо с закрытыми глазами поникло к груди, а правая рука медленно водит около сердца. Лицо его постепенно изменяется и издает необыкновенный свет. Он что-то созерцает с умилением, чему-то с изумлением внимает.
Нет таких слов на языке человеческом, чтоб описать все пережитое в этой пустынной келье, в этом дремучем бору отцом Серафимом. Одно можно сказать: душа его чувствовала тут живо, явственно Бога. И, быть может, те шаги Божества, которые в раю были доступны слуху Адама, которые впоследствии улавливал и великий пророк, – быть может, долетали они и до слуха смиренного Серафима. Как же за несколько лег такой жизни он мог не стать тем полунебожителем, каким увидели его современники, когда он, совершив дело приближения к Богу, покорный зову избравшей его Богоматери, вышел на служение русскому люду. Эти годы постоянной беседы с Богом, постоянного углубления в тайны Божества, годы высочайших духовных созерцаний оставили на его лице то сияние, тот необыкновенный, невещественный свет, о котором говорят в своих о нем воспоминаниях многие его современники.
Взлетев тут, в пустыни, на эту необыкновенную высоту, отец Серафим уже не спускался с нее. И вот почему все чувствовали в нем что-то ангельское и, трепетно созерцая его, точно недоумевали: действительность ли он или видение, которое сейчас развеется световыми лучами или вознесется к небу?
Теперь, уходя из дальней пустыньки, заканчиваем воспоминание о старце как о земном человеке, чтоб говорить о нем лишь как о «чудотворце».
И невольно, мысленно пройдя путь этой жизни, все стадии этого постоянного терзания себя, невольно воскликнешь: «Господи, к чему, зачем? Этот голод, это трехлетнее питание себя отваром травы снитки, это предоставление тела жалению насекомых в болоте. Это тысячедневное и тысяченощное моление на камнях»... К чему все это? И этого точно мало. Несмотря на всю ту вольную муку, которую с такой охотой, такой даже жаждой принимал на себя этот удивительный человек, еще и внешние беды...
То придавило его дерево, то до полусмерти избили разбойники за то, что он не дал им вещи, от которой бежал из мира, – денег?
И пред зрелищем этих самотерзаний, этих испытаний ...невольно вскрикиваешь: «Господи, да за что же это?!»
И поймешь, углубившись всей душой в эту лучезарную жизнь, что тем, кто так возлюбил Христа, как он, кто словно не только видел, но уже и хватался чрез свой земной век за будущую всеблаженную жизнь, только и мог быть один на земле путь: неимоверного и для всякого другого человека совершенно невыносимого страдания.
Только страдание могло утолить эту душу, которая с такою силою умела представить себе, понять и оценить всю тяжесть страдания распятого Бога. Только страдание могло успокоить человека, который, может быть, с детства уже жалел, что нет гонений за Христа, что он не может, чтоб доказать Ему свою беззаветную веру, идти за Него на смерть пред глазами тысяч, которые чрез эту смерть могли бы уверовать в Того, за Кого бы он умер. И эту любовь и готовность отец Серафим доказал не страданиями каких-нибудь нескольких часов, не смертью на арене, в красивой обстановке, пред тысячной толпой если не сочувственных, то все же взволнованных зрителей. А доказал ежедневным вольным мученичеством, ежедневными схватками со «львами и леопардами»38, отражая которых он до последнего дня своей жизни должен был, в виде крепчайшего против них оружия, томить себя, казнить и пытать свою человеческую природу.
«Смотрите, – как бы говорил он им, – разве страшны вы для меня, когда я самого себя распинаю. Преследуйте меня до смерти. Я не сдамся».
И доказала его жизнь еще лишний раз, что триумфальный путь христианина лежит не по ковру из роз, а пролегает непременно чрез Гефсиманию и Голгофу. И что узрит и приобретет Христа и Царствием Небесным завладеет лишь тот, Христа ищущий, кто, вслед за Христом, бесстрашно понесет свой крест и до конца не сбросит его с плеч, пока не передаст его вместе с жизнию своему ожидающему и с любовию на подвиг его взирающему, хотя бы, казалось в иные минуты испытаний, забывшему Своего раба – Христу.
Прежде чем наступили торжества, мне хотелось посмотреть на так называемый «городок». 39
Это громадная лесная поляна близ речки, где были устроены бараки для простонародных богомольцев.
Отдаленность этого места от монастыря доставляла народу немало затруднений, тем более что дорога туда, как по всем окрестностям Сарова, песчаная. Нога прямо тонет в тонком сухом песке, и взбиваемая множеством ног пыль почти не улегалась во все дни. Только здесь находились лавки, где можно было покупать съестное, хотя запасы были ограничены и даже хлеба часто не хватало.
Бараки были рассчитаны на несколько сот человек и состояли из двух высоких продольных стен и крыши. Посередине был проход, а по обеим сторонам его полати в два этажа. Интересно было пройтись по бараку, где были собраны волостные старшины Тамбовской губернии. Большею частию все умные, выразительные лица; много прямо великолепных по экспрессии старческих голов.

В обоих концах «городка» были устроены высокие шатры-часовни, чтоб народ, не попадавший к монастырю, мог слышать в них молебны и всенощные.
Когда я с моими спутниками подходил к часовне, раздались ужасные крики. Оказалось, что к часовне вели «порченую», молодую девушку,

«Городок» богомольцев в Сарове. Фото 1903 г.
которая упиралась и не хотела приблизиться к святыне. Страшно было смотреть на ее искаженное лицо и на ее судорожные корчи. Она кричала не своим голосом. Бывшая с нею ее мать рассказала нам, что обыкновенно она совершенно нормальна, но во время припадков с нею почти невозможно сладить.
В нашем обществе была молодая монахиня из образованного круга, которая видала много таких бесноватых. Она рассказывала удивительные вещи про них. Ей приходилось говорить во время забытья больных с сидящим в них духом; эти духи говорили ей иногда тайны, и однажды таким образом она предупредила знакомую об опасности, которая ей в действительности угрожала.
Если б не безусловное доверие, какого заслуживает рассказчица, такие повествования можно было бы принять за сказки. Но и другие достоверные лица, старавшиеся постичь этот загадочный мир духов, рассказывали мне вещи, которые доказывают, что действительно, эти несчастные не суть истерические больные, а «одержимы духами» в прямом смысле слова, как то говорится о евангельских бесноватых (см.: Мк. 5, 2–5). Например, известно, что во время беснования такие люди, даже безграмотные, выкрикивают слова на иностранных языках. Они, лежа в конвульсиях, кричат о том, что происходит вдалеке, и впоследствии, по проверке, слова их оказываются верными.
Вообще эта ужасная болезнь, столь мало исследованная, весьма загадочна. Но едва ли можно согласиться с людьми, храбро рассекающими этот вопрос утверждением, что это или лишь притворство, симуляция, или вид острой истерии.
По общему совету мы решили отправить девушку к источнику старца Серафима и для этой цели наняли тут же в «городке» подводу. Девушка упиралась, и, хотя не слышала, куда мы ее отправляем, так как мы говорили между собою на иностранном языке, а за подводою пришлось идти на другой край «городка», она кричала: «Не надо к источнику, ожжет!»
Еле-еле, с помощью сильного мужчины, которого мы тут наняли, усадили ее на подводу, и так она поехала, причем ее крепко держали мать и этот человек.
В «городке» нам рассказали, что на днях три человека приближались к Сарову, везя с собою закованного в цепи тяжело «одержимого». Чем ближе к Сарову, тем он становился ужаснее, и, наконец, накануне того дня, когда мы были в «городке», уже находясь в Саровском лесу, он разорвал цепи и бежал.
Если признавать беснование за то именно явление, каким описано оно в Евангелии, то вполне понятно отвращение к святым местам и священным предметам, какое составляет вернейший признак этого ужасного несчастия.
«Враги» как трепетали Самого Христа, так трепещут и верных Его последователей. Старец Серафим им невыразимо страшен, потому что никто, быть может, не выносил такой яростной с ними борьбы, как он, и никто не одерживал такой славной победы.
20 июля, на другой день по открытии мощей, я в Саровском соборе был непосредственным свидетелем исцеления бесноватого.
Я стоял у раки перед началом поздней обедни, которую должен был служить мой давний знакомый, настоятель Римской посольской церкви архимандрит Владимир Путята, в миру кандидат Московского университета, потом преображенский офицер. Стоя подле раки, я всматривался в народ, нескончаемою лентою с двух сторон подходивший прикладываться к мощам.
Вдруг у северных входных дверей храма раздались ужасные вопли. Я пошел на них. Восемь мужиков с трудом несли бившегося в их руках немолодого, обросшего волосами мужика. Он напоминал собою страшного гнома из детских сказок. Изнутри его какой-то чужой, посторонний голос кричал с выражением муки и смятенности: «Выйду, выйду!»
Пока его несли по собору к раке, я шел около него. У раки он вдруг затих, точно лишился чувств. Когда его стали придвигать к раке, чтоб приложить, я смотрел ему в лицо. Оно было искажено в таком выражении боли и ужаса, что трудно было вынести это страшное выражение. Но вот его приложили, он очнулся и отошел здоровым. Чары, под которыми он находился несколько десятков лет, были разрушены в это одно мгновение.
Чрез несколько минут я застал его на другом конце собора. Граф Н.Ф. Гейден, бывший староста Казанского собора в Петербурге, записывал место его деревни. Вокруг стояло много народа. Он был болен около 30 лет. Конечно, исцеление его произвело очень сильное впечатление. Чтобы предохранить его от неприятностей, какие могли вызвать ужасные проявления его недуга, у него было выданное ему исправником свидетельство, что он болен тяжкою формою «кликушества».
С 18-летнего возраста, в течение 30 лет, этот человек был лишен исповеди и причастия, так как не выносил приближения всего священного. Я узнал от него, что он был натощак; поэтому я прошел в алтарь и попросил архимандрита Владимира исповедать его. А в конце обедни он впервые после 30 лет был приобщен.
Начались торжества. Начались они большими заупокойными богослужениями по старце и по лицам, к которым он имел отношение: императорам, при которых он жил и при которых последовательно возрастала его слава: от Елисаветы Петровны до Александра III; архиереям, за то же время, и его родителям Исидоре и Агафии. Жаль только, что не были помянуты тут такие лица, как его учителя Пахомий, Исаия и Иосиф40, Агафия Симеоновна Мельгунова, первые дивеевские подвижницы и близкие старцу Мантуров, Мотовилов и отец Василий Садовский.
Какая-то сладкая грусть овладевала душой при этих последних напевах, при этих последних молитвах за человека, которому мы все уже давно молились, без церковных слов, тропарей и стихир, молились всею силою изумленной и растроганной им души.
О, воскресай же, воскресай скорей. Смотри, сколько народу собралось, чтоб приветствовать восхождение твоей звезды, которая не познает более заката. Смотри, как теснятся к тебе с любовию, ожидая и от тебя той же любви, прося от тебя «великих и богатых милостей»41.
Настало утро 17 июля. В ночь на этот день тронулся из Дивеева величественный крестный ход в Саров. В этом ходе несли заветную святыню старца Серафима, его келейную икону «Умиление», а им называвшуюся «Всех радостей Радость», пред которой он почил в коленопреклоненной молитве

Часовня-шатер, где встретились крестные ходы
и которая пребывает в Дивеевском монастыре. В этом же ходе несли и все те многочисленные хоругви, которые от разных мест, городов и лиц были пожертвованы в Саров ко дню открытия мощей. К дивеевскому ходу присоединился и большой ход из Серафимо-Понетаевского монастыря, несшего в ходу свою знаменитую чудесами, недавно явленную икону Богоматери «Знамение».
В восьмом часу утра при громком колокольном звоне Саров во главе с преосвященным Тамбовским Иннокентием вышел встречать дивеевский

Крестный ход из Дивеевского монастыря в Саровскую пустынь 17 июля 1903 года
крестный ход. Встреча должна была произойти на опушке леса, у высокого шатра-часовни.
Стоя в шатре, я любовался всею красотой этой картины: несметною толпою народа, радостным небом, темною зеленью леса, игрою яркого солнца на золотых облачениях и хоругвях.
Вот в глубине лесной просеки показались передовые всадники и затем как бы двигающаяся роща хоругвей.
Под громкий трезвон могучих колоколов на высокой Саровской колокольне медленно двигается этот лес хоругвей, звеня тяжелыми массивными кистями и привесами. Далее воздвизальные кресты и, наконец, за ними иконы Понетаевская «Знамение» и Дивеевская «Умиление», и икона самого старца Серафима, еще не преподобного, еще не канонизированного до завтрашнего вечера, но уже носимая в крестном ходу.
И вспомнил я тогда, за несколько лет тому назад, будучи летом в Дивееве, я видел крестный ход по случаю бездождия, в котором монахини несли портрет отца Серафима. Меня тронуло тогда это – пусть не совсем тогда законное – проявление их любви и веры. А вот теперь они несут его уже на глазах всей собравшейся сюда России.
А сколько глубокого смысла в этом шествии к старцу этих двух икон. Одна была свидетельницею его подвигов, внимала его молитвам; пред нею он изливал все сокровища своей веры. Она же видела и то, что творилось в этой великой душе в предсмертные часы. И вот свидетельница его земных страданий шла теперь на его прославление. Та, что бросала в его душу умиротворяющие лучи в минуты его славного заката, шла теперь озарить час славного, беззакатного уже восхода.

Хоругви. Приношение тульского Общества хоругвеносцев
И думалось, что тут, над нами, в этом светлом воздухе, стоит он на коленях, чудный небожитель, и, как тогда в заветный день посещения Богоматери, восклицает: «Вот Преславная, Пречистая Владычица наша, Пресвятая Богородица грядет к нам!»
Другая икона, недавнего происхождения, уже прославила и утвердила обитель, созданную в честь и память старца.
Когда крестный ход подошел к часовне, иконы встали пред нею, начался молебен, и я мог при солнечном блеске еще яснее, чем раньше в храмах, рассмотреть иконы.
Выражение их обеих как бы знаменует различную судьбу тех обителей, что их хранят. Как известно, Дивеев, несмотря на всю свою духовную славу, далеко не обеспечен и терпит большие недостатки. В жизни его вообще было много тяжелого. Только пламенная вера и любовь к старцу Серафиму помогали дивеевским не унывать.
Молодая же Понетаевская обитель имела судьбу совне более счастливую, а незадолго до прославления старца получила громаднейшее земельное наследство.
Вглядитесь в чудный лик иконы «Умиление». Она одна из немногих икон, где Богоматерь изображена без Младенца. Она сложила на груди руки и поникла головой. Сколько сосредоточенной скорби на этом лике. Скорбит ли Она в предчувствии страдания Божественного Сына, молитвенно ли оплакивает грехи человечества? Сколько тишины и великой тайны в этом образе, и невольно думаешь, глядя на это видение, в котором отразилось прежде всего христианское страдание: «Умились, Владычице, о нас, пришедших к Тебе!»

Икона Божией Матери «Умиление», келейный образ преподобного Серафима. XIX в.

Икона Божией Матери «Знамение» Серафимо-Понетаевского монастыря. XX в.
Но каким торжеством – чем-то победным – веет в душу от Понетаевского лика «Знамение». Дева с поднятыми вверх руками являет на лоне Младенца. Господи, как прекрасно и юно это лицо и как до слез трогает вас эта бессмертная девственная юность Той, которая непостижимым чудом пребыла «до рождества Дева, в рождестве Дева, по рождестве Дева». Как спокойно пророчественно подняты к небу Ее очи, как ярко отражено здесь это спасительное чудо бессемейного воплощения!
Смотрите, словно говорит вам эта икона, на возвещаемую вам радость: «Христос раждается – славите!»42
В радостную ночь Рождества, ощущая свежесть той дальней ночи и чувствуя теплоту скота, согревавшего ясли и блеск той звезды «на востоке», и славословие Ангелов, и приход пастырей, и торжественный караван волхвов, может ли быть в нас иное чувство, кроме радости? Мы тут не раскаиваемся, не жалеем о прошлом, не укоряем себя в грехах, а радуемся всею широтою души, по-детски. Тою же светлою, свежею, простою, наивною радостью полна и эта икона юной невинной Девы с возвещаемым Ей Младенцем.
Кончился молебен, и крестный ход тронулся дальше. Я любовался множеством хоругвей, со всех сторон России присланных сюда к этому дню. Те, что имели изображение старца Серафима, молящегося на камне, производили особенно сильное впечатление. Чрезвычайно оригинальна была одна из хоругвей Общества хоругвеносцев Московских Кремлевских соборов и монастырей. Она изображает кончину старца, и ее края представляют собою как бы концы металлических развевающихся лент.
Что-то нескончаемо радостное было в этом шествии. Это был один из самых высоких подъемов той духовной волны, которую вы ощущали в Сарове и которая порой поднимала вас куда-то в неведомую высоту.
Хоругви были поставлены в новом храме над кельей старца.
Я был в гостинице во время прибытия в Саров Государя и лиц Императорского Дома и увидал их уже в церкви 18 июля на последней панихиде по старце.

Ожидание приезда Царской Семьи у павильона тамбовского дворянства
Участие Государя в торжествах составляло одно из типичнейших и лучших обстоятельств торжеств. Было что-то особенное в этом приезде его в лесную глушь, вдали от железнодорожных путей, ко гробу инока пустынной обители; в этом усердном выстаивании длинных служб, в приобщении за ранней обедней, в толпе простых богомольцев,

Государь Николай II на пути в пустыньки
в посещении, заодно с народом, всех мест, ознаменованных трудами старца Серафима.
Мне было издали видно раз, когда я вышел из своей гостиницы, заслышав громкое «ура», как среди бегущего народа двигалось несколько белых кителей. Это Государь шел пешком в ближнюю и дальнюю пустыньки, и ходил он туда не раз.
И что-то надежное, утешительное для России и ее будущего было в этом единении русского на-

Новый гроб для святых мощей преподобного Серафима. Фото 1903 г.
рода с Царем у гроба давно и предками Царя и отцами этого народа чтимого праведника.
К самому приезду Государя была закончена мраморная рака для мощей старца Серафима.
Эта оригинальнейшая рака, по личному поручению Государя, принявшего на себя расходы

Сень над ракой для святых мощей преподобного Серафима в Успенском соборе Саровского монастыря
по исполнению ее, была исполнена по рисунку и под наблюдением состоящего при гофмаршаль- ской части князя М.С. Путятина.
Она стоит на четырехступенном возвышении белого мрамора и сама сделана из белоснежного мрамора. Невольно напоминает она о голубиной
чистоте того, кто паче снега убедился (ср.: Пс. 50, 9). Своим безыскусственным изяществом и простотою она производит самое светлое впечатление. Помещение для гроба составляют четыре массивные плиты, не имеющие ни шлифовки, ни позолоты – в знак нищеты и смирения старца. На досках – надписи, на боковых – очень интересный список памятных дней жизни старца.
«Святый Преподобный отец наш Серафим, Саровский чудотворец, родился во граде Курске в лето от создания мира 7267, а от Рождества Христова 1759, месяца Иулия в 19 день.
В святую Саровскую обитель вступил лета от Р. X. 1778 месяца Ноемврия в 20 день.
Иноческое пострижение прият лета 1786 месяца Августа в 13 день.
Во иеродиакона рукоположен месяца Октов- рия лета 1786.
В сан иеромонаха рукоположен лета 1793 месяца Септемврия во 2-й день.
Удалися в пустыню лета 1794 месяца Ноемврия в 20 день.
Чудесно исцелен бысть от ран явлением Пре- святыя Пречистыя Девы Богородицы месяца Септемврия лета 1804.
Прият подвиг молчания и удалися в затвор в лето 1810.
Остави затвор лета 1825 месяца Ноемврия в 25 день.
Чудеснаго посещения Богоматери сподобися лета 1831 месяца Марта в 25 день.
Отъиде ко Господу лета 1833 месяца Иануария во 2-й день».
В ногах текст: «Хранит Господь вся кости их, ни единаже от них сокрушится» (Пс. 33, 21).
В головах молитва, найденная собственноручно записанною в одной из книг Преподобного:
«Спаси, Господи, и помилуй раба Своего, и просвети его ум светом разума Святаго Евангелия Твоего и настави его на стезю заповедей Твоих, и научи его, Спасе, творити волю Твою, яко Ты еси Бог наш» (Святой Преподобный Серафим Саровский).
Рака эта закрывается серебряной крышкой, имеющей форму рамы, в которую вставлено изображение старца Серафима, лежащего во гробе. По углам крышки – литые шестикрылые серафимы, а по краям – вязью тропарь. Верхнюю, головную, часть крышки можно откидывать назад, и тогда на внутренней стороне ее виден выпуклый шестикрылый серафим.
На внутренней стороне крышки имеется надпись:
«При Державе Благочестивейшаго Велика- го Государя Императора Николая Александровича Самодержца Всероссийскаго создася рака сия повелением и усердием Их Императорских Величеств Государя Императора и Супруги Его Благочестивейшия Государыни Императрицы Александры Феодоровны в лето от Рождества Христова 1903 месяца Иулия в 19-й день».
Вокруг раки идет бронзовая решетка, украшенная с боков опять шестикрылыми серафимами, а по углам – двуглавыми орлами.
Сень раки, имеющая форму часовни над колодцем старца, владимирско-суздальского стиля, покоится на четырех мраморных столбах, сделана из позолоченной бронзы, увенчана пятью главами- луковками. Ее четыре кокошника заключают четыре картины: 1) лик Спаса Нерукотворенного (подписаны слова, которыми старец ответил на вопрос, сделанный ему незадолго до кончины, как он мог выполнить такие подвиги: «Иисус Христос вчера и днесь, Той же и во веки» (Евр. 13, 8); 2) моление на камне (надпись – молитва старца во время столпничества: «Боже, милостив буди мне грешному» (Лк. 18, 13); 3) кончина старца (подпись: «Честна пред Господом смерть преподобных Его» (Пс. 115,6); 4) Торжественное явление старцу Богоматери (подпись: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас»).
На сени опять восемь украшений – шестикрылые, живописью, серафимы, эмблемы старца Серафима.
Рака заканчивалась при мне, и, когда я увидал ее готовою, она производила сильное впечатление. Кроме ее внешности, благородно простой и прекрасной, в подробностях своих она так запечатлена рвением к памяти старца и любовью к нему!
Несколько десятков лампад, от разных городов, обществ и лиц были привешены с четырех сторон раки на металлических прутьях. Много великолепия и богатства было в этих лампадах, много чувства в надписях. Меня схватила за сердце одна, от граждан города Курска, где родился, вырос и провел всю мирскую жизнь свою Прохор Мошнин, будущий старец Серафим:
«Своему святому сооттичу новопрославляемому Преподобному Серафиму Саровскому чудотворцу, благоговейно чтущие куряне» и другая «от курских прикащиков».
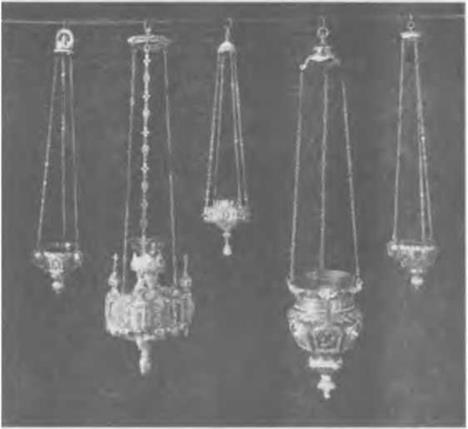
Лампады у раки Преподобного. Приношения граждан города Курска
Эти небогатые трудящиеся люди сложились и прислали ценный дар человеку, который в юности трудился тем же трудом, как и они, когда был родными посажен за торговлю. И все эти лампады ждали времени, чтоб разгореться и не гаснуть, пока стоит Русская земля. И невольно пред этими готовыми зажечься во славу нового чудотворца светильниками вспоминалось, как он сам теплил у себя в келье множество лампад и свеч за своих духовных детей.
Оставалось всего несколько часов до открытия мощей.
Овладевало невольное волнение. Узнав, что в нашей гостинице остановилась дивеевская игумения Мария, я зашел к ней. Она была, как всегда, спокойна пред этим событием, которого ждала столько лет. И в эти именно минуты было особенно отрадно видеть ее. Но надо было собираться в собор.
Он был заперт. На громадной соборной паперти стояла нарядная толпа, все в мундирах. Приезжие из разных мест чиновные лица, местные дворяне, из которых многие в придворных мундирах.
Сквозь стекла дверей собора видно, как Государь, Императрицы и Августейшие лица вешают привезенные ими к раке лампады. Когда они удаляются, впускают эту избранную публику, которая неспешно размещается в средней части собора, огороженной решетками.
Собор весь полон какой-то молчаливой, задумчивой торжественности. Совне сделано все, чтоб праздник вышел великолепным.
Как чудно белеет беломраморная рака, окруженная со всех сторон роем повисших над нею лампад. По белым ступеням разостлан художественный ковер, усердия и рукоделия Императрицы Александры Феодоровны, чрезвычайно приятных светло-зеленых тонов, задуманный с удивительною художественною простотой.
Два громадных клироса заняты певчими в мундирах. На правом клиросе громадный хор митрополита С.-Петербургского с регентом Терновым; на левом – не менее многочисленный хор Тамбовского преосвященного. Вообще со стороны благолепия священнослужения было сделано все, что можно, и даже на меня, видевшего самые, какие себе только можно представить, значительные и пышные служения, оно производило импонирующее впечатление. Множество духовных лиц наполняло алтарь, среди них знакомые по столицам, известный редактор «Троицких листков», казначей Троицкой лавры архимандрит Никон, теперешний епископ Муромский, ректор Петербургской семинарии архимандрит Сергий и наместник Невской Лавры Корнилий; петербургские протоиереи отец Философ Орнатский и священник Рождественский, командированные на Саровские торжества для проповеди и уяснявшие в предыдущие дни народу черты духовного облика старца Серафима.
Вот входят епископы, потом, со «встречею», высокопреосвященный митрополит Антоний. В задней части храма располагаются лица свиты, министры, наконец, смиренною поступью входит Государь и обе Императрицы.
Начинается всенощная.
Стоишь как бы в тумане. Да, все это наяву: эта белая рака на белых мраморных ступенях, эти бесчисленные лампады, этот громадный подсвечник в ногах раки, с колоссальными в нем свечами. Этот небольшой, в нескольких шагах от меня, катафалк, покрытый зеленым бархатом, и пред ним тоже подсвечник, переполненный вставленными в него, но еще не зажженными свечами.
Всюду зеленое – цвет преподобных; зеленый ковер у раки, зеленое на катафалке, зеленое облачение на духовенстве, с серафимами.
Сквозь туман вашего волнения слышите вы в первый раз пение составленных ему стихир, и странным вам кажется, что все это, что тут происходит и за чем следит сейчас вся Россия, этот приезд Государя величайшей в свете державы в лесную глушь, этот от севера и юга, востока и запада собравшийся народ: и этот, со значением и

Перенесение мощей преподобного Серафима из храма преподобных Зосимы и Савватия Соловецких в Успенский собор 18 июля 1903 г. во время всенощной
связями свободно стоящий тут и теснящийся вокруг собора, и сотни тысяч там, за оградой, и те нескончаемые вереницы, что тянутся еще сюда по всем путям, из всех углов России, – что всюду эту громаду всколыхнул один, умерший 70 лет назад, человек.
И странно вам то, что этот человек, который был так просто близок вам, теперь окружается этим трогательно-величественным ореолом церковной святости; что это для него, которого вы привыкли мыслить в белом балахоне, с топориком в руках или кормящим хлебом из рук медведя, – для него это пышное богослужение, и мраморная рака, и лампады, и свечи, и эти церковные песни, которые поют по новоотпечатанной, на днях лишь спешно присланной в Саров «службе».

И так странно, смутно на душе, и так страстно ждет она, когда же наконец придет он сюда сам смотреть и внимать всему, что тут для него происходит.
Вот выход на литию. Впереди 125 человек певчих, потом длинная вереница духовенства – зеленые с золотом ризы, золотые митры; за ними идет Царская Семья и часть находящейся в соборе публики.
Я остался стоять на своем месте.
Постепенно ожидание достигает величайшего напряжения. Снаружи доносится не умолкающий звон колоколов; вся церковь переполнена каким-то могучим чувством.
«Вот оно настало. Вот оно, действительно сбывается, – стоит счастливая, ликующая мысль в воздухе, – сейчас, сейчас».
Загораются свечи в руках присутствующих. Иные спешно ставят свечи пред катафалком. Слышен кое-где в соборе плач. Около меня стоит на коленях генерал и читает вслух из «службы» старцу Серафиму, а потом длинный ряд имен людей, которых он хотел поручить заступничеству старца в эту значительную минуту.
А минуты идут одна за другой, и снаружи все звучат колокола, и тихо капают у многих слезы.
Чье-то горе утихает,
Кто-то слезы тихо льет.
Светлый Ангел упованья Пролетает над толпой.
А ваша душа без молитвы, без слов, без призывания вся льнет к тому, кто сейчас в невыразимом величии войдет сюда, чтоб пребывать тут до скончания мира.
Наконец! Крестный ход возвращается, и опять лента певчих, ряды духовенства и за ними плотно сомкнутая, медленно подвигающаяся группа архиереев, Государя и Великих князей. Они несут гроб с мощами старца Серафима и ставят его на катафалк.
И как при восходе солнца чудесен тот миг, когда огненной стрелой брызнет первый луч, так и тут что-то сосредоточенно-радостное, надежное, обновляющее светит от этой группы, от этого гроба.
Когда его пронесли в нескольких шагах от меня, мне ощутительно повеяло каким-то неземным благоуханием.
Гроб представляет собою художественное воспроизведение той дубовой колоды, в которой схоронено было тело старца, и имеет в трех местах серебряные обручи в виде листьев.
Гроб установлен. Несшие, видимо потрясенные, расходятся по своим местам. Читается «Отче наш», и затем клиросы впервые поют громовыми раскатами тропарь отцу Серафиму.
«В тебе, отче, известно спасеся еже по образу. Приим бо крест, последовал еси Христу, и дея учил еси презирати убо плоть, преходит бо; прилежати же о душе, вещи безсмертней. Темже и со Ангелы радуется, преподобие Серафиме, дух твой»43.
Трудно передать, какое умиление и восторг вызывали эти два громко пропетых слова:
– Преподобие Серафиме!
Совершилось.
Прощай, дорогой, отрадный старец Серафим. Широко распростри над Русью покров твой, преподобный и богоносный Серафим Саровский, новый чудотворец!..
Замолкли волнующие звуки тропаря, и всенощная продолжалась своим порядком.
И сколько передумалось за это время, стоя пред гробом, от которого не отделял меня ни один человек, а только узкий проход в несколько шагов.
«Великий богатырь русского народа. Почти в наш век ты воплотил силу и искренность первых, юных веков христианства. От детских лет вышел ты на взыскание твоего Иисуса, и неутомима была в твоей душе жажда Его правды. И ты стал жилищем Духа Божия; ты взлетел к созерцанию Бога на крыльях твоих подвигов. Твои тесные пустыньки, загадочная глушь Саровского бора, твои “камни”, твое израненное и изнуренное тело проповедуют “труды твои и болезни”. Но жестокий к себе, как невыразимо ласков был ты, гревший все живое, себя лишавший куска насущного хлеба, чтоб полакомить им медведя. И любовь твоя пережила тебя. Сколько трогательных знаков ее ты оставил по себе: твой утешающий душу, невыразимо кроткий образ, память твоего благожелания, твои сухарики, твоя целебная вода. И никогда не будет заброшен и одинок тот, кто понял тебя и привязался к тебе. Радуйся, истый богатырь земли Русской! В те дни, когда любовь оскудела, когда на русский народ, на душу его возводят клеветы, словно сгинул в народе святой идеал, восходишь ты в ореоле твоей любви, верным и истинным представителем русской народности. И смотри: не погибли еще те люди, не слаб еще тот народ, который так страстно признал твою святыню, так усердно от всех краев своих выслал богомольцев на поклон тебе... О, за эту любовь стой над нашей русской жизнью и украшай ее. Смиряй наши страсти, а в падениях учи покаянию, наставь нас неустанному труду, облагородь и украси наш быт. Раздуй во всех нас до размера очистительного пожара ту Божью искру, которая в тебе пылала с такою стихийною силою. Твердой рукой веди нас к Отцу. О, стой над русскою жизнию. Только не забудь, только думай о нас!»
Перед «хвалите» вышел на амвон епископ Тамбовский Иннокентий и сказал небольшую вдохновенную речь. Он говорил о гробе как источнике печали и о том гробе, что стоял пред нами как символ величайшей победы и ликования. Он напомнил о неисчислимых подвигах, безграничном смирении, пламенной любви преподобного Серафима и о той великой минуте, которую мы переживаем, когда точно небо отверзлось и спустился рой дивных чудес. Особенно сильное впечатление произвели последние, сказанные проповедником в величайшем волнении слова: «Чрез минуту откроется крышка этого гроба, и мы пропоем пред мощами нового чудотворца: ‘‘Ублажаем, ублажаем тя, преподобие отче Серафиме”».
Вот началось «хвалите». Когда оно было спето, водворилась тишина. Среди этой тишины митрополит с ключом в руке подошел ко гробу. Трудно передать то впечатление, когда по всему собору явственно раздалось звонкое щелканье замка. Затем сняли крышку. Тут опять на меня пахнуло, в одно мгновенье, благоуханьем.
Во гробу, под глазетовою пеленою, видно было очертание тела, медный крест на груди, а на челе прорез кружком для целования мощей.
Тогда началось громкое победоносное, словно притягивающее небо к земле, величание, впервые спетое теперь клиром от лица России этому чудному праведнику.
И несколько раз, во время каждения, повторялись эти задумчивые и умиленно хвалебные слова: «Ублажаем, ублажаем тя, преподобие отче Серафиме, и чтем святую память твою, наставниче монахов и собеседниче Ангелов».
Душа, казалось, уже уставала от напряжения.
Господи, какие противоположности! Тут во гробу этот сгорбленный, изможденный, смиренный старец. А вокруг этот блеск, потрясающее величие этой службы...
Поднялась великая теснота, когда стали прикладываться к святым мощам, и я тогда вышел из собора. Проходы к воротам были окаймлены шпалерами солдат, еле сдерживающих напор густой толпы. За оградой все тоже было сплошь покрыто народом, который стоял с зажженными свечами; все было полно надежд, радостей, такого чувства братства... А там, в небе, чувствовался он, сгорбленный старец, весь в белом, с медным крестом на груди, ливший в душу каждого человека внятный ему ответ, он, для которого сошлась сюда вся громада народа, которому звучали колокола, которому пели в церквях, ради которого, казалось, в эту ночь так особенно ярко и значительно теплились в чистом небе светлые звезды.
Некоторое время я просидел у себя в комнате. Пришел кто-то и рассказал, что в церковь, где стоял гроб с мощами, после того как его перенесли в собор, хлынула толпа народа, что там стонут молитвенными воплями и произошли чудеса. Только что несколько человек бросили костыли и стали на ноги.
Пришел мой спутник, весь в слезах. Мы похристосовались, как в ночь Пасхи.
Я не мог сидеть в комнате. Мне хотелось опять постоять в Успенском соборе, пред мощами. Кроме того, я хотел дать возможность приложиться привезенному мною из Петербурга слуге, которому иначе пришлось бы ждать очереди, может быть, несколько суток.
Монастырь был окутан густым мраком, когда я вошел в ограду. Громадные вереницы народа тянулись по всему монастырю в ожидании приложиться. Он стоял так сосредоточенно тихо, что трудно было поверить, что кто-нибудь есть: безмолвие было полнейшее. В соборе прикладывались к раке с двух сторон.
Теперь, когда исчезла вся торжественная обстановка, в этот глубокий ночной час, казалось, опять возвращена была душе эта простота и близость старца Серафима.
Постояв в соборе, я прошел в часовню, где была его могила. Она ярко светилась лампадами, и ярко выделялись там его прежние большие изображения. Я спустился по лестнице вниз. Там на месте, где он покоился 70 лет, в нише, обделанной мрамором, стоял опять его уже пустой гроб. Несколько дней назад я сам собирал в нем руками опилки. А теперь он был за бронзовою решеткой и стеклом.
Утро 19 июля поднялось радостное и светлое.
Пестрота одежды народа, спешившие к ограде экипажи, громкий колокольный звон и, куда ни падал взгляд, толпа, толпа, несметная толпа: все говорило о значительности того, что сейчас произойдет.
В собор сходились лица, имевшие билеты для входа. Все прикладывались к мощам, стоявшим по-прежнему в новом гробе, на катафалке, посреди церкви.
Началась обедня. Вошел Государь с Царской Семьей. Настало время «малого входа».
При архиерейском богослужении эта часть обедни чрезвычайно величественна. Так было и теперь. Длинный ряд священников от кафедры до алтаря (их было, кажется, двенадцать пар), предстоящий на кафедре, среди трех архиереев, митрополит Антоний с пылающими в поднятых руках дикирием и трикирием, великолепное Евангелие, высоко несомое архидиаконом, окруженное рипидами, разливающиеся из кадил клубы фимиама.
Вот раздалось громкое пение этими несколькими десятками служащих «Приидите, поклонимся».
Совершенно забыв то, что должно было произойти по церемониалу, я весь отдался созерцанию этой прекрасной картины. Вот митрополит медленно, на четыре стороны, осеняет народ, вот сходит с кафедры и шествие медленно двигается к алтарю. И вдруг задержка. При пении «Спаси нас, Сыне Божий, во святых дивен Сый, поющия Ти» ход останавливается у гроба. Священники берут его за скобы на руки и несут к алтарю.
Это была минута потрясающая. Вход знаменует собою вступление в алтарь Господа Сил, чему раз, во время совершения Литургии, преподобный Серафим был явным свидетелем. Он видел Спасителя, окруженного ангельскими ополчениями, входившего после «малого входа» в алтарь.
И тут, в этом сонме, как прообразе воинствующей на земле Церкви, вступавшей в небо, шел старец Серафим.
Громы сознательной, одушевленной хвалы, могучей, спокойной в силе своей, переполняли храм, подымались в купол, падали оттуда на народ, и в этих громах на руках иерейских медленно шел тот, чьим именем славили в те минуты Сущего, Творца миров и Отца людей, ниспославшего Своего раба Серафима в мир как отраду и утешение русскому народу.
Казалось, каждый камень соборный звучит этими словами: «Спаси нас, Сыне Божий, во святых дивен Сый, поющия Ти». А шествие тихо-тихо подвигается вперед. Вот сонм служащих, склонившихся над гробом, поднялся на ступени амвона, вот двигается к алтарю, обходя вокруг престола, а хвала Богу, вдохновлявшему старца Серафима, все гремит, потрясая своды, точно желая вырваться туда, наружу к несметному народу.
«...Сыне Божий, во святых дивен Сый...».
Обошли вокруг престола, показались опять в Царских дверях, сошли с амвона, а хвала все гремит, гремит.
Медленно понесли к раке, медленно приближается старец к приготовленному для него беломраморному ложу; когда-то искавший освящения в этом храме, теперь сам – освящающая святыня. Тихо-тихо подвигается. А хвала все гремит, гремит.
Вот поднесли к раке, вставили в нее гроб.
Конец земному человеку, начало «новому чудотворцу». Мы трепетно следили за ростом этого светила, за умножением его славы. Теперь оно остановилось. И невольно вспоминался евангельский рассказ.
Се, звезда, юже видеша на востоце, идяше пред ними, дóндеже пришедши ста... Видевше же звезду, возрадовашася радостию велиею зело... и падше поклонишася Ему: и отверзше сокровища своя, принесоша Ему дары, злато и ливан и смирну (Мф. 2,9,10, И).
Какие же тебе сокровища принесем мы, тихий, кроткий чудотворец? Пока – изумление нашей души, радость прославления твоего и веру, ту веру, какая переполняет весь этот обстоящий тебя, многотысячный народ, и рвется, и бушует вокруг тебя, и громко, страстно, неудержимо зовет тебя... Слава, слава тебе!
После обедни крестным ходом мощи были обнесены вокруг собора.
Это была незабвенная картина. На высоких подмостках среди сплошной толпы голов двигающийся на высоко поднятых носилках гроб, блеск солнца, радостное небо, радостные, умиленные лица, втихомолку перебрасывание вестями о только что происшедших исцелениях.
Потом гроб опять был поставлен в раку.
Мощи лежат непосредственно в узком и мелком кипарисном тонком гробе, имеющем форму обыкновенных гробов. Этот гроб вставлен в дубовую колоду, воспроизводящую ту колоду, в которой старец лежал в земле 70 лет, и эта-то колода, наконец, положена в раку.

Вынос мощей преподобного Серафима и крестный ход с ними после Литургии 19 июля 1903 г.
Когда я вернулся за крестным ходом в собор, я встретил одного знакомого, молодого еще человека, занимавшего видный служебный пост в соседней губернии. Он был очень умный и даровитый, прекрасно образованный, настоящий представитель европейской культуры, проведший за границей все свое детство.
Он стал спрашивать меня, какие портреты преподобного Серафима я считаю лучшими, и при этом обнаружил такие сведения, что я был удивлен и невольно подумал: «Вот, сумел же отец Серафим покорить себе и этого европейца». Он уехал из Сарова тотчас после молебна.
Чрез несколько месяцев, осенью, я видел в Петербурге его брата, и упомянул ему о нашей Саровской встрече.
– Представьте себе, – сказал он мне, – что мой брат считает себя исцеленным преподобным Серафимом. Как вы знаете, он страдал страшнейшим ревматизмом, от которого одно время потерял даже движение ногами. Он лечился в Южной Франции, а весною пред Саровскими празднествами ездил на грязи в Крым. По службе ему надо было находиться во время торжеств в окрестностях Сарова, и, когда он ехал в свою губернию, я, направляясь из Петербурга в деревню, встретился с ним на одной станции. Он имел очень плохой вид, жаловался как на главную свою болезнь, так и на общее недомогание. Когда начались торжества, они и все, что он узнал о старце Серафиме, произвело на него очень сильное впечатление. Он писал моей матери в деревню такие восторженные письма, которых трудно было ожидать от такого сдержанного человека, каким мы все его знаем. Крестный ход 19 июля, после которого вы с ним говорили, особенно его потряс. А чрез несколько дней он нам написал, что совершенно здоров и верит, что получил исцеление от старца Серафима.
Этот рассказ был мне особенно дорог, потому что исцеленный – такой рассудочный, неувлекающийся человек, что тут нельзя было и предполагать малейшего преувеличения или самовнушения.
Радость принимала в этот день во многих самое трогательное выражение.

Монастырская трапезная. Фото 1903 г.
Посылали родным приветственные депеши. Я видел одного заслуженного человека, шедшего с непокрытой головой по солнцу, неся в руках, у груди, большое изображение преподобного Серафима, которое ему только что освятили на мощах.
Под вечер была в Высочайшем присутствии торжественная трапеза от монастыря для приглашенных. Места были распределены заранее, по чинам, как на придворных торжествах, и обозначены записочками на приборах.
Мне пришлось сидеть около одного господина, который с дочерью и сыном-пажом приехал в Саров задолго до торжеств и которого брат тоже присутствовал на торжествах, в свите одного из Великих князей.
Фамилия их упоминается в описании посмертных чудес старца Серафима, и я спросил у него, не в их ли родне случилось это чудо.
– Да, я и есть тот самый, при рождении которого старец явил свою силу, – отвечал он. – Именно поэтому я сюда приехал и привез своих детей.
Жившая в Петербурге жена генерала Ст-ва чтила старца Серафима. Будучи беременна, она раз видит во сне, что отец Серафим молится у ее кровати, а другой раз, что у нее родится мертвый, посиневший младенец, но в эту минуту в комнату входит отец Серафим, благословляет младенца, и младенец оживает.
Познакомился с этою семьею в 1857 году игумен Иоасаф, составитель жизнеописания старца Серафима. Он же принес в эту семью изображение старца Серафима, в котором госпожа С. узнала старичка, виденного ею во сне. Роды были тяжелые, и младенец родился бездыханным. Но когда его стали растирать и брызнули на него водой, появились признаки жизни.
Этот самый человек и беседовал со мною во время обеда.
И много было таких, приехавших сюда по воспоминаниям об отношениях к старцу их родителей.
Государь отбыл на другой день после открытия мощей в Дивеево. Я видел днем позже почтенную старушку Елену Ивановну Мотовилову, современницу старца, которую Государь с Царскою Семьею осчастливил своим посещением и расспрашивал о старце.

Встреча Государя Императора в Серафимо-Дивеевском монастыре. Фото 20 июля 1903 г.
21 июля было торжественное освящение в Сарове храма над кельею преподобного Серафима. А утром этого дня совершилось на глазах многих у мощей исцеление Феодора Годункова, о котором мне рассказывал свидетель этого исцеления, князь М.С. Путятин, строитель раки старца.
Гофмаршальская часть, в которой он служил, собиралась служить напутственный молебен, а народ прикладывался к мощам. Между прочим, принесли расслабленного человека высокого роста, как оказалось потом, Феодора Годункова, служившего в гатчинских кирасирах. Ноги у него не действовали и производили впечатление бессильно висящих плетей. Возвращение здоровья для такого человека казалось невозможным. Его стали прикладывать к раке, что было трудно, так как он не мог согнуться. Наконец, товарищи взяли его плашмя, и таким образом он мог приложиться. Затем они обернули его от раки. Он, точно пробуя ноги, опустил костыли, потом ощутил в ногах крепость, бросил костыли – и сразу пошел.
Постоянно в собор приносили, для освящения у раки, иконы Преподобного. Иногда привозили их с собой из Дивеева монахини, так как множество этих икон пишется там. Были и громадных размеров иконы, увозимые старостами разных русских церквей, по желанию прихожан.
Одним из главных отрадных чувств Сарова было то единение, которое здесь, у раки святого, сплотило в одно целое людей разных сословий и разных мест России. Особенно было дорого видеть столь верующих людей из культурных классов.
Здесь встретились одинаково чувствующие люди из Казани и Варшавы, Петербурга, Москвы, Поволжья и Тулы, и мысль о крепости еще на Руси праотеческой веры доставляла величайшее счастье. Ясно было, что верующие тесно не сплочены, разъединены, но что много, много еще в русском образованном обществе лиц, для которых нет иных богов, кроме Бога Живого, в Троице славимого.
Надо было уезжать. Все присутствующие на торжествах поднялись разом.
И какие радости ни испытала в Сарове душа, хотелось домой, к обычной жизни. Чувствовалось великое душевное утомление, реакция после всего неизмеримого, что за эти дни переволновало душу.
За эти дни постоянно ломался строй обычных понятий. Я и видел, и постоянно слышал о нарушении законов природы, об этих прозрениях слепых, об этих расслабленных, поднявшихся и пошедших. Как я ни ждал этого, воплотившись в действительности, это поражало душу, а множество, одно за другим, подобных ощущений, страстно воспринимаемых, утомляло внутренний мир.
Все, что так сильно, как оно ни прекрасно, в слишком большой мере трудно переносится нами, вследствие ограниченности нашей восприимчивости, нашей чувствительности.
<...>
Я закончил передачу моих впечатлений.
Теперь, когда я вспоминаю о великих днях Сарова, рядом с образом чудного старца встает предо мною другой, собирательный, человек, другой великий герой этих дней.
Это русский народ.
Я вижу, я чувствую его, как он по палящему солнцу с тяжелой котомкой за плечами бредет в Саров. Там, часто голодный, стоит он по нескольку суток в длинной веренице богомольцев, ожидая своей очереди приложиться, и дойдя, наконец, до заветной святыни, шепчет старцу слова ласки и любви, какие внушает ему его бесхитростная душа. Боже, какие сокровища веры, терпения и смирения снес сюда этот народ.
Враждебный России иностранец дрогнул бы от ужаса, если бы увидал его выносливость. Нести великую многонедельную тяготу для этого мгновения прикладывания к мощам.
И я верю, что старец Серафим, который при жизни так согревал любовью простой народ, и теперь пригрел душу всякого пришедшего к нему.
Мог ли без особого утешения оставить своего гостя тот, кто до лесного медведя простирал свою заботу и кто, завидев при жизни идущих к нему, звал их к себе этим трогательным словом: «Грядите, грядите ко мне!»
О, продолжай же и теперь то же дело утешения народа русского! Но не забудь и тех, кто, с равною простому народу к тебе любовию идут к тебе, более этих неприхотливых детей природы сложные, избалованные, грешные; кто более ищут спасительных путей, чем, найдя их, идут по ним.
Всех нас – темных и просвещенных, чистых и грешных, взысканных и обойденных судьбою, – всех нас пожалей! Всякому из нас шепни в минуту горя, соблазна и уныния: «Грядите ко мне, грядите!»
* * *
Примечания
Печатается по изданию: Поселянин Е. На земном небе. Личность старца Серафима Саровского и впечатления поездки в Саров и Дивеев // «Душеполезное чтение», 1903. Ч. I, № 1–4. Ч. II, №5–8. Ч.II, №9.
Бывший артиллерийский полковник, автор известной книги «Дневник пребывания Царя-Освободителя в Дунайской армии», ныне архимандрит Серафим, написал интереснейший труд «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», где содержится множество сведений об отце Серафиме. – Примеч. изд. 1903 г. (Годы жизни: 1856–1937, принял постриг с именем Серафим; с 1928 г. – митрополит Ленинградский; участник и организатор прославления преподобного Серафима, а составленная им «Летопись...» сыграла одну из ключевых ролей в деле канонизации святого, так как именно после прочтения этой книги император Николай II написал свое знаменитое постановление «Немедленно прославить»; в ноябре 1937 г. митрополит Серафим был арестован, 7 декабря расстрелян большевиками в Бутово; в 1997 г. Архиерейским Собором Русской Православной Церкви причислен к лику святых как священномученик; память 28 ноября / 11 декабря. – Ред.)
На страницах 19–22 представлены гравюры, аналогичные купленным автором у торговца.
Место на берегу речки Саровки, в лесу, в двух верстах от Саровской обители. Здесь в последние годы жизни старец проводил весь день, трудясь телесным трудом и принимая посетителей; вечером возвращался в Саров. Около того места находится целебный источник отца Серафима. – Примеч. изд. 1903 г.
Старец Серафим имел обыкновение давать посетителям сухари, некоторым всыпая их целою грудою в фалды сюртука или на платье. В память этого в ближней пустыньке – в келье старца, стоявшей в ближней пустыньке и перенесенной в Саров, – поныне богомольцам раздаются сухарики. – Примеч. изд. 1903 г. (Сейчас сухарики для паломников освящаются в котелке преподобного Серафима во время Литургии в Троицком соборе Дивеевского монастыря. – Ред.)
В двенадцатом члене «Символа веры» говорится об ожидании «жизни будущего века».
Александра Феодоровна (1798–1860), супруга Российского императора Николая I, мать Александра II.
Описание этого происшествия содержится в рассказе Д.Ф. Тютчевой, напечатанном в 9–й книге «Русского Архива». Пишущий эти строки дополняет этот рассказ некоторыми подробностями, слышанными им от Д.Ф. Тютчевой в Крыму последней весной.
Написано в 1903 г. – Ред.
Назарий (Кондратьев; 1734–1809), игумен Валаамский, иеромонах; один из известных Саровских подвижников, родом из Тамбовской губернии; после пребывания в Саровской пустыни много лет посвятил возрождению Анзерского скита на Валааме, откуда в нач. 1800-х гг. вернулся в Саров и поселился в пустынной келье вне монастыря, недалеко от обители; причислен к лику местночтимых святых Тамбовской губернии.
Марк (Мальцов; 1737–1817), Саровский схимонах, отшельник и затворник, брал на себя подвиг молчальничества, посещал старца Серафима в его пустыньке; причислен к лику местночтимых тамбовских святых. Примечательно, что уже в 1839 году вышла книга «Краткое начертание жизни старца Саровской пустыни, схимонаха и подвижника Марка», в конце которой были впервые опубликованы наставления старца Серафима (еще до выхода в свет первого его жития).
Иоанн (Попов; 1670–1737), иеросхимонах, основатель Саровской пустыни; из-за любви к пустынножительству в 1691 г. поселился в Саровских лесах, оставив Арзамасский Введенский монастырь, где до той поры подвизался; его усилиями был построен и в 1706 г. освящен храм в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», а в 1711 г. – утвержден составленный им общежительный устав Саровской пустыни. В 1734 г., в тяжелые для Церкви времена разгула бироновщины и Тайной канцелярии, иеросхимонах Иоанн был несправедливо арестован и закончил свою жизнь в заключении в Санкт-Петербурге.
Согласно архивным исследованиям, Прохор Мошнин вступил в Саровскую обитель 20 ноября 1778 года (См.: Степашкин В. Преподобный Серафим Саровский: предания и факты. Саров, 2002. С.63)
Филарет (Дроздов; 1867), митрополит Московский, святитель; чтитель заветов преподобного Серафима, принимал живое участие в судьбе Дивеевского монастыря, в частности, в деле «дивеевской смуты» по поводу выбора настоятельницы в 60-е годы XIX в., и во многом благодаря его духовной мудрости и дальновидности это дело имело благоприятный для Дивеевской обители исход.
Антоний (Медведев; 1877), архимандрит, в 1998 г. прославлен в лике местночтимых Радонежских святых как преподобный; в 1817 г. впервые посетил, а в 1818 г. поступил в Саровскую обитель послушником, откуда перешел в Высокогорский монастырь близ г. Арзамаса, где принял постриг и был назначен строителем; неоднократно посещал отца Серафима для духовных бесед, в последнюю из которых, в январе 1831 г. получил от него предсказание об управлении обширной лаврой и завет не оставлять Саровских иноков и дивеевских сестер; вскоре после этого резолюцией митрополита Московского Филарета был назначен наместником Троице-Сергиевой Лавры и возведен в сан архимандрита Вифапского монастыря. Исполняя завещание старца Серафима, принял после его кончины нескольких Саровских иноков в Сергиеву Лавру, а также оказывал помощь и заступничество дивеевским сестрам во время смут и нестроений в Дивеевской обители.
Сейчас эта икона находится в домовом храме Святейшего Патриарха в Чистом переулке; выставляется верующим для поклонения ран в году па праздник Похвалы Пресвятой Богородицы в Богоявленском Елоховском соборе г. Москвы.
Пол-аршина – мера длины, равная приблизительно 36 см.
Святая Мария Египетская в пустыне, по сказанию о ней, при молитве подымалась в воздухе от земли: так истомлена была ее плоть и царил ее дух. – Примеч. изд. 1903 г.
Вероятно, имеется в виду образ «Всех скорбящих Радость».
У отца Серафима, когда он подвизался в дальней пустыньке, холмы ближайшие носили названия священных мест истории. Саровка называлась Иордан, холм с его кельей – Афон-гора. – Примеч. 1903 г.
Печатается по изданию: Поселянин Е. 70-я годовщина со дня блаженной кончины преподобного старца Серафима Саровского в Сарове // «Прибавления к Церковным ведомостям», 1903. №29.
Святой Василий Рязанский был изгнан из Мурома неблагодарною паствою. И тогда, расстелив на Оке свою мантию, стал на нее, как на плот, и чудесно поплыл вверх по Оке, держа в руках свою келейную икону. Так изображается он и на иконах. – Примеч. 1903 г.
Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Серафимы – самый близкий к Богу, высший из девяти чинов ангельских.
Имеется в виду Иоанн Тихонович Толстошеев (иеромонах Иоасаф, в схиме Серафим; 1802–1884), в Саровскую пустынь поступил 15 апреля 1820 г., часто посещал отца Серафима для бесед и наставлений, просил его благословения на окормление дивеевской общины после его кончины, в чем получал от него решительный отказ. В 1843 г. (после кончины отца Серафима) в Тамбовской и Нижегородской консисториях началось следствие по делу послушника Иоанна Тихонова, добивавшегося рукоположения в иеромонахи и назначения в Дивеевскую общину духовником. В своем доношении Святейшему Синоду епископ Тамбовский Николай (Доброхотов) в 1845 г. писал, что «в настоящее время он, Тихонов, поведения самовольного», «уклонился вовсе от монастырских послушаний», не имеет необходимых понятий о священнической должности, особенно о Таинстве Покаяния, и что он как архиерей не находит его достойным пострижения в монашество и посвящения в иеромонахи с назначением духовником в Дивеевскую обитель (См.: Степашкин В. Преподобный Серафим Саровский: предания и факты. Саров, 2002. С. 45). В 1847 г. Иоанн Тихонов переведен в Нижегородский Печерский монастырь, где был пострижен в монашество с именем Иоасафа и рукоположен в иеромонаха, после чего побывал в разных обителях, в последней из которых, в Павло-Обнорском монастыре Вологодской епархии, в 1861 г. возведен в сан игумена. В 1861 г. иеромонаха Иоасафа изгнали из Дивеева. Его вмешательство, после кончины старца Серафима, в дела по обустройству Дивеевской общины привело к полному ее разорению и явилось причиной «дивеевской смуты», потребовавшей расследования со стороны Святейшего Синода и митрополита Филарета (Дроздова), запретившими впредь Иоасафу какое-либо участие в делах обители. Выдавая себя за ученика и продолжателя дела великого старца, приобретая себе таким образом высоких покровителей, он издал «Сказание о подвигах и событиях жизни старца Серафима» (самое первое – в 1849 г., СПб.). По словам известного исследователя истории Саровской пустыни В. Степашкина, «Иоасаф под именем схиигумена Серафима выпустил три издания “Сказаний”, каждый раз пополняя их новыми подробностями, оставляя для себя место “возлюбленнейшего ученика» отца Серафима. Нет сомнений, что старец Серафим не мог не видеть двуличности этого человека, получившего от монашествующих Саровской пустыни прозвание “чуждопосетитель”. Некоторые источники вкладывают это определение и в уста старца Серафима». (См.: Степашкин В. Указ. соч. С. 46.)
Память ныне прославленных преподобных Александры, Марфы и Елены (канонизированы 22 декабря 2000 года) празднуется 21 июля нового стиля в день Собора преподобных жен Дивеевских.
См.: Фома Кемпийский. О подражании Христу. Книга третья: О внутреннем утешении. Гл. 49.
Тропарь мученице, глас 4-й.
Ср.: Тропарь преподобному Макарию Великому.
См.: Символ веры , двенадцатый член.
Сермяга – верхняя крестьянская одежда из грубого некрашеного сукна.
Тропарь 2, песнь 9 канона молебного к Богородице.
Савонарола, Джироламо (1452–1498) – итальянский доминиканский священник, бывший монах, правитель Флоренции с 1494 по 1498 годы; во время своего правления жестко боролся с нарушителями христианского закона (святотатцами, азартными игроками, развратниками), в проповедях гневно обличал испорченность нравов современной ему Флоренции и Церкви, призывал к аскезе.
Икос 7.
Приводимые здесь слова из акафиста преподобному Серафиму отсутствуют в его современном варианте. Самый первый акафист угоднику Божию Серафиму был написан задолго до его прославления, предположительно монахиней Серафимо-Дивеевского монастыря Еленой Анненковой (из дворянского рода известных в русской литературе Анненковых), которая еще в 1887 году, по случаю празднования 25-летия игуменства первой игумении Дивеевского монастыря Марии (Ушаковой), преподнесла ей в качестве подарка «лично от себя» акафист преподобному Серафиму. Затем ее труд лег в основу акафиста, составленного епископом Тамбовским и Шацким Иннокентием (Беляевым), о чем говорят многочисленные буквальные совпадения смысла, выражений и слов рукописного дивеевского и рукописного инно-кептиевского акафистов. В свою очередь, рукопись владыки, будучи представлена после прославления преподобного Серафима в Святейший Синод, также претерпела небольшую редакторскую правку, в результате которой и был издан в Петербурге в 1904 году хорошо известный и используемый нами ныне текст акафиста. По словам исследователей, близость дивссвской и инпокентиевской редакции акафиста позволяет именовать его Дивеевско-Иннокентиевским.
Из книги «О страдании» монсеньора Буго, епископа Лавальского.
Так говорил старец: живущие в пустыне борятся с духами, как со львами и леопардами. – Примеч. Изд. 1903 г.
Так говорил старец: живущие в пустыне борятся с духами, как со львами и леопардами. – Примеч. изд. 1903 г.
Саровские старцы, при которых Прохор Мошнин (в будущем преподобный Серафим) вступил в обитель, его духовные наставники. Иеромонахи Пахомий (родом, как и отец Серафим, из г. Курска) и Исаия – строители Саровской пустыни в 1777–1794 гг. и в 1794–1807 гг. соответственно, старец Иосиф – казначей пустыни, на которого было возложено «особое смотрение» за послушником Прохором (См.: Степашкин В. Преподобный Серафим Саровский: предания и факты. Саров, 2002. С. 19,113).
См.: Диаконский возглас на сугубой ектенье.
См.: Ирмос песни 1-й, канон Рождества Христова, из последования утрени.
См.: Тропарь общий преподобному. Тропарь конкретно преподобному Серафиму начинается словами «От юности Христа возлюбил еси, блаженне...», глас 4-й.
