11. Аргумент от чудес: кумулятивное доказательство воскресения Иисуса из Назарета
Тимоти Макгрю и Лидия Макгрю
Введение
Любопытным моментом в истории идей является тот факт, что аргумент от чудес больше известен в наши дни как объект знаменитой критики, нежели как рассуждение, заслуживающее интереса само по себе. Но так было не всегда. Со времени защиты св. Павла перед Агриппой и вплоть до полемики ортодоксальных христиан с деистами в разгар эпохи Просвещения аргумент от чудес играл важнейшую роль в дискуссиях вокруг разумности христианской веры; часто его дополняли другими доводами, и все же редкий серьезный автор оставлял его без внимания. Но в современной литературе по философии религии в порядке вещей встретить целые труды, где положительный аргумент от чудес упоминается лишь мимоходом или даже совершенно игнорируется.
Столь резкая смена акцента отчасти объясняется изменениями в самом понятии философии, а, следовательно, и в представлении о задачах естественного богословия. Согласно новой трактовке, звания собственно философских заслуживают аргументы по сути своей априорные, которые если и могут иметь эмпирическое основание, то лишь в виде каких-то общеизвестных фактов. Это вовсе не говорит о примитивности подобных аргументов – напротив, уровень специальных знаний, необходимых для того, чтобы разобраться в хитросплетениях иных новейших версий космологического и телеологического доказательств, просто поражает. Но их фактуальные посылки немногочисленны и часто, будучи общим местом, доступны пониманию всякого образованного неспециалиста: нечто существует; вселенная имела начало во времени; жизнь, какой мы ее знаем, могла развиться лишь в среде, очень похожей на нашу; некоторые вещи, не являющиеся делом рук человека, кажутся результатом разумного замысла.
Аргумент от чудес, если подходить к нему с подобным мерилом, нельзя назвать чисто философским. Его правильная оценка требует тщательного «просеивания» множества беспорядочно перемешанных деталей, рассмотрения предположительно аналогичных событий, определения вероятности или невероятности прямого обмана, непроизвольной путаницы или постепенного развития легенды в том или ином случае. И этот специфический характер присущ данному аргументу от начала до конца. В гораздо большей степени, чем всякая иная аргументация из арсенала естественного богословия, аргумент от чудес ставит нас перед трудностью, связанной со всеобщим значением отдельного человека Иисуса. Ибо, в отличие от любой другой традиционной цепи доводов, аргумент от чудес претендует на обоснование не просто теизма вообще, но именно христианства.
Еще одна и, вероятно, более существенная причина относительного пренебрежения аргументом от чудес связана со знаменитым эссе Юма, впервые опубликованным в 1748 году и открывавшимся провозглашением весьма амбициозной цели – дать «людям разумным и образованным... вечное средство проверки для любых суеверных заблуждений». Вследствие исторической случайности, равно курьезной и досадной, краткий и решительный полемический выпад Юма теперь принято включать в антологии как законченное, самостоятельное произведение, в отрыве от контекста того обсуждения, частью которого он первоначально был, и вдобавок подавать его так, как если бы Юмова полемика открыла – и тут же исчерпала собой – дискуссию о чудесах как о серьезном основании для религиозной веры. Объяснить это можно, с одной стороны, высоким авторитетом самого Юма, а с другой – изяществом слога его эссе. Но неувядаемая популярность Юмова очерка обусловлена, вне всякого сомнения, тем обстоятельством, что Юм говорит именно то, что очень многим философам хотелось бы услышать.
Опровержение доводов Юма не является главной целью настоящей работы; мы ставим перед собой иную задачу, а именно – представить в надлежащем свете основное доказательство истинности христианства. Но в конце статьи мы вновь обратимся к Юму, чтобы ввести Юмову аргументацию в ее реальный исторический контекст и оценить силу тех доводов, которые Юм и его современные последователи выдвинули против аргумента от чудес.
Цель и границы аргумента
Прежде всего нам следует объяснить читателю, какого рода аргумент намерены мы сформулировать и каким образом собираемся мы это сделать. Выражение «аргумент от чудес» подразумевает, что этот аргумент должен привести нас к какому-то другому заключению; заключение же это всего естественнее понимать как теизм (Т), то есть положение о существовании Бога, по крайней мере, в общих чертах подобного тому Богу, в которого веруют иудеи и христиане.
Мы, однако, не собираемся доказывать, что вероятность Т высока, как не намерены демонстрировать и высокую вероятность христианства (С). Точно так же, несмотря на множественное число слова «чудес», мы не будем входить в обсуждение более чем одного предполагаемого чуда. В фокус нашего внимания попадет одно-единственное событие из тех, которым приписывают чудесный характер, – телесное воскресение Иисуса из Назарета, имевшее место около 33 года н. э. (R). Мы попытаемся показать, что существуют веские положительные свидетельства в пользу R – свидетельства, которые нельзя игнорировать, но следует каждый раз принимать в расчет при оценке всей суммы разнообразных доводов в пользу христианства и теизма.
Если исходить из обычного здравого смысла, то прямая и несомненная связь воскресения с теизмом должна быть очевидной. Вероятность существования Бога – выразимся скромно и несколько нестрого – при наличии веских независимых свидетельств того, что Иисус восстал из мертвых, оказывается выше, чем при отсутствии подобных свидетельств, и это потому, что вероятность того, что воскресение действительно имело место, сводится практически к нулю, если Бога нет, и возрастает, если Бог есть. Если Иисус из Назарета умер, а в третий день телесно воскрес, то – при любых исходных допущениях – вероятность Т приблизительно равна 1.
Воскресение имеет также прямое и бесспорное отношение к христианству. При любом хоть сколько-нибудь серьезном понимании христианства утверждение о том, что Иисус чудесным образом телесно воскрес из мертвых, принадлежит к числу основных его положений. Нетрудно заметить, что, с учетом имеющихся у нас исходных данных, вероятность истинности христианства оказывается выше, если исходить из того, что воскресение Иисуса действительно произошло, нежели в противном случае.
Конечно, мы не можем просто «исходить» из факта воскресения как из чего-то «данного». «Воскресение произошло» – пропозиция контингентная (то есть его истинность не является логически необходимой), и какие бы свидетельства ни приводили мы в его пользу, они никогда не будут бесспорными. Отстаиваемая нами точка зрения состоит в том, что свидетельства, увеличивающие вероятность R, увеличивают также вероятность христианства и теизма. В случае с большинством фактов, на которые мы будем ссылаться, утверждением учеников о том, что они видели живого Христа, и их готовностью умереть за это свидетельство; словами жен-мироносиц о том, что они видели пустой гроб и встретили воскресшего Христа, – воскресение находится в таком отношении как к соответствующему свидетельству, так и к христианству, каковое отношение мы будем далее интерпретировать как «роль проводника», или «канала», по которому сила данного свидетельства распространяется как на теизм, так и на христианство. Воскресение можно мыслить как эпистемологического посредника, соединительное звено между определенным свидетельством, с одной стороны, и христианством и теизмом – с другой: доказательная сила упомянутых устных свидетельств переходит через R к Т и С. Этому понятию «канала» уверенности можно дать довольно любопытное и в вероятностном смысле строгое объяснение (McGrew & Me Grew, 2008). С другой стороны, в случае с обращением Павла сила свидетельства оказывается значимой для вопроса об истинности христианства, по-видимому, даже независимо от воскресения; даже если исходить из реальности воскресения, обращение Павла дает дополнительные доводы в пользу христианства (например, в пользу истинности таких его положений, как «Иисус находится на небесах» и «Иисус есть Бог»), поскольку обращение Павла и небесное видение, вызвавшее это обращение, не были простым подтверждением факта телесного воскресения Христа. Это значит, что R не выступает здесь в роли «проводника», направляющего доказательную силу Павлова обращения в сторону теизма. Однако на основе своего обычного опыта мы вправе утверждать, что христианство является подобным проводником, направляющим силу обращения Павла в пользу теизма, или, грубо говоря, что убедительность Павлова обращения как довода в пользу теизма всецело зависит от его значимости для решения вопроса об истинности христианства. В любом случае все свидетельства, которые мы намерены представить, оказываются значимыми для теизма через свою связь с более специфическими и сильными утверждениями – о реальности воскресения и об истинности христианства. Следовательно, и это свидетельство действительно подтверждает теизм, а доводы в пользу воскресения служат – косвенным образом – доводами в пользу теизма. И все же аргументом в пользу теизма Павлово обращение становится лишь благодаря своему прямому влиянию на решение вопроса об истинности других утверждений – утверждений более специфических и содержательных, чем простой тезис о существовании Бога.
Сосредоточив все свое внимание на воскресении Иисуса, мы, однако, и здесь ограничим свою задачу. Демонстрация высокой вероятности R, принимающая в расчет все относящиеся сюда свидетельства, потребовала бы анализа других свидетельств, имеющих отношение к существованию Бога, поскольку такого рода другие свидетельства – как положительные, так и отрицательные – косвенным образом связаны с событием воскресения. Тщательный разбор всех без исключения данных, имеющих более непосредственное отношение к R, – включая, к примеру, бесчисленные спорные вопросы археологии или филологической критики текстов, которых мы коснемся лишь мимоходом, – потребовал бы многих томов. Мы же намерены исследовать несколько важнейших общеизвестных фактов, убедительно подтверждающих R. Мы хотим продемонстрировать, что эти свидетельства, взятые в их совокупности, превращаются в сильный довод такого типа, который Ричард Суинберн называет «П-индуктивным» («подтверждающе-индуктивным») – иначе говоря, независимо от того, превышает ли при условии всех свидетельств P(R) (вероятность воскресения) некоторую определенную величину, например, 0,5 или 0,9, данное свидетельство само по себе служит убедительным подтверждением R против ~R (отрицания R).
В первом приближении наш аргумент можно охарактеризовать как объяснительный: совокупность и связь важнейших фактов, которые мы намерены привести, получают убедительное объяснение посредством R. Но это неполное описание, ибо в нем не выявлен контрастно-сопоставительный смысл предлагаемого нами объяснения. Во втором приближении наше доказательство оказывается сравнительным: мы утверждаем, что ни одна альтернативная гипотеза, которая сама не была бы совершенно неправдоподобной – даже если допустить, что никакого воскресения не было, – не способна объяснить совокупность рассматриваемых фактов с убедительностью, хоть сколько-нибудь сравнимой с их объяснением через R. Наконец, наш аргумент предлагает вероятностный анализ понятия объяснения. Мы показываем, что при наших базовых знаниях вероятность всех фактов, о которых идет у нас речь, при условии R неизмеримо превосходит их вероятность при условии ~R. Иными словами, дизъюнкция альтернатив для R (все возможные гипотезы, подпадающие под ~R) не способна объяснить соответствующие факты с убедительностью, хоть сколько-нибудь сопоставимой с их объяснением через R. Или, формально:
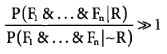
Отсюда следует, что соответствующая совокупность фактов служит чрезвычайно убедительным подтверждением R.
Понятие чуда
Философские дискуссии об отдельных чудесах часто сопровождаются тщательным анализом различных представлений о «чуде». В трактовке чуда у самого Юма мы находим два не совпадающих по смыслу определения: «нарушение законов природы» и «нарушение законов природы особым велением Божества или вмешательством какого-нибудь невидимого деятеля». Определения эти, как указывали многие позднейшие комментаторы, страдают рядом недостатков. Некоторые концепции закона природы исключают саму возможность чудес (McKinnon 1967, рр. 308–314; Earman 2000, р. 8). Согласно же другим теориям, чудеса противоречат не истинным законам вселенной, но лишь тем ограниченным по объему обобщениям, которые мы в своем неведении спешим объявить законами природы350. Есть и такие трактовки чуда, согласно которым событие может быть действительно чудесным, но при этом находиться в полном соответствии с законами природы351. Как бы то ни было, понятие чуда имеет смысл даже в рамках такого понимания природы, которое еще не включает в себя представления о законах природы – лишь бы только существовал некий обычный, нормальный порядок природы как необходимый контрастный фон для чудесного (Swinburne 1989, рр. 2–10; Houston 1994, chaps. 1 and 2). Вопрос о том, следует ли считать совершение чудес исключительной привилегией Бога, сам по себе, как показывает история богословия, остается спорным352.
К счастью, для целей данной аргументации нам нет нужды указывать необходимые и достаточные условия для отнесения чего-либо к разряду чудес, ибо главным предметом нашего анализа является воскресение Иисуса, а все участники дискуссии согласны, что воскресение Иисуса, если оно действительно произошло, должно служить образцовым примером чуда. Для наших нынешних целей достаточно допустить, что чудо есть особого рода событие, которое было бы невозможным в рамках одного лишь естественного порядка вещей, где понятие естественного порядка вещей включает в себя физические объекты и их взаимодействия, а также действия и взаимодействия животных, людей и существ, обладающих способностями, весьма сходными с нашими. В данной дефиниции присутствует некоторая неясность, особенно в отношении точного смысла «способностей, весьма сходных с нашими», но есть у нее и свое преимущество, поскольку она позволяет нам избежать семантических споров о конкретном содержании понятия «физический закон», а также о том, не следует ли считать нарушение физического закона по определению невозможным353.
Текстуальные допущения
В начале первого тома своего «Иудея-маргинала» Джон Майер остроумно предполагает, что проблему исторического Иисуса можно было бы решить, прибегнув к процедуре «непапского конклава» – то есть запереть одного протестанта, одного католика, одного иудея и одного агностика в библиотеке Гарвардской богословской школы и держать их там на хлебе и воде до тех пор, пока они наконец сообща не измыслят и единогласно не примут «документ, из коего бы явствовало, кто такой был Иисус из Назарета и чего он, собственно, хотел – в свое время и в своем месте». (Meier 1991, р. 1) Шутка Майера ясно указывает на то неизбежное затруднение, с которым мы теперь сталкиваемся. Историческое доказательство задуманного нами типа должно опираться на определенные допущения относительно соответствующих текстов, и там, где философам всего естественнее вступать в дискуссию, мы, казалось бы, вправе были ожидать, что историки и филологи, тщательно изучавшие эти вполне конкретные тексты, уже должны были бы прийти к общему мнению по поводу их содержания. К несчастью, дело обстоит иначе: область новозаветных штудий прямо-таки изобилует спорами и несогласиями признанных авторитетов. А значит, мы должны указать, хотя бы в общих чертах, что именно мы принимаем (или не принимаем) здесь как само собой разумеющееся, и представить краткое обоснование наших допущений.
Наше доказательство будет исходить из следующих предпосылок: мы располагаем в основном подлинными и надежными текстами четырех Евангелий, Деяний Апостолов и нескольких посланий из числа тех, чья принадлежность Павлу не вызывает сомнений (прежде всего – Послания к Галатам и Первого послания к Коринфянам). Евангелия были написаны если и не теми самыми авторами, чьими именами они теперь озаглавлены, то во всяком случае учениками Иисуса или же лицами, знавшими этих учеников, – то есть людьми, которые получили из первых рук сведения о подробностях Его жизни и учения, или же людьми, которые непосредственно общались с прямыми очевидцами. Наконец, эти повествования, по крайней мере в тех местах, где отсутствуют ясные и недвусмысленные утверждения о совершившемся чуде, заслуживают точно такого же доверия, с каким мы бы отнеслись к засвидетельствованным с равной степенью убедительности историческим документам, если бы в них сообщалось о сугубо мирских делах354. Там же, где в текстах действительно идет речь о чем-то чудесном – например, о явлениях воскресшего Иисуса людям, – мы, опираясь на фундаментальное допущение об их подлинности, исходим из того, что соответствующий рассказ отражает утверждения лица, относительно близкого к ситуации чуда. Имея в виду конкретные цели нашего доказательства, мы не делаем каких-либо допущений о богодухновенности, а тем более безошибочности этих текстов и признаем наличие в них мелких разночтений, а также определенных следов позднейшего редактирования – хотя мы нигде не опираемся на такие фрагменты, в которых текстуальные данные внушали бы сколько-нибудь серьезные сомнения на предмет первоначального смысла написанного. Более того, наше доказательство, в значительной его части, можно было бы осуществить и не претендуя на полную достоверность всех текстов, ибо, как мы специально укажем далее, многие из важнейших фактов принимаются как бесспорные специалистами всех без исключения направлений. Но мы решили построить настоящее доказательство именно таким образом, поскольку считаем, что тезис о полной достоверности можно обосновать, а данное обстоятельство позволяет нам рассматривать любопытную в философском отношении проблему свидетельств в пользу чудесного на том самом уровне знаний, на котором вел свою знаменитую атаку Юм, то есть на уровне, предшествовавшем возникновению более строгих научных форм критического анализа новозаветных текстов.
В XVIII веке излюбленный прием противников христианства, столь энергично использованный Германом Самуилом Реймарусом в его «Вольфенбюттельских фрагментах», состоял в выпячивании всевозможных расхождений, подлинных или воображаемых, в передаче одних и тех же сюжетов – из чего заключали, что соответствующие тексты противоречат друг другу, а, следовательно, в лучшем случае, не являются вполне надежными, а в худшем – не заслуживают ни малейшего доверия. Рассказы об отречении Петра, представленные в четырех Евангелиях, не совпадают в некоторых мелких деталях; повествования о воскресении расходятся в именах женщин, пришедших ко гробу, а также в ряде отмеченных в тексте подробностей; Иоанн сообщает, что Мария Магдалина бросилась искать учеников, тогда как Матфей ничего об этом не говорит. Подобного рода несущественные различия служили скептикам предлогом для того, чтобы полностью отвергать эти рассказы, а иные не в меру ревностные защитники Евангелий лишь играли им на руку, упрямо отстаивая положение о предельной точности в описании евангелистами всех без исключения деталей, вплоть до самых мелких – пусть даже это и приводило к неизбежному заключению, что Петр отрекся от Христа не трижды, а целых шесть, а то и двенадцать раз.
Число предполагаемых противоречий в текстах Евангелий сильно преувеличивается вследствие произвольного использования argumentum ex silentio: из неупо- минания автором о каком-то факте слишком часто спешат сделать вывод, что он ничего о нем не знал или даже твердо держался по соответствующему вопросу противоположного мнения. Подобные аргументы от молчания очень распространены в исследованиях Нового Завета, и все же их следует признать, как минимум, не вполне убедительными. Опираясь на такую логику, можно с легкостью обнаружить «противоречия» даже в трудах одного и того же историка – когда, например, Иосиф Флавий в своих «Иудейских древностях» говорит о событиях, повторного упоминания которых мы, вопреки ожиданиям, почему-то не находим в его же «Иудейской войне» (Paley 1859, р. 337). А если распространить этот метод на сопоставление нескольких авторов, трактующих об одном и том же предмете, мы придем к откровенно нелепым выводам355. Урок, который следует из всего этого извлечь, таков: строить произвольные догадки относительно мотивов, побудивших того или иного автора включить в свой текст или, напротив, оставить без упоминания тот или иной факт, – занятие весьма рискованное. Пытаться же с помощью данного приема внушить представление о неких текстуальных противоречиях или же конструировать, прибегая к подобным средствам, мудреные гипотезы относительно позднейших редакций и различных версий Евангелий значит вступать на методологически порочный путь356.
Некоторые из «противоречий», приписываемых евангельским рассказам, объясняются явно пристрастной или безграмотной интерпретацией соответствующих текстов. Но к историческому доказательству дискуссии о правильном решении этих спорных вопросов никакого отношения не имеют. Даже беглое знакомство с документами, составляющими основу светской истории, демонстрирует, что в сообщениях авторитетных историков и даже очевидцев всегда обнаруживаются избирательность в отборе материала и субъективные различия в акцентах, а довольно часто они прямо противоречат друг другу. Данное обстоятельство, однако, не разрушает и даже не подрывает сколько-нибудь серьезно нашу веру в надежность этих источников применительно к важнейшим событиям, о которых идет в них речь. Едва ли найдутся хотя бы два автора, согласные между собой в том, сколько же войска собрал Ксеркс для вторжения в Грецию – но ведь само вторжение и его катастрофический финал сомнений не вызывают. Оценка Флором численности армий, сражавшихся при Фарсалах, отличается от оценки, данной самим Цезарем, на 150 тысяч человек, однако никто не сомневается, что битва эта действительно состоялась и что выиграл ее Цезарь. Согласно Иосифу Флавию, посольство к императору Клавдию евреи отправили во время посевных работ, тогда как Филон относит его к периоду жатвы, но сам факт посольства является бесспорным. Подобные примеры можно умножать почти до бесконечности.
В судопроизводстве давно считается общепризнанным, что мелкие расхождения в показаниях свидетелей не лишают законной силы их показания, более того – служат доводом против возможности предварительного сговора. Выдающийся правовед Томас Старки, анализируя проблему свидетельских показаний, специально подчеркивает это обстоятельство:
Здесь следует заметить, что отдельные противоречия в показаниях свидетелей, относящиеся к деталям мелким и побочным, хотя и служат нередко адвокатам противной стороны удобным предлогом для пространных рассуждений, однако сами по себе большого значения не имеют – если только они не являются слишком разительными и очевидными, чтобы их можно было объяснить простой небрежностью, невнимательностью или забывчивостью.
Один тонкий наблюдатель хорошо заметил, что «для человеческих свидетельств обычно характерна правдивость в главном при расхождениях в несущественном». Полное и совершенное согласие всех свидетелей одного и того же события во всех связанных с ним пунктах – вещь настолько редкая, что абсолютное и полное, вплоть до мельчайших подробностей, совпадение в показаниях свидетелей отнюдь не укрепляет доверие к их словам, а напротив того, довольно часто внушает подозрения на предмет сговора и каких-то темных махинаций.
Правильный же вопрос, который всегда следует здесь ставить, таков: являются ли расхождения и противоречия настолько серьезными и существенными, чтобы сделать совершенно невозможным или, во всяком случае, чрезвычайно затруднительным их объяснение ссылкой на обыкновенные источники подобных противоречий – невнимательность или плохую память? (Starkie 1833, рр. 488–489)357.
Но ведь точно так же дело обстоит и с Евангелиями. Даже если мы пойдем на максимальные уступки критикам и признаем, что при сопоставлении евангельских рассказов обнаруживаются вполне реальные неразрешимые противоречия в некоторых второстепенных деталях, касающихся окружающей обстановки или внешних условий, то отсюда еще нельзя будет сделать вывод, что в отношении важнейших событий, о которых в них сообщается, эти повествования менее достоверны, чем любой другой исторический документ.
В наше время положение о том, что Евангелия и Деяния представляют собой в целом надежные исторические памятники, поддерживают весьма компетентные специалисты358. Оно, однако, вопиющим образом противоречит почти вековой традиции новозаветных штудий, базирующихся на принципах «критики форм» и ее методологической ветви – «критики редакций». Названные методы, если описать их кратко, сводятся к тем или иным приемам литературного анализа, а их сторонники, объявив известные нам Евангелия продуктом позднейшего «творчества» христианской общины, ведут «раскопки» дошедших до нас текстов, пытаясь либо добраться до гипотетических первоначальных слоев, якобы закрытых от нас последующими наслоениями устных преданий и легенд, либо точно установить намерения автора или составителя окончательной редакции. Главное, в чем нуждается теория литературных слоев, – это время; время, необходимое для того, чтобы оригинал в процессе редактирования постепенно приобрел совершенно иную форму; для того, чтобы успели возникнуть легенды о чудесах; для того, чтобы сложилась возвышенная христология Евангелия от Иоанна, которую можно было бы затем органически соединить с исходным материалом – простыми притчами и речениями Иисуса; или же для того, чтобы эти речения, незаметно и не вызывая возражений, могли бы расшириться до жанра мидрашей. А потому не случайно господствующим воззрением в исследованиях Нового Завета со времен работы Мартина Дибелиуса и Рудольфа Бультмана, открывшей направление Formgeschichte, был тезис о чрезвычайно позднем происхождении Евангелий, окончательно будто бы сложившихся, по-видимому, в середине или даже ближе к концу II века н. э., но во всяком случае после 70 года н. э., поскольку любая более ранняя их датировка потребовала бы от нас признания пророческих способностей Иисуса – ведь он предсказал разрушение Иерусалима, – а это решительно противоречило бы философскому натурализму, который и вдохновлял приверженцев данной школы.
Роль подобного натурализма как стимула, побуждавшего сторонников критики форм к собственно научной деятельности, часто слишком даже заметна, но в качестве аргумента против традиционных взглядов философский натурализм обнаруживает явную слабость, ибо сам нуждается в доказательстве. А потому сторонники данного метода пытались, как правило, обосновать свой вывод о позднем происхождении Евангелий и Деяний ссылками на мнимые анахронизмы и ошибки в деталях, демонстрирующими, что авторы соответствующих текстов были не очевидцами, но творческими и тенденциозными редакторами, а от событий, ими якобы точно описанных, этих людей отделял значительный промежуток времени.
Конечно, если мы рассмотрим Евангелия под литературным микроскопом достаточной силы, то обнаружим в них материал, принадлежащий к самым разным литературным жанрам – логиям, притчам, пророчествам, речам и т. д. Но признание данного факта еще не означает какой-либо уступки в том вопросе, которым мы здесь занимаемся. А всякому, кто хорошо знаком с трудами по библейской критике, известно, что сторонники методов критики форм и критики редакций часто заменяют реальное исследование командованием, а порой обнаруживают потрясающую силу воображения. У нас, однако, имеются веские основания для того, чтобы отвергнуть радикальные выводы отрицательного характера относительно подлинности и достоверности евангельских повествований. Не существует независимых письменных традиций, в которых сохранились бы эти «первоначальные, самые ранние версии», их приходится искать в дошедших до нас текстах, и во многих случаях пресловутые глубинные слои можно разглядеть лишь при условии, что на текст смотрят очами веры – веры в истинность метода критики форм. Есть тем не менее весьма внушительный (и постоянно пополняющийся) массив доказательств, позволяющих утверждать, что Евангелия действительно были написаны очевидцами событий или теми, кто имел с ними прямое общение. Остроумные же догадки адептов критики форм по поводу датировки и достоверности новозаветных книг, как это раз за разом демонстрируют специалисты в других областях, нередко оказываются на поверку глубочайшими заблуждениями.
Проиллюстрировать последний тезис нам помогут несколько примеров. В начале XX века французский исследователь Альфред Луази объявил неточным данное в четвертом Евангелии описание «купальни Вифезда, при которой было пять крытых ходов» (Ин.5:2). Это, утверждал Луази, искажение литературного характера или вставка, призванная служить символом пяти книг Завета, исполнить который пришел Иисус. Опираясь на подобную интерпретацию и рассуждая в полном соответствии с поздней датировкой Нового Завета, которую в XIX веке защищал тюбингенский ученый Фердинанд Кристиан Баур, Луази отнес создание четвертого Евангелия к периоду после 150 года н. э. Но раскопки 1956 года показали, что купальня Вифезда, с четырьмя боковыми колоннадами и пятой поперечной, располагалась именно там, где говорил Иоанн (Jeremias 1966, рр. 36–38; Leon-Dufour 1967, р. 67). Как выразился Э.М. Блейклок, «здесь больше не о чем спорить» (Blaiklock 1983, р. 65).
Археология не слишком любезно обошлась с литературной критикой Евангелий и Деяний. Находка в Кесарии Приморской в 1961 году надписи с именем и титулом Пилата, обнаружение пограничного камня императора Клавдия с именем Сергия Павла (ср. Деян.13:7), недавнее открытие купальни Силоам (Ин 9) времен Иисуса и целый ряд других открытий свидетельствуют о степени точности, несовместимой с представлением о развитии Евангелий как о постепенном, в продолжение двух или более поколений, обрастании исходной легенды новыми произвольными деталями. Мы не хотим сказать, будто упомянутые открытия неопровержимо демонстрируют абсолютную точность всех прочих частей евангельских текстов; скорее, мы апеллируем здесь к известному принципу здравого смысла, а именно: авторы, чья точность в описании таких вещей, которые допускают проверку имеющимися в нашем распоряжении независимыми объективными данными, уже доказана, заслуживают (в разумных пределах) того, чтобы отнестись к ним с доверием и там, где речь у них идет о событиях, реальность которых мы пока не в силах подтвердить или опровергнуть независимыми свидетельствами. Ряд подобных открытий ясно указывает и на то, что автор Евангелия от Иоанна хорошо знал Иерусалим до его разрушения – обстоятельство, которое мы обязаны учитывать при оценке попыток датировать данный текст гораздо более поздним периодом.
Чрезвычайно поздняя датировка Евангелия от Иоанна, которую отстаивал Луази, уже опровергнута открытиями в другой области. Папирусный фрагмент р52, датируемый палеографами – на основе вполне объективных данных – первой половиной II века н. э., содержит несколько предложений из Евангелия от Иоанна (см. Metzger 1978, рр. 38–39). Но поскольку устойчивая традиция связывает написание четвертого Евангелия с Эфесом, и поскольку здесь, несомненно, мы имеем дело с копией, конечным результатом целого ряда последовательных переписываний автографа, то сам факт обнаружения данного фрагмента в провинциальном городке на берегах Нила служит серьезным доводом в пользу датирования Евангелия от Иоанна первым веком.
Позднюю датировку Нового Завета отвергают и специалисты по римской истории. Мелкие языковые детали, внушавшие подозрения представителям Тюбингенской школы, например употребление слова kyrios для обозначения императора в Деян.25:26, оказались, напротив, еще одним свидетельством в пользу достоверности Деяний, ибо, как явствует из многочисленных папирусных текстов, обнаруженных впоследствии, данный термин использовался в Египте и на Востоке по отношению к правящим императорам еще в эпоху Птолемеев, хотя широко распространенным он стал при Нероне и в более позднее время. Итог всей этой дискуссии не без язвительности подвел Адольф Дайсман:
Незначительные детали, вызывавшие сомнения у ряда комментаторов, которые, восседая за письменными столами своих тюбингенских или берлинских кабинетов, тщеславно воображали, будто они знают эту эпоху лучше, чем евангелист Лука, теперь представляются вполне достоверными (Deissmann 1965, р. 354).
И это отнюдь не единичные примеры. Критические атаки, в частности, на книгу Деяний, имели своим итогом столь обескураживающий ряд «достижений», что ее анализ с позиций критики форм уже невозможно принимать всерьез (см. Hengel 1983 и особенно Hemer 1989). Как пишет исследователь римской истории А.Н. Шервин-Уайт,
историчность Деяний подтверждается более чем убедительно... Любая попытка отрицать, хотя бы в деталях, их глубокую историческую достоверность должна казаться в наше время попросту нелепой. Специалисты по римской истории уже давно не имеют на сей счет ни малейших сомнений (Sherwin-White 1963, р. 189).
Но ведь убедительно доказанная историчность Деяний в свою очередь свидетельствует в пользу подлинности Евангелия от Луки – написанного, как многие полагают, прежде Деяний тем же самым автором.
Результаты, достигнутые литературным анализом и критикой форм применительно к синоптическим Евангелиям в целом, едва ли можно назвать более впечатляющими. Рассмотрим попытку установить с помощью литературоведческих методов взаимные связи между синоптическими Евангелиями. Согласно излюбленной теории ученых прошлого века, там, где Евангелия от Матфея и от Луки содержат материал, отсутствующий у Марка, они обязаны им некоему источнику, именуемому в науке «Q». Не вызывает сомнений, что по крайней мере два из синоптических Евангелий имели свои источники: Лука прямо говорит, что получил материал из более ранних источников (Лк.1:2–3), а источником для Евангелия от Марка традиция называет Петра. Но ведь Q, хотя его и считают «документом», по-прежнему остается чем-то чисто гипотетическим. Несмотря на великое усердие, выказанное иными из сторонников данной теории (мир научной библеистики украшают теперь всевозможные комментарии к Q, литературные исследования Q, раскопки отдельных литературных слоев Q), не обнаружилось буквально ни малейшего текстуального доказательства существования подобного документа, ни даже намека о нем в сочинениях ранних отцов церкви. Тем не менее Q остается одним из столпов господствующей ныне гипотезы о двух источниках развития текста синоптических Евангелий, а разнообразные спекуляции насчет его «слоев» служат верным паладинам Q практически бездонным кладезем новых идей. Например, и в Евангелии от Марка, и в тех местах у Матфея и Луки, которые возводят к Q, Иисус неоднократно называет Себя Сыном Человеческим. И, однако, исследователь новозаветных текстов Джон Доминик Кроссан убежден, что представлением о страдавшем и воскресшем Сыне Человеческом мы обязаны Марку (Crossan 1991, р. 259). Как же тогда объяснить его присутствие в Q? Ответ у Кроссана наготове: этого термина не было в оригинальной версии Q – он был вставлен позднейшим редактором (Crossan 1991, рр. 244–249). «Каким же образом, – вопрошает один суровый критик Кроссана, – можем мы отличить первоначальную форму Q от более поздних его форм? А вот каким: по отсутствию данных особенностей на более ранней стадии – но ведь это же триумф порочного круга в рассуждении!» (Кее 1995, р. 22).
Пугающими темпами плодятся всякого рода альтернативные теории отношений между синоптическими Евангелиями и Q: гипотеза двух источников (первенство и независимость Марка и Q; в зависимости от их обоих, но независимо друг от друга впоследствии возникают Матфей и Лука); гипотеза Грисбаха (приоритет Матфея, затем Лука, после него Марк); гипотеза Фаррера (первенство Марка, следующий – Матфей, за ним – Лука); августинианская гипотеза (приоритет Матфея, за ним Марк, потом Лука); и даже теории первенства Луки, например в гипотезе представителей Иерусалимской школы Линдси и Бивина. Что еще хуже, едва ли не у каждой из подобных теорий имеется ряд вариантов или близких родственников; скажем, гипотеза Протоматфея у Райла – это вариант гипотезы Грисбаха, а гипотеза Прото- и Девтеромарка у Костера – это вариация на тему гипотезы двух источников.
Что же делать заинтересованному неспециалисту посреди этой невообразимой разноголосицы мнений? Некоторые, разумеется, объявят всю проблему целиком не поддающейся решению. Но если мы расширим поле нашего зрения и попытаемся понять, какой свет можно пролить на данный вопрос, выйдя за пределы области собственно литературного анализа, то обнаружим один поразительный и неопровержимый факт. Практически все дошедшие до нас от первых веков нашей эры объективные свидетельства, касающиеся авторства и составления Евангелий, сходятся в том, что первым было написано Евангелие от Матфея; что писали его на еврейском языке, а перевели на греческий впоследствии; что Марк записал то, что услышал от Петра, не стремясь, однако, к строгому порядку в изложении событий, но заботясь лишь о том, чтобы ни одно из них не пропустить. В сообщении Палия (ок. 125 г.) о свидетельстве Иоанна (ум. ок. 100 г.), в сообщении Иринея («Против ересей» 3.1.1, ок. 185 г.), хронологически еще более детализированном, в сообщении Климента Александрийского (ок. 190 г.) в его «Очерках» (отрывке, сохранившемся у Евсевия, хотя само произведение Климента до нас не дошло), в сообщении о традиции, которое приводит непосредственный преемник Климента Ориген (с подробностями, отсутствующими в тех фрагментах Климента, которые сохранил для нас Евсевий), и даже в приписках к рукописям Евангелия от Матфея на арабском и сирийском языках – всюду мы неизменно находим подтверждение этих сведений. Вот, например, перевод арабской приписки к одному из кодексов:
Здесь заканчивается Евангелие от Апостола Матфея. Написал он его в палестинской земле, по внушению Святого Духа, спустя восемь лет по телесном вознесении Иисуса Мессии на небеса и в первый год правления римского императора цезаря Клавдия (Michaelis 1801, р. 133).
Мы вовсе не хотим сказать, что каждое из этих утверждений непременно должно быть истинным; например, вопрос о том, действительно ли Матфей написал сначала свое Евангелие по-арамейски, вызывает, как известно, большие споры. И все же характерное для многих ранних источников согласие по целому ряду пунктов есть замечательный факт, и от него нельзя попросту отмахнуться – в особенности по той причине, что расхождения между этими источниками в других моментах дают серьезные основания полагать, что их авторы по большей части не просто переписывали друг у друга.
Для тех, кто скептически относится к попыткам раскопать некие воображаемые слои в некоем воображаемом источнике–документе, независимые свидетельства подобны твердой почве посреди трясины. В самом деле, если мы вновь подойдем к двери упомянутой выше библиотеки в Гарварде и хорошенько прислушаемся, о чем там толкуют, то услышим голоса людей, которые решительно утверждают, что к многочисленности, непротиворечивости и единодушию внешних объективных свидетельств следует относиться с полной серьезностью (см. прежде всего Robinson 1976; Gundry 1982; Wenham 1992). И все же подобные голоса остаются в меньшинстве. Отчасти это можно объяснить модным пристрастием к литературному анализу, а также порождаемой узкой научной специализацией склонностью недооценивать важность утверждений отцов церкви. Здесь, однако, действует еще один и весьма серьезный фактор. Ведь если содержание того, о чем сообщают нам внешние независимые свидетельства, мы истолкуем в прямом, буквальном смысле, то нам фактически придется признать следующие два положения: (1) первые два Евангелия были написаны очень рано, задолго до 70 года н. э., и (2) они принадлежат либо непосредственно (Матфей), либо опосредованно (Марк, излагающий услышанное от Петра) независимым свидетелям – ученикам самого Христа. Но такое признание не пришлось бы по вкусу людям, пытающимся изо всех сил доказать, что Евангелие от Марка есть результат сложного процесса мифотворчества, конечное звено в цепи многочисленных редакций Q. И оно не предоставляет достаточного промежутка времени для того, чтобы рассказы о чудесах и воскресении Иисуса успели развиться и пышно расцвести в форме мифа; здесь нет необходимой дистанции, пространственной и временной, между текстами и очевидцами служения Иисуса, которые могли бы подобные повествования опровергнуть. Наконец, такое признание не позволяет избавиться от неудобных предсказаний Иисуса о разрушении Иерусалима, оставляя тем самым открытым вопрос о возможности подлинного пророчества. В данном пункте философские предубеждения оказывают вполне осязаемое давление на процесс исследования синоптических Евангелий.
Искажающее действие такого давления часто бывает очевидным для тех, кто рассматривает эту область извне. Как пишет Э.М. Блейклок, специалист по античной истории:
Трудно сохранить терпение при виде некоторых весьма экзотических литературно-критических теорий, коими изобилуют ныне новозаветные штудии. В последние десятилетия исследователи истории Древнего мира позволяли себе известную иронию по поводу рассчитанного скептицизма изучающих Новый Завет коллег, которые отказываются замечать то, что специалисты по античности видят без труда – письменные свидетельства о жизни людей первого века; свидетельства, уникальную ценность которых, хотя бы в качестве исторического материала, следует признать... Когда критическая теория пытается нас убедить, будто некие литургические и религиозные потребности и стремления, возникшие ниоткуда и непонятно как оформившиеся, сами собой, и притом в пределах жизни людей, помнивших первую половину первого века, породили свою собственную литературную основу, т. е. повествования и изречения, из которых и состоят Евангелия, то нам фактически предлагают обсуждать всерьез такие фантазии, которые вызвали бы смех в любой другой, менее изолированной и замкнутой на самой себе сфере литературной критики (Blaiklock 1983, рр. 34–35).
В откровенном автобиографическом рассказе исследователь Античности Джон Рист описывает, как он сам постепенно шел к осознанию того, до какой степени критика форм исказила наше представление о Новом Завете. После II Ватиканского собора, пишет он, утратилось, похоже, «всякое понимание ограниченности подобных методов, всякое умение проводить различие между разумным их использованием и злоупотреблением ими».
Исследуя ранние свидетельства и сами Евангелия, я пришел к убеждению, что Евангелие Матфея не может зависеть от Евангелия Марка и принадлежит примерно к тому же – раннему – периоду (безусловно, не позднее 70 г. н. э.)...
Таким образом, все основные положения христианства восходят к самым первым последователям Иисуса, а по всей вероятности – к самому Иисусу... Я уже не мог обманываться насчет «подлинной» науки, уверявшей, будто у нас нет свидетельств того, что сам Иисус, а также первое поколение Его последователей что-либо говорили о Его божественности. В попытках библейских критиков доказать, что подобные утверждения постепенно возникли (или были задним числом сфабрикованы) внутри церкви, я видел теперь лишь сплетение негодных доводов, антиисторическую трактовку источников и принятие желаемого за действительное; желали же здесь одного – сделать христианство удобным и приемлемым для типичной «либеральной» ортодоксии XIX и XX веков с характерной для нее недобросовестностью. Результаты этих «научных исследований» оказались настолько убогими, что в любой другой филологической дисциплине их попросту не стали бы принимать всерьез (Rist 1993, р. 100).
И это правда – не стали бы. Методы критики форм подверглись тщательной проверке вне сферы новозаветных штудий и были признаны неудовлетворительными. Филологам–классикам эти игры быстро наскучили. Как отмечает Г. Дж. Роуз:
... Главным оружием «сепаратистов» всегда служил литературный анализ, о нем же можно без всякого преувеличения сказать, что столь крохоборческие придирки к отдельным словам, столь дотошное выискивание противоречий и «логических» неувязок едва ли встречались за пределами гомероведения со времен кончины Раймера и Джона Денниса (Rose 1950, рр. 42–43).
Подобного рода примеры нетрудно найти и в целом ряде других областей359.
Одним из наиболее любопытных результатов исследований последнего времени стало осознание того факта, что Евангелия, несмотря на присущие им особые акценты, находятся в согласии с принципами греко-римской историографии, отразившимися в сочинениях Фукидида, Ксенофонта, Полибия, Иосифа Флавия и Тацита; прежде всего – в характерном для Евангелий предпочтении устных свидетельств очевидцев записанным рассказам360. Ричард Бокем полагает, что в трех Евангелиях мы встречаем литературный прием inclusio – обычное средство обозначения основного свидетеля-источника информации через обрамление соответствующего повествования ссылками на данное лицо, – и приводит примеры аналогичного использования inclusio у Лукиана и Порфирия (Bauckham 2006, рр. 124–147). «Таким образом», – пишет Бокем, –
вопреки первому впечатлению, которым довольствуется большинство исследователей Нового Завета, в Евангелиях все-таки обнаруживаются литературные способы указания на то, что источником соответствующих сведений являются очевидцы. Если же кто-нибудь спросит, почему подобные приемы остаются незаметными для нас и не бросаются нам в глаза, то следует напомнить, что, в отличие от ученых XIX и XX веков, большинство древних читателей и слушателей этих произведений были заранее склонны думать, что они имеют своими источниками прямых очевидцев описанных в них событий; а те читатели или слушатели, кого специально интересовала личность этих очевидцев, могли удовлетворить свое любопытство имевшимися в Евангелиях указаниями на сей счет (Bauckham 2006, р. 147).
Наконец, самый «скандальный» из всех рассказов о чудесах, рассказ о смерти, погребении, воскресении и последующих явлениях Иисуса людям, получил подтверждение – в ранней версии символа веры, включенной в 1Кор.15:3–7361, – еще раньше, чем появилось какое-либо из Евангелий, даже согласно наиболее консервативным их датировкам. Практически все современные исследователи Нового Завета признают, что эти стихи содержат до-Павлову формулу, возникшую в первоначальной церкви. Но такое признание сразу же ставит нас перед дилеммой, относящейся к описанию происхождения христианства. Если первые христиане – а некоторые из них были очевидцами жизни и служения Христа – пребывали в твердом убеждении, что Он действительно воскрес из мертвых и явился поименно названным ученикам – известным людям и деятельным членам церкви, то мифологическую версию придется исключить. Евангелия дают нам более полное и подробное изложение событий, последовавших за смертью Иисуса. Но по крайней мере большая часть важнейших фактов была известна и стала предметом широкого обсуждения уже через несколько лет после этих событий.
К этому можно было бы еще многое добавить. Вероятно, не все читатели сочтут наш краткий очерк одинаково убедительным, но для более полного обоснования наших выводов потребовалась бы работа иного формата. Тем же, кто с нами не согласен, стоило бы обратить внимание на то, в какой мере их собственные предубеждения будут влиять на восприятие ими последующей аргументации. Но даже им должно быть любопытно, что можно сказать в пользу исторического доказательства от чудес, если исходить из предпосылок, которые были общими для Юма, деистов и защитников ортодоксии в ту пору, когда они сошлись в великом богословском сражении XVIII века.
Исходные факты: смерть и погребение
Прежде чем рассматривать знаменательные факты, нам следует кратко упомянуть два сообщения, которые, в рамках настоящего аргумента, мы примем как факты исходные и бесспорные. Первый факт заключается в том, что Иисус действительно умер – примерно так, как это описано в дошедших до нас повествованиях; а второй – в том, что Его похоронили в гробнице.
Почти все современные исследователи Нового Завета соглашаются, что Иисус умер на кресте. Теория обморока, привлекавшая Шлейермахера, в высшей степени неправдоподобна по самому своему существу. Единственный известный нам из письменных источников пример того, как кто-то остался жив после римского распятия – это случай, зафиксированный у Иосифа Флавия (Жизнеописание, 75). Отправленный с поручением от императора Тита, Иосиф видит среди распятых на кресте своих старых знакомых и сообщает об этом императору; тот велит их снять и сделать все возможное для их спасения. Двое умирают на руках у врачей, третий выздоравливает. Из данного отрывка один скептик попытался вывести 33-процентную вероятность того, что любая жертва распятия на кресте могла, «после простого избиения», прожить больше суток – хотя, чтобы распространить это оптимистическое допущение на Иисуса, пришлось отвергнуть как недостоверный рассказ Иоанна о ране от копья (Carrier 2006, chap. З)362. Разумеется, истинной референтной группой следует в данном случае считать тех жертв римского распятия, которых не снимали с креста и не лечили, используя все имевшиеся в ту пору средства. Число же известных нам выживших людей из этой группы равно нулю.
Теорию обморока отличает не только самоочевидное, априорное неправдоподобие, но и полная неспособность объяснить веру учеников Христа в Его воскресение, речь о которой пойдет у нас ниже. Замечания на сей счет Штрауса – отнюдь не сторонника традиционной веры в воскресение – достаточно ясны, и их стоит здесь процитировать:
Невозможно себе представить, чтобы тот, кого полумертвым выкрали из гробницы, кто, больной и бессильный, еле передвигался, ибо требовал лечения, кто нуждался в перевязках, поддержке и снисхождении, и кто в конце концов был сломлен страданиями, мог убедить своих учеников в том, что он был Победителем смерти и тления, Начальником Жизни – а ведь именно эта мысль и лежала в основе их будущего служения. Подобное «оживление» могло бы лишь ослабить то впечатление, которое произвел он на них своей жизнью и смертью, сообщить этому впечатлению, самое большее, элегический характер; но оно было бы не в силах превратить их печаль в воодушевление, а их уважение возвысить до степени поклонения (Strauss 1879, р. 412).
Не так давно Джон Доминик Кроссан отстаивал следующую радикальную точку зрения: Иисуса не хоронили в гробнице – его просто зарыли в общей могиле или бросили в яму с известью, чтобы ускорить разложение тела (Crossan 1994, рр. 152–158; 1998, рр. ххVіі, 550–559). Он не приводит никаких конкретных доводов в пользу данной гипотезы; последняя, как он сам признает, есть лишь экстраполяция предполагаемой наиболее распространенной практики.
Я без конца думаю о тысячах других евреев, распятых в этом жутком первом столетии в окрестностях Иерусалима; все, что нам от них осталось, – это один-единственный скелет и один-единственный гвоздь. Мне кажется, я точно знаю, что произошло с их телами, и у меня нет причин полагать, что судьба Иисусова тела была иной (Crossan 1996, р. 188)363.
Чтобы обосновать подобное утверждение, Кроссану требуется отвергнуть рассказ о погребении в Мк.15:42–7 как вымышленный – что он и делает, подчеркивая противоречия в характеристике Иосифа из Аримафеи (последователя Иисуса, но при этом члена синедриона, единогласно Иисуса осудившего) и указывая на отсутствие причин хоронить только Иисуса, а не всех троих казненных на кресте. Подобным мотивом, утверждает Кроссан, не могли служить благочестие или долг, ибо в таком случае Иосиф похоронил бы и разбойников; следовательно, заключает Кроссан, «погребение Иисуса Иосифом Аримафейским в 15:42–47 Марк сочинил. Рассказ о нем не отражает какого-либо предания, существовавшего до Марка» (Crossan 1998, р. 555). Историю обнаружения пустого гроба женами–мироносицами Кроссан, видимо для полноты эффекта, также объявляет выдумкой Марка.
Вместе с большинством исследователей Нового Завета мы находим подобную аргументацию совершенно неубедительной. Само противоречие, которое усматривает Кроссан в характеристике Иосифа Аримафейского, можно счесть свидетельством того, что перед нами здесь отнюдь не вымышленный персонаж. Ведь если бы Марк задавался целью приукрасить свой рассказ, то разве стал бы он кого-то выдумывать и этому придуманному герою поручать столь важную роль? А если бы и стал, то зачем ему понадобилось давать такое описание Иосифа Аримафейского, которое вызывает у читателя недоуменные вопросы? Как бы то ни было, поиск убедительных ответов на вопросы Кроссана нельзя назвать невероятно трудным делом. Всякий, кто когда-либо участвовал в работе какого-нибудь комитета, отлично знает, что порой решения принимаются комитетом – как органом – в отсутствие некоторых его членов, и эти решения считаются принятыми единогласно. Что же до мотивов Иосифа при погребении Иисуса, то здесь Кроссан принимает в расчет слишком скудный набор альтернатив, рассматривая лишь благочестие и долг. Существует также причина, подразумеваемая, хотя и не названная прямо в самом тексте – любовь ученика к Учителю, которая никак не могла распространяться на разбойников. В любом случае нам неизвестно, нашел ли бы он время или возможность похоронить остальных казненных, даже если бы почувствовал такое желание. Аргументы Кроссана не дают ни малейших оснований отвергать неудобную для кого-то часть первоисточника, а в данном случае – четырех первоисточников сразу.
Также отнюдь не достаточно избавиться от рассказа о погребении, который является частью не только Мк 15, но и раннего варианта символа веры, включенного в 1Кор 15. И здесь, в очередной раз, метод Кроссана сводится к игнорированию того очевидного соображения, что упомянутый символ сообщает нам сведения о важнейших событиях, имеющих самое прямое отношение к рождению христианства. Кроссан же принимается рассуждать в терминах литературных категорий – о нарративных моделях, рассказах (но не в смысле описания исторических событий), мифологических гимнах, параллелизмах (Crossan 1998, рр. 546–550). Столкнувшись с тем бесспорным фактом, что первые христиане основывали свою веру на воскресении, Кроссан лишь перетолковывает эту фундаментальнейшую из возвещенных христианством истин в некую экзистенциальную метафору: «Это и есть воскресение: продолжающееся присутствие Иисуса «прошедшего» в продолжающей существовать общине – присутствие в радикально новой, трансцендентной форме настоящего и будущего существования» (Crossan 1991, р. 404). Нигде, ни в одном месте не ставит он прямо вопрос о том, а не может ли этот символ веры представлять собой краткое изложение реальной последовательности событий. Создается впечатление, что подобная мысль просто не приходит ему в голову.
Примеры эти типичны для метода Кроссана в целом – подхода, предполагающего произвольное вычленение и отбор фрагментов, которые затем можно будет принять всерьез или отвергнуть, и опирающегося почти исключительно на предположения относительно намерений гипотетических авторов и характера избранных ими литературных форм. Подобная методология заставляет вспомнить безжалостный приговор, вынесенный Мартином Хенгелем образу действий адептов так называемой «научной критики»:
Мы слишком мало знаем, чтобы вот так, с порога, без тщательного исследования, с гиперкритических – чуждых истории – позиций отвергать то, что сообщают нам источники. Сегодня, после двухсот с лишним лет историко-критической работы над Новым Заветом, такое отношение следует назвать некритическим и антиисторическим. Подлинная опасность при толковании Деяний (и Евангелий) заключается для нас уже не в некритической апологетике, но в гиперкритическом невежестве и высокомерии, которые – нередко сочетаясь с необузданной фантазией – утрачивают всякую способность к пониманию живой исторической действительности (Hengel & Schwemer 1997, рр. 6–7).
Знаменательные факты: W, D и Р
К первой группе фактов, составляющих доказательства воскресения, относится свидетельство тех, кто, как предполагается, своими глазами видел пустой гроб, и их же (женщин, утверждавших, что они нашли гроб пустым) свидетельство о явлениях Иисуса по воскресении. Свидетельства учеников (мужчин) о явлениях Иисуса мы рассмотрим отдельно.
То обстоятельство, что некоторые женщины действительно заявляли, что в первый день недели после распятия Иисуса на кресте они нашли Его гроб пустым, трудно отрицать как исторический факт. Сжатый рассказ о том, как они обнаружили пустой гроб и видели ангелов, можно найти в Евангелии от Марка – самом кратком и, по мнению некоторых ученых, наиболее раннем из Евангелий (Мк.16:1–8). Сходные повествования повторяются во всех других Евангелиях. Женщин, пришедших к гробнице и обнаруживших, что она пуста, Марк называет по именам: Мария Магдалина, Мария – мать Иакова и Саломия. Лука говорит о Марии Магдалине, Марии – матери Иакова и Иоанне, но уточняет, что были «и другие с ними» женщины (Лк.24:1–11). Матфей ведет речь о Марии Магдалине и «другой Марии» (Мф.28:1–7), тогда как Иоанн упоминает только Марию Магдалину (Ин.20:1–18).
В своем обзоре недавних исследований по Новому Завету Гэри Хабермас документально доказал следующий любопытный факт: значительное большинство (примерно 75%) ученых, писавших на эту тему в 30-летний период с 1975 по 2005 годы, согласны в том, что гроб Иисуса действительно нашли пустым (Habermas 2006а, р. 292). В их число входят и те, кто к самому христианству относится скептически. В дальнейшем мы намерены доказать, что слова женщин о пустом гробе служат доводом в пользу R, а потому, разумеется, мы полагаем, что их слова свидетельствуют о том, что гроб и в самом деле был пуст. Здесь, однако, мы лишь хотим отметить, что это, широко распространенное в современной науке, признание реальности пустого гроба почти наверняка указывает на признание в среде ученых другого, более скромного, утверждения, а именно: некоторые очевидцы женского пола говорили, что они обнаружили пустой гроб. Кроме этих женщин, нам известны из источников только два лица, своими глазами видевшие пустой гроб – Петр и Иоанн364. В двух Евангелиях упоминается, что ко гробу пошел Петр; в одном указан Иоанн (Лк.24:12; Ин.20:3–10). Более того, согласно этим повествованиям, Петр и Иоанн отправляются ко гробу лишь после того, как – и по той причине, что – им возвестили о пустом гробе женщины. Существенная часть свидетельств в пользу того, что гроб действительно был пуст, восходит к сообщению этих женщин.
Несколько более спорным представляется вопрос о том, действительно ли некоторые женщины утверждали, что они видели воскресшего Иисуса; и все же свидетельства, которыми мы располагаем, позволяют думать, что эти утверждения имели место. Встречу Марии Магдалины с Иисусом Марк упоминает лишь в пространном заключении, вероятно, не подлинном, однако рассказ, притом не лишенный подробностей, о Марии Магдалине и Иисусе мы находим в Ин.20:11–18, а завершается он тем, что Мария Магдалина идет к ученикам и возвещает им о случившемся. В Мф.28:9–10 приводится краткий рассказ о встрече Иисуса с женщинами, которые, побывав у гроба, вместе спешат к ученикам.
Хотя некоторые ученые ставили эти рассказы под сомнение, усматривая здесь позднейшие вставки, есть серьезные основания считать их точным изложением того, что сообщили женщины. Во-первых, наличие противоречий в повествованиях об обнаружении пустого гроба и о первых явлениях воскресшего Иисуса само по себе на первый взгляд служит сильнейшим доводом против возможности предварительного сговора, переписывания друг у друга или умышленного приукрашивания фактов. Один евангелист сообщает только об одном ангеле у гроба, другой – о двух; у одного женщины отправляются ко гробу «рано, когда было еще темно», у другого это происходит «при восходе солнца». Списки имен женщин в разных Евангелиях совпадают лишь частично. Ряд моментов так и остается для читателя не вполне ясным. Если Мария Магдалина побежала обратно, чтобы сообщить об увиденном Петру и Иоанну, то почему они не встретили других возвращавшихся женщин? Что имел в виду Иисус, когда сказал Марии Магдалине: «Не прикасайся ко Мне»? Но ведь подобного рода неувязки и противоречия как раз и должны присутствовать в рассказах независимых очевидцев об одном и том же событии, где единство в наиболее существенном – то есть согласие в передаче важнейших фактов – неизбежно сопровождается расхождениями в описании отдельных деталей.
Во-вторых, отметим один замечательный факт: в повествованиях Матфея и Иоанна, где среди видевших воскресшего Христа упомянуты женщины, именно они указаны в качестве первых очевидцев. Между тем хорошо известно, что в еврейском обществе I века женщин не признавали надежными свидетелями в серьезных делах. Проиллюстрируем это несколькими цитатами:
Свидетельство женщин, ввиду их легкомыслия и пристрастия, не должно быть принимаемо во внимание... (Иосиф Флавий, Иудейские древности, 4.8.15).
Ни одно показание, которое дает женщина, не может иметь силы... (Талмуд, Рош Ха– шана 1.8с).
Важность данного обстоятельства не стоит преувеличивать, ибо в Талмуде приводятся разные мнения о том, в какой мере следует доверять свидетельствам женщин:
Всякий раз, когда в Торе рассматриваются показания одного свидетеля, предпочтение отдается большинству, так что показания двух женщин против одного мужчины тождественны по своей силе показаниям двух мужчин против одного. Есть, однако, и такие, кто утверждает, что всякий раз, когда сведущий свидетель приходит первым, даже сто женщин должны считаться за одного свидетеля...но если первой приходит женщина, то показания двух женщин будут равносильны показаниям одного мужчины (Талмуд, Coma 31b).
Тем не менее совершенно очевидно, что ради вящего правдоподобия вымышленной истории было бы целесообразнее поместить у гроба не женщин, а нескольких почтенных мужей, чтобы именно они первыми увидели воскресшего Христа.
Последний важный факт, относящийся к сообщениям женщин, состоит в том, что им не поверили. Лука говорит, что когда женщины возвестили ученикам о пустом гробе, «показались им слова их пустыми, и не поверили им» (Лк.24:11). Правда, Петр и Иоанн решили, что им следует пойти ко гробу и увидеть все собственными глазами, но ведь рассказ Луки дает понять, что они вовсе не считали женщин заслуживающими доверия. Даже выслушав женщин, ученики по-прежнему оставались «печальны» и (о чем речь у нас пойдет ниже) испытывали страх. Очевидно, рассказ об ангелах, объявивших, что Иисус воскрес, не произвел на них особого впечатления, и не только по причине его априорного неправдоподобия. В свете только что нами описанной правовой ситуации такое отношение к свидетельствам, исходящим от лиц женского пола, едва ли должно казаться странным. В высшей степени вероятно, что рассказ женщин о пустом гробе и об ангелах ученики сочли за вздор, или, как выражается в данном месте Библия короля Якова, «глупые басни (idle tales)».
Пожалуй, наиболее важный из очевидных фактов, совокупность которых, как мы попытаемся продемонстрировать, составляет доказательство воскресения Иисуса из Назарета – это свидетельство нескольких вполне конкретных лиц, чьи имена мы знаем, а также особые обстоятельства, в которых эти свидетельства имели место. О дальнейшей судьбе жен-мироносиц нам известно немногое; сейчас, однако, мы обратимся к сообщениям конкретных очевидцев, впоследствии подтвердивших свои свидетельства перед лицом совершенно явной смертельной опасности, более того – в некоторых случаях запечатлевших их истину собственной смертью.
Как и в случае свидетельства женщин, факты, связанные со свидетельствами и внутренним преображением учеников, вызывают меньше сомнений, чем это можно было ожидать – даже у скептически настроенных ученых. Хотя мы здесь заранее допускаем подлинность и общую историческую достоверность текстов Евангелий и Деяний, важнейшие для нас факты, даже если подходить к ним с мирских позиций, не кажутся особенно сомнительными большинству исследователей Библии. Напротив, даже те из них, кто едва ли согласится с тезисом о подлинности и общей исторической достоверности (например) Евангелий, склонны признавать следующее: ученики Христа утверждали именно то, что традиция считает их свидетельствами. В самом деле, как документально доказал Хабермас, значительное большинство специалистов, включая сюда и тех ученых, кто в целом далек от консервативно-богословских позиций, не отрицают того, что ученики верили в воскресение Иисуса из мертвых и что к этой вере они пришли вскоре после Его казни (Habermas 2005, рр. 151–152, прим. 92; 2006b, рр. 79–82).
Одиннадцать учеников – первоначальные двенадцать за вычетом Иуды – утверждали, что они видели Иисуса после Его воскресения. Имена этих одиннадцати приведены в Деян.1:13: Петр, Иоанн, Иаков, Андрей, Филип, Фома, Варфоломей, Матфей, Иаков Алфеев, Симон Зилот и Иуда Иаковлев.
Прежде всего, отметим, что пережитое этими одиннадцатью учениками – и описанное ими самими в терминах «видеть воскресшего Иисуса и говорить с Ним» – имело место, судя по всему, отнюдь не в атмосфере радостного упования или эмоционального подъема, но, скорее, страха и уныния. Страх подвергнуться тому же, что и Иисус, явственно обнаруживается в учениках еще до смерти Учителя – в смущающем нас, но вполне правдоподобном отречении Петра во время суда над Иисусом (Мк.14:66–72); а тревога за собственную безопасность, согласно Евангелию от Иоанна, не покидала учеников даже после того, как Мария Магдалина возвестила им, что видела Иисуса: «... двери дома, где собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев» (Ин.20:19)365.
Мало того, некоторые ученики, прежде всего Фома, не только чувствовали страх, но и прямо выражали свое скептическое отношение к сообщениям других людей. Евангелие от Иоанна дает нам наиболее полный рассказ о сомнениях Фомы, включая условие, получившее заслуженную известность: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин.20:25). У Матфея же утверждается, что «иные» из последователей Иисуса «усомнились» даже после того, как в первый раз увидели Его воскресшим (Мф.28:17). Таким образом, все евангелисты сходятся в характеристике первоначальной реакции учеников как чего-то совершенно не похожего на ожидание видений или на готовность поверить в то, что Иисус жив.
Рассказы Одиннадцати о встречах с Иисусом поразительны во многих отношениях, и, хотя в рамках настоящего аргумента мы не вправе, во избежание логического круга, заранее допускать их истинность, нам следует с полной ясностью представлять себе, о чем у них идет речь. Рассматривая тот факт, что по меньшей мере тринадцать человек выражали готовность умереть за свое свидетельство о воскресении Иисуса из Назарета, нам важно разобраться, как именно они описывают соответствующие события, ибо только так сможем мы понять, за что же они были готовы умереть. Во-первых, в рассказах о явлениях Иисуса ученикам нет ничего туманного, «возвышенного» или «спиритуалистического»; скорее, перед нами здесь сухие, обстоятельные, вполне «эмпирические» по характеру отчеты. Ученики не только хотят точно передать Его слова – они также прямо указывают, что Иисус специально представил им опытные подтверждения того, что сам Он не дух, но существо материальное. Следовательно, ученики говорили именно о физическом, телесном воскресении: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я сам; осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». Но они все еще не верили, и тогда Он спросил, есть ли у них какая-нибудь пища, и съел немного печеной рыбы и сотового меда. А после Он приготовил для них рыбу и пригласил их к завтраку (Лк.24:39–43, ср. Ин.20:27, 21:9–13).
То, что ученики свидетельствовали именно о физическом воскресении, подтверждается и упоминанием в проповеди Петра в день Пятидесятницы о тлении Давидова тела – в противоположность телу Христа, которое тлению не подверглось:
Мужи братия! Да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком...он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, плоть Его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели (Деян.2:29–32).
Во-вторых, в чертах характера, приписываемых воскресшему Христу, не заметно добродушия, мягкости, отзывчивости, способности внушать мгновенную симпатию или энтузиазм. Напротив, Иисус изображается во многом таким же, каким Он был всегда, ничуть не более приятным собеседником или снисходительным товарищем, чем прежде: терпеливый, но порой колкий, властный и неотразимый, но при этом обескураживающий и непредсказуемый, превосходный учитель, не склонный, однако, отвечать на вопросы, которые сам Он находит излишними или неуместными. Он отвечает Фоме прямой ссылкой на его собственное условие веры, почти буквально его повторяя: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим» (Ин.20:27). В Его тоне можно, пожалуй, уловить легкую иронию, но ведь само это предложение сделано вполне серьезно. Он предоставляет ученикам любую возможность убедиться в своей правдивости, но упрекает их за то, что они не поверили свидетельствам других людей. Он говорит и совершает странные вещи, смысла которых они наверняка не смогут понять, например, когда, дунув на них, Он утверждает, что теперь у них есть власть отпускать грехи. Он то является ученикам и беседует с ними, то снова куда-то уходит, а затем опять возвращается, и такой образ действий не мог не приводить их в отчаяние полной своей непредсказуемостью (см., напр. Ин.21:1–14). После воскресения Он резко отвергает их попытки – вполне естественные – узнать о Его мессианских планах (Деян.1:7). Он и не думает рассеивать их страхи или распространять вокруг Себя религиозный восторг и воодушевление; напротив, Он заставляет Петра пережить тяжелые мгновения, когда испытывает его верность и любовь, а затем почти прямо предсказывает ему будущее мученичество (Ин.21:15–19). Эти рассказы не только свидетельствуют о том, что ученики заявляли о своем интенсивном и прямом личном общении с воскресшим Иисусом – в них обнаруживается такая степень реализма и столько живой конкретности в обрисовке характеров, что их невозможно объяснить одним лишь порывом энтузиазма, овладевшим учениками, или же их субъективной убежденностью в том, что они получили от Учителя некие смутные, чисто духовные «сообщения» или «послания».
Независимо от того, что происходило с Одиннадцатью в продолжение сорока с лишним дней по распятии Иисуса, в дальнейшем мы замечаем существенную перемену в их поведении и еще более разительное отличие – в день Пятидесятницы (см. Westcott рр. 102–103). Исполняя, по их собственным словам, волю воскресшего Иисуса, они пребывали в ожидании и молитве в Иерусалиме, примерно с сорокового дня после Пасхи и вплоть до Пятидесятницы. Мы также видим, что в это время они избирают на место Иуды нового апостола, а именно Матфия (Деян.1:15–26)366.
Попутно следует отметить, что избрание Матфия подтверждает слова Павла (1Кор.15:1–8) о том, что после своего воскресения Иисус являлся большему числу людей, нежели одиннадцать учеников. Следующее сообщение в книге Деяний показывает, что, несмотря на довольно жесткие требования, у Петра был определенный выбор среди кандидатов на место Иуды:
Итак, надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его (Деян.1:21–2).
Ученики избирают Матфия и Иосифа, прозванного Иустом, в качестве «финалистов» и бросают жребий, чтобы определить, кто из них займет освободившееся место Иуды. Рассказ этот не только дает нам имя еще одного предполагаемого свидетеля воскресения (т. е. Иосифа), но и позволяет с основанием заключить, что кандидатов, отвечавших указанным Петром требованиям, первоначально было больше двух (ср. Trites 2004, р. 137).
Начиная со дня Пятидесятницы апостолы (теперь их стало двенадцать) прямо- таки «напрашивались» своими действиями на мученичество, ибо, невзирая на вполне очевидную опасность, а также совершенно недвусмысленные и все более страшные угрозы, они упорно заявляли, что Иисус воскрес. Факты, которые мы намерены изложить, убедительно подтверждают следующий тезис: апостолы не могли не прийти, причем сразу несколькими путями, к осознанию того, что за свое свидетельство им, весьма вероятно, придется умереть – и были готовы, если потребуется, принять за него смерть.
Во-первых, смятение, вызванное ими в день Пятидесятницы (Деян.2), вполне могло привлечь к ним враждебное внимание тех самых религиозных властей, которые желали смерти Иисусу и добились Его казни. После распятия Иисуса не прошло и двух месяцев – между тем апостолы появляются перед огромным стечением народа, намеренно привлекают к себе всеобщее внимание, говорят на разных языках перед толпами собравшихся в Иерусалиме на Пятидесятницу людей, весьма нелестно отзываются о властях, погубивших Иисуса своими кознями, и открыто утверждают, что Он воскрес. Согласно Деяниям, к новому движению «присоединилось в тот день душ около трех тысяч», и нам остается лишь изумленно качать головой при мысли о том, сколько всего народу могло слушать тогда дерзкую проповедь Петра.
Какое-то время апостолы, по-видимому, пользовались популярностью (Деян.2:47); но уже вскоре у них начались те самые неприятности, каких и следовало ожидать любому на их месте. После того, как Петр и Иоанн, как предполагается, исцелили хромого и снова проповедовали в храме перед народом, храмовые стражи силой препроводили их к иудейским начальникам – первосвященнику, старейшинам и книжникам (Деян.4). В их присутствии апостолы еще раз повторили свое утверждение о том, что Бог воскресил Иисуса из мертвых. Начальники, привыкшие чувствовать себя образованной элитой среди простого народа, удивились их смелости (ст. 13), с неудовольствием узнали в них учеников Иисуса и очень хотели заткнуть им рот. Как и прежде, в случае с Иисусом, они не решились предпринять какие-либо крутые меры немедленно, ибо апостолы были популярны в народе. Начальники, однако, пригрозили апостолам и, под страхом не названных прямо, но легко угадываемых кар, велели им «отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса». Ответ Петра и Иоанна заслуживает самого пристального внимания: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать Вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали» (Деян.4:18–20). Акцент на свидетельстве очевидцев о событиях, воспринятых непосредственно и опытным путем, здесь так же невозможно не заметить, как и гордое мужество апостолов перед лицом угроз.
Нам могут возразить: из того, что начальники не попытались сразу же казнить Петра и Иоанна и даже отпустили их из страха перед народом, апостолы вправе были заключить, что теперь-то они могут преспокойно проповедовать воскресение Иисуса, и им в сущности нет причин бояться смерти. На самом же деле имело место прямо противоположное. Во-первых, события жизни Иисуса должны были ясно им показать, что этот «страх перед народом» вполне оправдан. Ведь враги Иисуса все же схватили Его ночью и, несмотря на Его популярность – еще большую, чем в этот момент у апостолов – и Его предполагаемые чудеса – куда более многочисленные, чем совершенные ими – добились в конце концов того, что народ сам потребовал от Понтия Пилата Его казни. Обо всем этом апостолы прекрасно помнили. Во-вторых, когда Петр и Иоанн рассказали о случившемся остальным своим товарищам, все они тотчас же принялись молиться, из слов же их пространной молитвы явствует, что угрозы начальников они воспринимали с полной серьезностью.
Столкновения апостолов с иудейскими властями не прекратились после первого предостережения. Апостолов (по-видимому, всех) по приказу разгневанного первосвященника вскоре снова бросили в тюрьму за неповиновение (Деян.5:17–18). Когда же апостолы оказались на свободе (как утверждается, со сверхъестественной помощью), они возобновили проповедь в храме. Повторно, хотя и относительно мягким образом («без принуждения»), задержанные храмовой охраной, вновь препровожденные к начальникам и получившие приказание больше не проповедовать, Петр и другие апостолы отвечают: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам» (Деян.5:19), вновь возлагают на иудейских начальников вину за смерть Иисуса и в очередной раз заявляют о Его воскресении. В этот момент священники уже «умышляли умертвить их» (Деян.5:33). Гамалиил отговаривает их от этого шага, но они бьют апостолов и еще раз велят им прекратить проповедь, чего те, разумеется, не делают.
Здесь нам снова нужно ответить на аргумент, согласно которому апостолы вполне могли думать, что им вовсе не придется умереть – ведь им уже несколько раз угрожали, но потом отпускали; а значит, упорное стремление продолжать проповедь отнюдь не доказывает их готовности умереть за свое свидетельство. Формально римский закон не дозволял евреям требовать для кого-либо смертной казни. Поэтому они и привели Иисуса к Пилату и угрожали мятежом, чтобы вынудить Пилата Его распять. Все, однако, указывает на то, что добиться соблюдения этой юридической нормы римлянам было трудно. Например, Иисуса несколько раз едва не растерзала разъяренная толпа (Лк.4:29; Ин.10:31). Вдобавок, иудейские начальники имели, по-видимому, право применять силу и располагали храмовой стражей для задержаний; по закону они могли требовать кары в виде телесных наказаний и обладали полномочием заключать в тюрьму – а все это едва ли могло внушить кому-либо уверенность в способности римских властей удержать их от дальнейших, более крутых мер. Начальники, несомненно, полагали, что они смогут убить апостолов, если захотят, ведь они уже начали строить планы убийства; разубедивший же их Гамалиил отнюдь не ссылался на то обстоятельство, что они не получили от римлян законного права лишать кого-либо жизни. Таким образом, даже из перечисленных до сих пор фактов явствует, что смерть через побивание камнями по наущению иудейских начальников была для апостолов вполне реальной угрозой, которая, однако, ни в малейшей степени не повлияла на их действия.
Дальнейшие же события доказали, что возможность подобной гибели не была чисто теоретической. Стефана побили камнями после того, как свидетели обвинили его перед религиозным судом в богохульстве, а сам Стефан, отвечая на их обвинения, произнес чрезвычайно пламенную проповедь, очень близкую по смыслу к тому, чему учили апостолы (Деян.7). Кажется, побивание камнями Стефана произошло вскоре после попытки Гамалиила успокоить иудейских начальников и остановить гонение на апостолов (Деян.5:34–39). Если исходить в датировке из биографии Павла, присутствовавшего при казни Стефана и в ту пору враждебного христианству, то данное событие, скорее всего, имело место через год (самое большее – спустя три года) после распятия Иисуса.
Далее. Нет никаких свидетельств того, что римляне наказали иудейских начальников за это конкретное злоупотребление властью. Как и любая бюрократия, римское правительство далеко не всегда проявляло желание и решимость добиваться неукоснительного соблюдения всех без исключения законов. Поколением позже, когда толпа евреев убила Иакова, брата Иисуса, высшие власти действительно низложили первосвященника, но после побивания камнями Стефана они, похоже, просто умыли руки. Ни о какой защите христиан со стороны Рима не могло быть и речи, ведь тотчас же после убийства Стефана началось великое гонение на христиан, которое возглавил Павел; и несчастных во множестве бросали в темницы или отдавали на суд религиозных властей.
Центром этого преследования был Иерусалим, и христиане, покинув его, рассеялись по разным местам, унося с собой новое учение – кроме апостолов, оставшихся в Иерусалиме (Деян.8:1) Почему они остались, Лука точно не говорит. Вероятно, апостолы сочли, что их отказ спасаться от гонений бегством из Иерусалима послужит укреплению новой церкви. Какими бы мотивами они ни руководствовались, их готовность умереть проявляется здесь с особой очевидностью.
Из тех, кто утверждал, что своими глазами видел воскресшего Христа, некоторые, вне всякого сомнения, действительно приняли смерть за свое свидетельство. Три акта мученичества, имеющие наиболее убедительные подтверждения, мы рассмотрим ниже. Сведения об остальных восходят к преданиям, историческую достоверность которых оценить трудно, и известны нам из памятников, которые содержат большие странности и явные попытки приукрасить действительность. Наконец, апостол Иоанн, по общему мнению, не был замучен, но умер естественной смертью в старости. Поэтому мы сосредоточим здесь свое внимание на готовности многочисленных свидетелей воскресения принять смерть – факте, который сам по себе обладает большой доказательной силой. Речь у нас идет не просто о том, что эти люди изменили свой образ жизни и вынесли великие тяготы во имя собственных убеждений. Ведь в тот момент большая часть подобных невзгод и лишений – связанных, например, с миссионерским трудом, которому иные из них посвятили себя в далеких краях – была еще впереди. Суть дела не в этом, а в том, что они, выражаясь предельно просто и ясно, с самого начала знали, что им, скорее всего, придется умереть, но ничего не изменили в своих свидетельствах перед лицом этого более чем вероятного исхода. Ибо каждый из них, независимо от того, был он в конце концов убит или нет, пережил момент истины очень рано, еще в Иерусалиме. В одном из рассказов о мученической смерти уже престарелого Андрея сообщается, что когда ему стали грозить распятием, он ответил: «Если бы я страшился смерти на кресте, то не проповедовал бы величие и славу креста Христова». Слова Андрея, независимо от того, насколько точно они воспроизведены в данном фрагменте, раскрывают для нас ключевой факт: как и прочие свидетели воскресения, Андрей задолго до своего фактического мученичества ясно сознавал реальную перспективу ужасной смерти, но продолжал, невзирая на нее, делать свое дело.
К такому же выводу склоняют нас и два других события. Около 41 года н. э. Ирод Агриппа арестовал и казнил Иакова Зеведеева, апостола и одного из главных руководителей церкви. Тогда же примерно он схватил Петра (затем, как предполагается, освобожденного чудесным вмешательством) – и Петр таким образом получил еще одно недвусмысленное предупреждение относительно вероятного финала своей деятельности (см. Wenham 1992, рр. 146–147).
Для тех христиан, которым удалось спастись от первого гонения со стороны иудеев, несколько лет спустя возникла новая угроза. Вполне возможно, что Нерон не был с самого начала настроен против христиан враждебно. В первое время римляне склонны были считать христианство иудейской сектой, а в антихристианской ярости иудеев и в возникших отсюда беспорядках видеть лишь религиозные перебранки внутри иудаизма (см., напр. Деян.18:14–15). После обращения Павла римляне даже защищали его от евреев, хотя это могло быть во многом обусловлено римским гражданством Павла и тем обстоятельством, что Павел, как римский гражданин, воспользовался правом апелляции к императору (Деян.23). Возможно даже, что именно Нерону Павел был обязан своим освобождением после первого ареста римлянами; впрочем, пока это лишь предположение (Maier 1997, рр. 329330). Но в 64 году все круто изменилось. После известных событий Нерон решил отвлечь всеобщее внимание от слухов о его собственной ответственности за пожар Рима и начал жестокое преследование христиан. И теперь уже все апостолы, остававшиеся на территориях, подвластных римскому правительству, а особенно Петр и Иоанн, должны были всерьез считаться с возможностью казни их римлянами.
Преследования, организованные Нероном, имели в то время, по-видимому, локальный характер. Тем не менее всякий, кто не был римским гражданином, отныне мог быть арестован и казнен по обвинению в принадлежности к христианам. Чтобы дело кончилось именно этим, принятия специального закона против христиан не требовалось, ибо магистраты уже обладали весьма широкими полномочиями по отношению к негражданам. К этому времени римские власти – на свой манер религиозные консерваторы – уже начали смотреть на христианство с подозрением, как на «суеверие», или, как сказали бы мы, «секту». Теперь, когда стало ясно, что христианство – это не просто ветвь иудаизма, в нем увидели отказ от традиционного почитания римских богов; сделанное же здесь для иудеев исключение на христиан не распространялось. А за упорную приверженность подобной секте и в самом деле могли приговорить к смерти, что и происходило во многих случаях. В своем знаменитом письме к Траяну (ок. 113 г.) Плиний Младший сообщает, что он приговаривает неграждан к смерти уже за то, что они, невзирая на его угрозы, упрямо продолжают называть себя христианами. Их, однако, могли бы простить, если бы они отреклись от христианства, принесли жертвы римским богам и похулили Иисуса. Траян же в своем ответе хвалит образ действий Плиния. Хотя эта переписка имела место после Нероновых гонений и казней апостолов, упомянутыми в ней полномочиями магистраты почти наверняка обладали и до этих событий, а практика помилования в обмен на вероотступничество вполне могла применяться в предшествующий период по отношению к лицам, открыто объявлявшим, что они больше не христиане (Barnes 1968, рр. 36–37). Следовательно, мы можем с уверенностью утверждать, что после 64 года н. э. для остававшихся в живых апостолов существовал еще один источник угрозы – римское правительство, от которого за свою несгибаемую верность свидетельству об Иисусе они могли ожидать мучительной казни в той или иной форме.
И некоторые, так или иначе, действительно умерли за свое свидетельство. Один из надежнее всего подтвержденных примеров такого рода – Иаков бар Зеведей, о котором мы уже упоминали. По-видимому, его смерть была первым случаем мученичества апостола. Она авторитетно зафиксирована в Деян.12, и нет серьезных оснований сомневаться в ней как в историческом факте. Автор Деяний не сообщает здесь особых подробностей, указывая лишь, что Ирод «убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Ожидал ли Иаков смерти именно от рук Ирода (который таким образом явно пытался угодить иудейским начальникам), сказать трудно, однако уже приведенные факты свидетельствуют, что в тот исторический момент мученическая смерть не стала бы неожиданностью ни для кого из апостолов.
Следующим по времени из надежнее всего засвидетельствованных случаев мученичества стала смерть другого Иакова, не апостола, но того, который, несомненно, утверждал, что своими глазами видел воскресшего Иисуса – Иакова Праведного, часто называемого братом Иисуса. Он – наш тринадцатый свидетель, а его обращение имело, судя по всему, индивидуальный характер и не зависело от опыта двенадцати апостолов. Сказанное в Евангелиях позволяет заключить, что он не был последователем Иисуса при Его жизни и даже сожалел о том, что своими проповедями и исцелениями Иисус приводит в замешательство собственное семейство (Мк.3:21, 31, ср. Ин.8:5). Но ко времени событий, описанных в Деян.12:17 (ок. 41 г. н. э.) и еще более явным образом в Деян.15 (Иерусалимский собор, вероятно, ок. 49 г. н. э.), он уже превратился в одного из видных руководителей новой церкви. Объяснение этому дает Павел, когда перечисляет тех, кто видел Иисуса после воскресения: «Потом явился Иакову, также всем апостолам...» (1Кор.15:5). Данный факт, похоже, отмечен здесь как явление Иисуса отдельному лицу, а рассказы о самых первых явлениях Иисуса тем, кто уже был Его учениками, указывают, по-видимому, на то, что, по крайней мере, в нескольких случаях никто из «посторонних» не присутствовал. Судя по всему, Иаков выдвигается здесь на первый план как присоединившийся к делу брата под влиянием пережитого им самим.
Ранний рассказ (ок. 93 г. н. э.) о смерти Иакова мы находим у Иосифа Флавия, который говорит, что его побили камнями (Иудейские древности, 20.9.1). Сообщение Иосифа Флавия в значительной степени согласуется с данными позднейшего церковного историка Егезиппа, писавшего в середине второго века. Оба довольно точно датируют это событие временем смерти Феста, наместника Иудеи, что позволяет отнести его к 62 году н. э. Оба согласны, что оно произошло тогда, когда для этого открылось «окно возможностей»: новый наместник Альбин был уже назначен, но еще не успел прибыть в Иудею и взять в свои руки управление. Рассказ Егезиппа более обстоятелен, и в нем Иаков гибнет, строго говоря, вследствие не одного лишь побивания камнями. Согласно Егезиппу, Иаков пользовался огромным уважением у евреев-нехристиан, прежде всего благодаря своим аскетическим подвигам и многочасовым молитвам. Он был широко известен как «Праведный», и его свидетельство об Иисусе как о Спасителе привело к обращению в христианство многих иудейских начальников. И вот, когда после смерти Феста область осталась на короткое время без наместника, иудейские власти решили, что с Иаковом пора что-то делать:
Все вместе пошли к Иакову и сказали ему: «Просим тебя, удержи народ: он заблуждается, думая, что Иисус и есть Христос. Просим тебя: вразуми всех, кто придет в день Пасхи, относительно Иисуса; тебе мы все доверяем. Мы и весь народ свидетельствуем о тебе, что ты праведен и не взираешь на лица... Стань на крыло храма, чтобы тебя видели...» Упомянутые книжники и фарисеи поставили Иакова на крыло храма и закричали: «Праведный! Мы все обязаны тебе доверять. Народ в заблуждении об Иисусе распятом; объяви нам, что это за “дверь Иисуса”?». И ответил он громким голосом: «Что спрашиваете меня о Сыне Человеческом? Он восседает на небе одесную Великой Силы и придет на облаках небесных»... Тогда книжники и фарисеи стали говорить друг другу: «Худо мы сделали, позволив дать такое свидетельство об Иисусе. Поднимемся и сбросим его, чтобы устрашились и не поверили ему»... Они поднялись и сбросили праведника. И говорили друг другу: «Побьем камнями Иакова Праведного», и стали бросать в него камни, так как, сброшенный вниз, он не умер... Кто-то из них, какой-то суконщик, ударил праведника по голове скалкой, употребляемой в его деле. Иаков мученически скончался... (цит. у Евсевия 2.23, Maier 1999, рр. 81–83).
Подобное сочетание лести и угрозы заслуживает особого внимания. Кажется вполне очевидным, что (если этот рассказ в основе своей точен) иудейские власти рассчитывали нанести удар всей секте христиан, добившись публичного отречения от столь уважаемого вождя. Поставить Иакова на возвышение, с которого затем его можно было сбросить вниз, означало явную попытку принуждения, и Иаков не мог не понимать, какая его ждет судьба, если он не даст желаемого ответа. В рассказе Иосифа Флавия первосвященник Анан «предал» Иакова на побивание камнями. В целом эти версии не противоречат друг другу, особенно если учесть, что отречение Иакова оказалось бы еще более полезным для удушения христианства, чем побивание его камнями в качестве примерного наказания. Не исключено, что Анан предал Иакова в руки других еврейских начальников, и те сделали последнюю попытку вырвать у него публичное отречение от Иисуса в обмен на жизнь. Хотя такая гипотеза и противоречит выводу, который как будто вытекает из версии Егезиппа, а именно что сцена эта представляла собой импровизацию книжников и фарисеев, скорее всего, как раз Иосиф Флавий точно описал реальное участие в этом деле первосвященника Анана. Согласно Иосифу Флавию, впоследствии Анан был лишен первосвященнического сана за то, что превысил власть, созвав без разрешения синедрион (который осудил Иакова на смерть).
Факт мученичества Петра также вполне надежно подтверждается, хотя его подробности – например, способ казни – удостоверены не настолько убедительно, как в двух предыдущих случаях свидетельства. Климент Римский, писавший не позднее 96 года н. э„ говорит, что Петр и Павел «боролись до смерти» и представили «доказательство» (μαρτυρήσας; иногда переводится как «свидетельство» или даже «подтверждение мученичеством») собственной веры. Он ссылается на их пример, когда ведет речь о героях веры (примерно так же, как Павел в Евр.11), чтобы побудить своих слушателей выказать подобное же терпение и стойкость перед лицом страданий и смерти. Следующее подтверждение мученичества Петра принадлежит автору середины II века Гаю, который сообщает, что памятники, или «трофеи», апостолов Петра и Павла можно найти, соответственно, в Ватикане и на Остийской дороге. Именно там традиция локализует мученичество Петра и Павла, а из сообщения Гая явствует, что памятники их смерти существовали в тех местах с древних времен. Сады Нерона и ипподром, где в период Нероновых гонений истязали и убивали христиан, находились как раз в Ватиканской долине за Тибром.
Последний из знаменательных фактов, которого мы здесь коснемся, – это обращение Павла. Ни историческая реальность Павла, ни факт его внезапного обращения не внушают сколько-нибудь серьезных сомнений большинству историков, включая даже тех, кто к самому христианству относится скептически (Habermas 2005, рр. 142–143, 151–152; 2006а, рр. 189–191). Подробности Павлова обращения вместе с описанием того, во что он затем уверовал, служат доводом в пользу христианства и воскресения. Здесь же нам следует объяснить факты, не заключающие в себе ничего чудесного: Савл из Тарса, впоследствии, уже как христианин, известный под именем Павла, был учеником того самого Гамалиила, который советовал оставить христиан в покое. Однако, в отличие от своего наставника, Савл оказался фанатичным гонителем новой секты. Как долго продолжал он преследовать христиан после побивания камнями Стефана, мы точно не знаем, но, всего вероятнее – меньше года. На пути в Дамаск (где он собирался арестовать последователей Иисуса) Савл пережил какой-то необыкновенный, потрясающий опыт и на время ослеп. По прибытии в Дамаск он постился несколько дней в уединении, после чего к нему явился человек по имени Анания – один из тех самых христиан, которых Савл намерен был подвергнуть гонению. К Савлу вернулось зрение, он принял крещение, присоединившись таким образом к последователям Иисуса – и сразу же стал спорить в синагогах Дамаска с иудеями, защищая верования христиан (Деян.9).
В качестве объяснения этого глубочайшего духовного переворота Павел, очевидно, приводил известный рассказ об «аудио-визуальном» опыте, который имел он на дороге в Дамаск. По словам Павла, он увидел яркий свет, узрел Иисуса (1Кор.15:8) и говорил с Ним. Иисус, согласно рассказу Павла, спросил, зачем он Его гонит, после чего велел ему идти в Дамаск и ждать дальнейших приказаний. В Деяниях также утверждается, что описанное видение имело и определенный интерсубъективный аспект – спутники Савла слышали голос, но никого не видели; мы, однако, не будем здесь придавать значения опыту его спутников.
Павлова проповедь после обращения также совершенно недвусмысленна; к тому же мы располагаем многими посланиями Павла, в которых содержится масса сведений о его богословском учении. Впрочем, его новые убеждения резюмированы в раннем варианте символа веры из 1Кор.15:
Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати... а после всех явился и мне, как некоему извергу (1Кор.15:3–8)367.
В новых верованиях Павла очевиден и ярко выраженный иудейский элемент. Павел с особым усердием доказывал, что Иисус есть тот самый Мессия, чье пришествие было уже давно предречено в Писаниях, и при всяком удобном случае защищал это положение в спорах с другими иудеями (напр. Деян.9:22, 13:16 и далее).
Таким образом, утверждая, что он видел Иисуса и разговаривал с Ним на дороге в Дамаск, Павел хотел сказать, что он видел именно Мессию, умершего и воскресшего. Согласно же самим апостолам, ко времени обращения Павла Иисус уже вознесся на небеса и материально на земле не присутствовал. Отсюда, вероятно, можно сделать следующий вывод: Павел утверждал, что в каком-то смысле видел Иисуса «на небесах», а не на земле, как остальные ученики. Как бы то ни было, Павел, несомненно, полагал, что ему довелось увидеть того самого, кто воскрес из мертвых. Непосредственно пережитое Павлом – если за субъективным опытом его сознания стояли реальные события – можно описать так: Павел видел того Иисуса, которого проповедовали Петр и другие апостолы, иначе говоря, Иисуса умершего и восставшего из мертвых.
Вероятностные аргументы кумулятивного характера: их природа и структура
«Убедительность любого сложного аргумента, – отмечает Джордж Кампбелл, – во многом зависит от того порядка, в котором выстраиваются существенные обстоятельства, и от способа их подачи» (Campbell 1839, р. ііі). Аргументы кумулятивного типа, то есть основанные на совокупном действии целого ряда доводов, бывает особенно трудно оценить, и прежде чем переходить к демонстрации в вероятностных терминах доказательной силы только что приведенных фактов, нам следует проанализировать общую природу подобных аргументов и объяснить, какую конкретно форму примет в дальнейшем наш аргумент.
Подобные аргументы, что естественно, всегда опираются на многочисленные детали и для полного понимания часто требуют большего, чем беглое знакомство с целым рядом научных дисциплин. Кроме того, здесь обнаруживается трудность чисто познавательного характера, связанная с правильной оценкой доказательной силы тех или иных элементов аргументации по отношению к отдельным положениям, ведь мы бываем склонны концентрировать все свое внимание лишь на нескольких доводах, игнорируя все остальные. Наконец, отдельные элементы доказательства следует не только анализировать сами по себе, но и координировать между собой, иначе говоря, рассматривать их в связи с другими доводами. А для подобной координации требуется здравое суждение.
Байесовская модель, хотя она и не способна решить все эти проблемы, позволяет нам подходить к каждой из них на основе определенных принципов. Она позволяет установить и включить в единую систему максимально возможное количество релевантных фактов. Она дает нам средство выразить значимость этих фактов, взятых по отдельности, и определить их суммарную доказательную силу, исходя из упрощающего допущения их взаимной независимости. Она же служит для нас руководящим принципом при оценке нашего доказательства в том случае, если это упрощающее допущение оказывается необоснованным. Построенная ниже аргументация проиллюстрирует все эти характерные особенности байесовского подхода.
Чтобы понять, как работает кумулятивное доказательство, нам нужно для начала найти удобный способ выражения значимости любого конкретного довода по отношению к любой конкретной гипотезе. В настоящем случае речь идет о следующей гипотезе:
R: Иисус из Назарета чудесным образом воскрес из мертвых.
Рассматривая любой факт F, имеющий (в положительном или отрицательном смысле) отношение к R, мы задаем два вопроса: насколько вероятен F, если предположить истинность R? И насколько вероятен F при допущении ложности R? Ответы на эти вопросы можно выразить в форме условных вероятностей, и чрезвычайно удобным для нас оказывается анализ их отношения:
P(F|R) P(F|~R)
Если допустить, что и числитель, и знаменатель определены и не равняются нулю, то эта дробь, иногда именуемая фактором Байеса, может принять любое реальное значение от нуля до бесконечности. Если рассматриваемые здесь условные вероятности могут принимать значения в пределах некоторых интервалов, то мы можем установить верхние и нижние границы для возможных значений дроби.
В байесовском анализе использование фактора Байеса дает весьма удобный способ выражения значимости конкретного факта F для R. Там, где все соответствующие термины определены и знаменатели не равны нулю, мы получаем из теоремы Байеса простое следствие:
| h6C P(R|F) | h6C = | h6C P(R) | h6C × | h6C P(F|R) |
| h6C P(~R|F) | h6C P(~R) | h6C P(F|~R) |
Выражаясь обычными словами, можно сказать, что апостериорный шанс R (то есть отношение апостериорной вероятности R к апостериорной вероятности его отрицания) равен произведению априорного шанса на фактор Байеса. Или, еще более простым языком: R становится более правдоподобным, когда мы принимаем в расчет такой факт F, которого следует ожидать скорее при истинности, чем при ложности R.
Изложенное выше учитывает какой-то один факт. Если же мы используем шансовую форму теоремы Байеса для фактов F1, F2, ..., Fn и будем исходить из допущения их независимости, то получим следующее уравнение:
| h6C P(R|F1&...&Fn) | h6C = | h6C P(R) | h6C × | h6C P(F1|R) | h6C ×…× | h6C P(Fn|R) |
| h6C ρ(~R|F1 &...& Fn) | h6C P(~R) | h6C P(F1|~R) | h6C P(Fn|~R) |
В словесном выражении это означает: отношение апостериорных вероятностей равно произведению отношения их априорных вероятностей и факторов Байеса для каждого отдельного довода. Именно в произведении этих факторов Байеса выражается совокупная доказательная сила ряда фактов F1 & ... & Fn. Если в каждом из факторов числитель несколько превосходит знаменатель, то совокупная доказательная сила значительного числа этих факторов окажется огромной.
Предыдущее уравнение верно лишь при допущении, что каждый факт как при условии R, так и –R, вероятностно независим от всех прочих фактов. Данное допущение позволяет упростить вычисления, и в некоторых случаях оно вполне оправданно. Там же, где оно оказывается необоснованным, можно воспользоваться более общей формулой368.
Если R получает высокую степень подтверждения всеми фактами при допущении их взаимной независимости и если мы можем показать, что допущение независимости не завышает силу кумулятивной аргументации в пользу R, то было бы целесообразно просто вычислить доказательную силу этих фактов при допущении их независимости, а затем показать, что принятие в расчет зависимости между ними лишь усилит данную аргументацию. Мы еще вернемся к этому вопросу при разборе той части аргумента, где предположение независимости оказывается, по всей видимости, неоправданным.
Использование математических методов может создать впечатление, будто мы имеем здесь дело с чем-то таинственным. В действительности же математика – не более чем средство приведения в полную ясность весьма распространенного процесса рассуждения, удачно описанного еще Батлером:
Об истинности нашей религии, как и об истине в вещах самых обыкновенных, надлежит судить на основе всех имеющихся у нас данных в их целокупности. И если нельзя на разумных основаниях предполагать, что весь ряд фактов, которые можно привести в качестве доводов в настоящей аргументации, равно как и каждый отдельный факт в этой цепи, представляет собой результат случайности (ибо именно здесь лежит центр тяжести аргументации в пользу христианства), то истинность христианства следует считать доказанной – точно так же, как это происходит в любом обычном, нерелигиозном, вопросе, когда многочисленные общепризнанные события приводятся в доказательство какого-то другого, оспариваемого, события; ведь реальность этого оспариваемого события была бы доказана не только тогда, когда она прямо вытекала бы из любого общепризнанного события, но и в том случае, если бы все общепризнанные события в их целокупности можно было разумно объяснить лишь при условии реальности события оспариваемого, пусть даже ни одно общепризнанное событие, взятое само по себе, и не предполагало бы ее с полной очевидностью (Butler 1890, р. 261).
Термин «доказанный» Батлер употребляет здесь в старом значении, относящемся к вероятным доказательствам, но в целом его рассуждение вполне убедительно. Если мы можем легко объяснить данные факты, предположив R, но оказываемся не способны это сделать сколько-нибудь правдоподобно при допущении ~R, то сами эти факты служат веским доводом в пользу R.
Чтобы верно понять мысль Батлера, нам следует остерегаться одного с виду правдоподобного, но по сути ошибочного вывода. Может показаться, что в ходе анализа доказательств кумулятивного типа с помощью факторов Байеса мы делаем акцент на вероятностях таким образом, что изобретение любой частной гипотезы, которая, предполагая ~R, увеличивает при этом вероятность какого-то отдельного факта (по нашему мнению, доказывающего R), непременно укрепит позиции сторонника ~R, позволив ему с большей убедительностью возражать на доводы в пользу R. Но если вспомогательная гипотеза На чрезвычайно неправдоподобна при ~R, то ее вклад в объяснение факта F оказывается ничтожным, даже если вероятность самого этого факта довольно высока. Предположим, например, что На действительно гарантирует F при ~R (таким образом, P(F|~R & На) = 1), однако сама На при допущении ~R выглядит совершенно неправдоподобно (скажем, P(Ha|~R) = 0,000001). Легко показать, что На окажет лишь самое незначительное реальное влияние на общее правдоподобие P(F|~R), то есть на то правдоподобие, которое имеет значение для фактора Байеса. P(F|~R) ≥ 0,000001 – вот и все, что узнаем мы из этих условий. Если P(F|R) сопоставимо с P(Ha|~R), то даже это небольшое изменение может существенно отразиться на доказательной силе аргументации. Но если P(F|R) ≫ P(Ha|~R), тогда тот простой факт, что P(F|~R & На) = 1, не повлияет сколько-нибудь заметно на фактор Байеса. Попытка дополнить ~R какой-то вопиюще неправдоподобной гипотезой На ради объяснения F – стратегия совершенно безнадежная, если R обеспечивает хотя бы умеренно высокую вероятность F.
В нашей ситуации легко сделать и другое ложное предположение, а именно: разрабатывая подобного рода вероятностное доказательство в пользу R, мы обязаны ограничиваться теми частными гипотезами, допускающими ~R, которые пытаются каким-то образом объяснить соответствующие факты. Скажем, чтобы уяснить себе, как скептики могли бы попытаться истолковать те или иные известные нам факты, мы должны будем вести речь о таких версиях, как галлюцинация, сговор и «не та» гробница. Естественно, в процессе защиты R немалую часть времени займут у нас ответы на подобные теории. Отсюда, однако, не следует, будто именно такими претендующими на объяснение частными гипотезами главным образом и исчерпывается то пространство вероятностей, которое открывается при допущении ~R. На самом деле, если уж вести речь о том, чего следовало бы ожидать при условии ~R, большую часть пространства вероятностей при таком предположении мы должны отвести иному ожиданию – ожиданию того, что после смерти Иисуса вообще не случилось бы ничего особенного – ни галлюцинаций у Его учеников, ни видений, ни сговоров, а все по-прежнему шло бы своим чередом и события развивались бы совершенно естественным образом. Конечно, скептик будет решительно утверждать, что по своей априорной вероятности ~R намного превосходит R, и данную проблему – проблему априорных вероятностей – мы еще обсудим. Но ведь и отрицание всех фактов, принимаемых в качестве доказательств, также имело бы куда более высокую априорную вероятность, чем сами эти факты. Верно, что многие люди умирают и не воскресают. Более того, многие умирают, но никто не думает, что они воскресли, и не имеет ни малейших оснований верить в их воскресение. Мы уже не раз утверждали, что априорная вероятность различных объяснительных гипотез, исходящих из ~R, довольно мала, и читатель вправе спросить, какая же гипотеза господствует в том пространстве вероятностей, которое открывает нам ~R. Ответ таков: большая часть этого пространства принадлежит гипотезе общего характера, согласно которой Иисус умер, и после Его смерти события шли обычным порядком – но ведь эта гипотеза не объясняет и даже не претендует на объяснение тех фактов, с помощью которых мы доказываем R. В итоге мы получаем чрезвычайно высокий совокупный фактор Байеса, свидетельствующий в пользу R.
Теперь, когда мы переходим от общих соображений относительно эпистемологической природы доказательств кумулятивного типа к анализу перечисленных выше ключевых фактов, целесообразно будет сначала рассмотреть значимость каждого факта – элемента нашей аргументации независимо от других фактов, а затем смоделировать кумулятивное доказательство, исходя из допущения их независимости. Пусть W, D и Р означают, соответственно, сообщения женщин о пустой гробнице и о воскресшем Христе, свидетельства учеников и обращение Павла. Тогда мы могли бы – в первом приближении – объединить эти доводы следующим образом:
| h6C P(R|F1&...&Fn) | h6C = | h6C P(R) | h6C × | h6C P(W|R) | h6C × | h6C P(D|R) | h6C × | h6C P(P|R) |
| h6C P(~R|F1&...&Fn) | h6C P(~R) | h6C P(W|~R) | h6C P(D|~R) | h6C P(P|~R) |
Произведение трех последних членов – байесовских факторов, соответственно, для W, D и Р – позволит определить влияние этих фактов-свидетельств на вероятность R при допущении их взаимной независимости.
Свидетельства женщин: анализ фактора Байеса
Если воскресение действительно произошло, то объяснить W совсем не трудно. Смятение женщин, страстное желание Марии Магдалины поскорее сообщить о случившемся ученикам и даже расхождения в деталях отдельных рассказов на фоне полного согласия рассказчиков в описании важнейшего факта – все это как нельзя лучше становится на свои места при допущении реальности R.
А значит, нам следует задаться вопросом: а что вообще могло бы послужить причиной появления подобных рассказов, если бы Иисус не восстал из мертвых? С самого начала мы вправе отвергнуть предположение, что вся эта история объяснялась единственно лишь замешательством и путаницей. Пустая гробница и возлюбленный равви – объекты, легко доступные чувственному восприятию. Мы можем также отклонить предположение, что женщины сами все выдумали – из-за его предельно низкой априорной вероятности. Как женщины, они едва ли могли составить план распространения чего-то такого, что, как они сами понимали, является ложью, ибо они не могли не знать, что в тогдашнем еврейском обществе их свидетельства непременно будут поставлены под сомнение или отвергнуты – и действительно, именно так и встретили их слова даже сами последователи Иисуса (Лк 24:11). Как мотивы, так и возможности для преднамеренного обмана здесь напрочь отсутствуют, а значит, данное предположение никуда не годится.
Ненамного лучше обстоит дело с гипотезами о галлюцинации. Поскольку сами женщины ни ожидали воскресения – отправившись рано утром к гробнице, они лишь собирались помазать мертвое тело, – то и никаких предпосылок, делавших галлюцинацию сколько-нибудь вероятной, в данной ситуации не существовало. Лука, по-видимому, беседовавший с некоторыми из этих женщин, сообщает, что, обнаружив пустую гробницу, они сами были ошеломлены (Лк.24:4). Это подтверждается и тем поразительным фактом, что Мария Магдалина поначалу не узнала Иисуса (Ин.20:15). Наконец, любая галлюцинация должна была бы охватить целую группу, и в данном случае речь идет, судя по всему, как минимум о пяти женщинах. Априорная вероятность групповой галлюцинации при таких обстоятельствах ничтожно мала – в том смысле, что она, хотя и не равняется, строго говоря, нулю, остается чрезвычайно далекой от величины P(W|R), а следовательно, не может сколько-нибудь заметно повлиять на убедительность заключения от W к R.
Сто лет тому назад Кирсопп Лейк предположил, что женщины в полутьме попросту пришли не к той гробнице (Lake 1907, рр. 250–253). Априорная вероятность того, что вся группа попала не туда, куда нужно, также мала, ведь, согласно Луке, они уже видели это место накануне субботы (Лк 23:55–56). Действительно, данная гипотеза легко объясняет их сообщение о пустой гробнице, так как, в соответствии с данной гипотезой, гробница, к которой пришли женщины, и вправду была пустой. Однако во всем, что выходит за пределы этого частного момента, гипотеза «не той гробницы» терпит решительный крах, ибо она не способна объяснить ни остальных подробностей в рассказах женщин, ни их заявления о том, что они видели воскресшего Иисуса, ни того, почему же апостолы не направили их к нужной гробнице, а иудейские власти не внесли ясность в эту историю.
Более остроумной попыткой объяснить эту часть фактов в W оказывается следующее предположение: Иосиф Аримафейский просто на время положил тело Иисуса в свою гробницу, а затем, по окончании дня субботы, перенес его ночью на кладбище для осужденных, где и захоронил, – в результате, сам того не желая, он позволил женщинам в воскресенье утром обнаружить пустую гробницу. Проблемы, порождаемые этой гипотезой трудно преувеличить. Во-первых, нелегко взять в толк, почему Иосиф Аримафейский озаботился судьбой Иисусова тела настолько, что отвел для него, сразу же после смерти Иисуса, собственную новую гробницу, но по завершении дня субботы вдруг пожелал удалить его оттуда как можно скорее. Иосиф Клаузнер, один из первых сторонников данной теории, просто заявляет: «Мы должны предположить, что хозяин гробницы, Иосиф Аримафейский, счел неподобающим, чтобы тело распятого на кресте человека оставалось в его наследственной гробнице» (Klausner 1925, р. 357).
Джеффри Лаудер, позднейший защитник этой теории, по-видимому, хочет сказать (вопреки Мф 27:57), что Иисус Аримафейский был вовсе не последователем Иисуса, а верным членом синедриона и (очевидно) одобрил распятие Иисуса – в свою же собственную гробницу он решил положить Его тело главным образом потому, что она находилась рядом с Голгофой, а сам он не желал, чтобы тело оставалось непогребенным в продолжение субботы (Lowder 2005, рр. 267–269). Версия о готовности Иосифа предоставить собственную родовую гробницу тому, кого он презирал и преследовал, кажется особенно неправдоподобной.
Интерпретируя роль Иосифа Аримафейского, данная теория дает нам прямо-таки вопиющий пример объяснения ad hoc. Опираясь на евангельские тексты, она признает его существование – чтобы было кому приписать перенос тела из гробницы, – но совершенно извращает его мотивы и общую позицию, дополняя все это ничем не обоснованным утверждением, что Иосиф Аримафейский действительно перенес тело после того, как сам же заботливо похоронил его в собственной гробнице. Вдобавок, у нас есть основания полагать, что перенос, как в случае с телом Иисуса, уже погребенного тела противоречил бы раввинистической традиции (Талмуд, Семахот IV.7, XIII.6, XIII.7)369.
Лаудер предлагает совершенно неубедительное объяснение того, почему его «Иосиф» прямо обо всем не рассказал после того, как ученики стали открыто заявлять о воскресении Иисуса: Иосиф-де считал, что ко дню Пятидесятницы, когда ученики начали проповедовать воскресение Иисуса, ему уже не было нужды сообщать то, что он знал, ибо к этому времени тело стало неузнаваемым (Lowder 2005, рр. 288–290). Независимо от истинности или ложности этого последнего юридического тезиса, нелепо утверждать, что заявление Иосифа не имело бы никакого смысла, ведь он, как уважаемый член еврейского общества, мог бы дать авторитетные показания о том, что он сам перенес тело Иисуса и точно знает, где оно теперь находится; наконец, он мог бы продемонстрировать, что способен предъявить тело распятого. Если бы Иосиф враждебно относился к Иисусу и Его последователям, то наверняка предпринял бы какую-нибудь попытку в этом роде, чтобы разоблачить их проповедь о воскресении. А если бы он являлся последователем Иисуса, то у него не было бы ни малейших оснований скрывать свои действия, предоставляя таким образом другим ученикам распространять ложь и умирать за нее.
Наконец, эта теория совершенно не в силах объяснить утверждения женщин о том, что они действительно видели Иисуса.
Этими – чрезвычайно неубедительными – гипотезами исчерпываются все имеющие хотя бы малую долю правдоподобия способы объяснить, без признания факта воскресения, свидетельства женщин, о которых сообщают нам Евангелия. Если воскресения не произошло, тело не переносили, женщины не ошиблись с гробницей, а их органы чувств функционировали нормально, то всю эту историю они выдумали (обман); следовательно, если воскресения не было, то либо они сами все придумали (обман), либо их органы чувств не функционировали нормально (галлюцинация), либо тело не переносили, либо они пришли не к той гробнице. Но ни одна из этих альтернативных гипотез не обладает одновременно достаточным внутренним правдоподобием и необходимой объяснительной силой, чтобы составить хоть какую-то конкуренцию R в объяснении W.
Следовательно, при любой разумной интерпретации у нас оказывается гораздо больше оснований ожидать W при допущении R, нежели при допущении ~R. С учетом изложенных в начале статьи текстуальных предпосылок нам представляется, что величина 100 может служить оценкой для фактора P(W|R)/P(W|~R) с большим запасом. Как мы указали выше, алгоритма для подобных вещей не существует, и если кому-то угодно будет заявить, что предшествующие соображения не служат сильным аргументом в пользу R, то мы, конечно, выразим сожаление по поводу такого суждения, но отнестись к данному возражению как к следствию простой ошибки в расчетах уже не сможем. А значит, ввиду вопиющего неправдоподобия всех предлагавшихся до сих пор натуралистических объяснений, тот, кто не сочтет W убедительным доводом в пользу R, будет просто обязан обстоятельно нам растолковать, почему же не следует думать, что P(W|R) по крайней мере на несколько порядков превосходит P(W|~R).
Свидетельство учеников: анализ фактора Байеса
Второй подлежащий оценке факт – это свидетельство учеников о том, что они видели воскресшего Иисуса, и их готовность умереть за это свидетельство – свидетельство, которому непосредственно предшествовала деморализация учеников после распятия Иисуса. Сам предмет обсуждения здесь несколько иной, чем в случае с женщинами у гробницы, ведь нам нужно будет уделить внимание не только рассказам учеников об их встречах с воскресшим Христом, но и внезапной перемене в их взглядах, неожиданной смелости их действий, а также их готовности умереть в подтверждение того, чему, по их словам, они стали свидетелями.
Согласно одной гипотезе, на которой нам нет нужды долго останавливаться, ученики сами не верили тому, что во всеуслышание провозглашали, и были самыми настоящими мошенниками, участниками заранее подготовленного хитрого сговора. К той же категории, что и данная гипотеза, принадлежит еще одно утверждение: сами ученики – или некоторые из них – и выкрали тело; судя по Мф.28:13–5, такое обвинение появилось довольно рано. Вершины своей популярности гипотеза сговора достигла в начале XVIII века, но с тех пор у нее было немного сторонников. И объясняется это не только социальными причинами: ведь в пользу самой гипотезы так и не нашлось особенно убедительных аргументов. Априорная вероятность подобного сговора, с учетом реальной исторической обстановки, не слишком велика. Трудно понять, какой же мотив мог бы побудить учеников составить сговор с целью убедить других людей в том, что Иисус восстал из мертвых. Когда они только начали учить о воскресении Иисуса и распространять весть о прощении грехов Его именем – то есть еще до прямых предостережений со стороны синедриона – они отлично понимали, что подобная проповедь едва ли принесет им власть в обществе (исключая возможное влияние в пределах небольшой – и ненавистной для окружающих – секты), сексуальные удовольствия, богатство или что-либо другое, представляющее ценность для людей беспринципных, но, скорее, повлечет за собой гонения и смерть. Именно поэтому, пережив страшное потрясение, каким стало для них распятие Иисуса, они и пытались затаиться. Все, чего они тогда хотели, это оставаться вне поля зрения иудейских религиозных властей и римлян, и подобный образ действий с их стороны был вполне разумным.
Но уже описанные предварительные проблемы – это лишь малая часть затруднений, связанных с данной гипотезой. То обстоятельство, что подавляющее большинство ученых – как христиан, так и скептиков – признает искренность веры учеников в воскресение Иисуса, есть простое следствие крайне низкой объяснительной силы гипотезы сговора перед лицом известных фактов. Зачем, ради чего всем этим свидетелям было умирать или изъявлять готовность умереть за эмпирическое и, как они сами знали, ложное утверждение; утверждение, веру в которое они жульническим образом, прибегнув к краже, пытались внушить другим людям? Даже если поначалу они были настолько глупы, что всерьез полагали, будто из этой хитроумной аферы им удастся извлечь какую-то выгоду [скептик, пожалуй, сошлется здесь на тот факт, что первые христиане продавали свое имущество, а вырученные средства предоставляли в распоряжение апостолов (Деян.5)], впоследствии, как мы это документально продемонстрировали выше, они имели полную возможность одуматься и отречься, когда, в продолжение месяцев и даже лет, раз за разом получали неопровержимые доказательства того, что события развиваются отнюдь не в соответствии с их планом.
Ричард Кэрриер предпринял не слишком убедительную попытку обновить гипотезу кражи, предположив, что один или двое из последователей Иисуса выкрали Его тело, дабы внушить всем мысль, будто Господь Бог, хотя и допустивший Его распятие, теперь доказал правоту Его благого учения, взяв Его тело на небеса. По мнению Кэрриера, эти благочестивые воры и представить себе не могли, что когда-нибудь возникнет – и заживет собственной жизнью – теория о реальном воскресении Иисуса из мертвых; признаться же в содеянном им не позволил страх – страх стыда перед прочими учениками (Carrier 2005b, рр. 349–352). Кэрриер, однако, вынужден попросту отмахиваться от рассказов о явлениях Христа после воскресения и полностью игнорировать то обстоятельство, что его теория совершенно не способна их объяснить. А в дальнейшем, утверждая, будто «благочестивые» – те, для кого Иисус был «возлюбленным равви» – предпочли поверить в заговор иудеев (как в повествовании Матфея), лишь бы только не отказываться от своей веры в воскресение Иисуса, он просто игнорирует факт важнейшего основания для признания действительности воскресения – слова конкретных, поименно известных лиц, заявлявших, что восставшего из мертвых Иисуса они видели собственными глазами. Кэрриер лишь рассуждает о том, к каким мыслям, как ему самому представляется, должны были бы прийти в той ситуации благочестивые христиане (жившие, как он нас уверяет, в обществе «суеверном» и «неграмотном»), «коль скоро им уже внушили страстное желание уверовать в воскресение их любимого вождя» (Carrier 2005b, рр. 354–356). Это, конечно, ни в малейшей степени не объясняет известные нам реальные факты, которые заключаются отнюдь не в том, что преданным последователям Иисуса неким непостижимым и неопределенным образом было «внушено страстное желание» уверовать в Его воскресение, а в том, что многие из них действительно утверждали, что в течение 40 дней после Его воскресения они неоднократно видели Его, имевшего материальное тело, и общались с Ним, а также в том, что эти самые люди упорно и настойчиво повторяли данные утверждения и были готовы умереть за свои слова. Вероятность того, что подобное могло бы произойти, если бы имел место сговор, смехотворно мала – чем, несомненно, и объясняется относительная непопулярность гипотезы сговора даже среди скептически настроенных ученых.
Но что же в таком случае стало причиной твердой веры учеников в воскресение Иисуса? Могла ли их убежденность в том, что Иисус воскрес к жизни, быть следствием добросовестного заблуждения? Возможные натуралистические объяснения ограничиваются здесь примерно теми же узкими рамками, что и натуралистические объяснения свидетельств женщин у гробницы. Сторонники чисто натуралистических трактовок вынуждены апеллировать либо к каким-то внешним факторам, либо к внутреннему опыту. Первые, в качестве попытки истолкования фактов, дают довольно жалкие результаты. Теория «не той гробницы», уже подвергнутая обсуждению в ходе нашего анализа W, по самой своей сути крайне неправдоподобна, ведь она подразумевает, что буквально ни единый из последователей Иисуса даже не задался вопросом, правильно ли определена сама гробница; к тому же данная теория никак не объясняет убеждения учеников в том, что они видели воскресшего Господа370.
Выразим это в вероятностных терминах. Если Di – свидетельство одного из учеников, а X – дизъюнкция предлагаемых нам натуралистических теорий, то P(Di|~R & X) оказывается на несколько порядков меньше, чем P(Di|R), a P(X|~R) и само по себе чрезвычайно мало. Таким образом, вклад теорий внешнего фактора в общее правдоподобие P(D|~R) ничтожен и не заслуживает упоминания.
Поэтому потенциальный сторонник натуралистической трактовки вынужден искать объяснение внутреннего характера, некий личный опыт субъекта, причиной которого не было бы доступное объективному восприятию внешнее воздействие. Если же учесть то, что, по утверждению самих учеников, они восприняли в собственном опыте, а также то, что они вынесли после и ради непосредственно ими пережитого, то неопределенные указания на «энтузиазм» и «экзальтацию» делу не помогут. Если их вера в воскресение Христа из мертвых была ложной, то у них либо были какие-то веские причины верить в воскресение, либо не было. Уподобление их веры субъективному энтузиазму религиозных фанатиков подразумевает, что их не было. Но в таком случае их реальные действия оказываются в высшей степени невероятными. Можно легко прийти к мысли, что, приписав человеку высокую степень субъективной убежденности или веры, мы всякий раз получаем удачное объяснение его поступков. Но ведь совершенно ясно, что субъективный энтузиазм и продуманное, обоснованное суждение далеко не всегда являются одинаково сильными побудительными причинами. В припадке безумного азарта игрок способен поставить сто против одного, что при следующем обороте колесо рулетки остановится на красном; опытный хирург мог бы поставить те же сто против одного, что определенная процедура приведет к излечению его пациента. Но ведь игрок может мгновенно прийти в себя и образумиться, если на кону окажется жизнь его ребенка, тогда как хирург будет спокойно продолжать операцию, даже если пациентом является его дочь. То, каким образом придерживаются некоторого твердого убеждения, и особенно роль разумных оснований в его формировании и сохранении, часто имеет решающее значение при определении его ценности в качестве объяснения последующих действий. Теория же о том, что апостолы твердо верили в воскресение Христа из мертвых, но не имели для такой веры серьезных оснований, оказывается, в свете известных нам фактов, крайне неправдоподобной.
Порой утверждают, что пилоты-камикадзе, террористы-смертники и нацисты также жертвовали жизнью за то, в истинность чего они верили371. Возражение это можно сформулировать в более общем виде: практически у каждой религии находились ревностные сторонники, готовые умереть за то, во что они верили, – почему же тогда готовность апостолов принять мученическую смерть должна представлять для нас какой-то особый эпистемологический интерес? Все дело в том, что данная формулировка проблемы стирает принципиальное различие между готовностью умереть за некую идеологию и готовностью умереть в подтверждение конкретного эмпирического факта372. Роберт Дженкин выразил эту мысль с исключительной ясностью, когда триста лет тому назад подчеркнул исконное значение слова мученик:
Невежественное рвение в неправом деле не есть довод против правоты такого дела, коему служат и которое отстаивают посредством рвения разумного, имеющего под собой надежные основания. В самом деле, было бы чрезвычайно странно и досадно, если бы нечто истинное оказалось менее достоверным и менее достойным уважения и почета потому только, что бывают на свете и другие – ложные – вещи, и находятся особы, принимающие их с такой убежденностью и защищающие с таким пылом, какие не всякий выкажет по отношению к самой истине. И однако самый глубокомысленный аргумент, выдвигаемый многими против достоверности той религии, в которой они были крещены, таков: наш мир знает множество обманов и мошенничеств, и всякий раз обнаруживаются люди, с фанатическим рвением выступающие в их поддержку. Я уверен, что ни один человек никогда не расставался с чем-либо, кроме своей религии, на столь жалком основании.
...Обыкновенно утверждают – и вполне справедливо – что мучениками становятся не через самое страдание, но благодаря тому делу, ради которого страдают; и если адепты ложных религий выказывают величайшую уверенность в их истинности, не имея для этого причин, то данное обстоятельство не может служить аргументом против оснований и доказательств, на которых зиждется неопровержимость христианской религии. У других религий могут быть свои ревнители, готовые за них умереть, но мученики в собственном смысле слова есть только у религии христианской. Ибо мученики суть свидетели, а ни одна другая религия не может быть засвидетельствована таким же образом, как религия христианская; никакую другую религию не распространяли очевидцы, сами все видевшие, слышавшие – в общем, всесторонне осведомленные в том, что утверждали они как свидетели о главнейших началах своей веры; ни одну из прочих религий не проповедовали люди, которые, проявив непоколебимое мужество во всевозможных страданиях, в конце концов приняли смерть в доказательство своей религии; а ведь они не могли не знать, истинна она или ложна, а следовательно, они твердо знали, что она истинна – иначе они бы не вынесли ради нее столько страданий и не согласились бы за нее умереть... (Jenkin 1734, рр. 529, 531).
Ясно, что ни камикадзе, ни нацисты, ни террористы-смертники не умирали в подтверждение реальности чего-то такого, что они видели собственными глазами и осязали собственными руками. Таким образом, их смерть и ложность некоторых их убеждений ничего не говорит нам о том, способен ли человек умереть, чтобы доказать истинность утверждения – подобного тому, которое отстаивали апостолы, – если в действительности данное утверждение является ложным. Воспитательного потенциала целого государства, в течение десяти или более лет используемого для обработки умов, да еще в пору их наибольшей податливости к влиянию извне, может оказаться достаточно, чтобы внушить большинству юношей веру в то, что их страна или их вера есть нечто такое, за что стоит умирать. Но что же могло заставить взрослых людей порвать с религиозной общиной, в которой они выросли, и засвидетельствовать своей кровью, что они собственными глазами видели и собственными руками осязали своего равви – умершего, а затем воскресшего к жизни?
Предположим, однако, что эти свидетели действительно имели какие-то веские основания верить в воскресение – и тем не менее, ошибались. Как такое могло произойти? Теория галлюцинации имеет, по крайней мере, одно преимущество как перед внешними натуралистическими объяснениями, так и перед ссылками на «экзальтацию»: допустив, что ученики испытывали достаточно яркие и устойчивые галлюцинации, мы получаем некоторую возможность объяснить, почему они твердо верили, что им довелось видеть воскресшего Иисуса373. Но за это увеличение объяснительной силы приходится расплачиваться почти полной потерей априорной вероятности. Тому есть четыре причины. Во-первых, ученики не находились в таком психологическом состоянии, которое делало бы их восприимчивыми к галлюцинациям. В отличие от восторженных паломников, толпами стекающихся к святым местам в надежде узреть там некие видения и иные дива, ученики не ждали никаких чудес, и менее всего – чуда воскресения. Из Евангелий явствует, что ученики, к своему стыду, не понимали несколько загадочные предсказания Иисуса о Его смерти и возвращении к жизни как указания на Его предстоящее телесное воскресение вплоть до того момента, как оно стало фактом. Их душевное состояние характеризовалось отнюдь не какими-то возвышенными чаяниями, но, скорее, сочетанием скорби и самого обыкновенного страха (Мф.26:56; Ин.19:38, 20:19). Мессианские же надежды иудеев той эпохи допускали воскресение мессии лишь в контексте всеобщего воскресения в день Последнего суда374. Как мы уже отмечали выше, ученики – сначала все вообще, а затем Фома в частности – относились с понятным скепсисом к рассказам других людей о пустой гробнице и о встречах с Иисусом. Когда же Иисус действительно им являлся, они не всегда Его узнавали (Ин.21:4–7). В общем, маловероятно, чтобы эти люди могли испытать какую-либо галлюцинацию, а уж тем более с участием их воскресшего учителя.
Во-вторых, версию о галлюцинации, чтобы объяснить известные факты, придется применить более чем к дюжине людей одновременно (Лк.24:36–43)375. По вполне очевидным причинам, вероятность коллективной галлюцинации обратно пропорциональна числу деталей–элементов данной галлюцинации376. Учитывая степень обстоятельности в описании конкретных деталей многообразного взаимодействия, например в случаях, подобных Лк 24, вероятность случайного совпадения следует признать исчезающее малой. Третий фактор лишь усугубляет данную проблему: галлюцинации должны не просто быть параллельными и сходными по содержанию, но и составлять единое непротиворечивое целое. Согласно Евангелиям, воскресший Иисус общался с учениками различными способами, скажем, ел рыбу, которую они ему дали (Лк.24:41–43), и сам готовил для них рыбу (Ин.21:1–14). В подобных ситуациях ученики взаимодействовали, физически и словесно, не только с Иисусом, но и друг с другом. Предположение, что их параллельные многообразные галлюцинации оказались, в конечном счете, идеально «подогнаны» одна к другой, следует попросту отбросить – с точки зрения естественных законов такое событие настолько неправдоподобно, что само требует едва ли не сверхъестественного объяснения. Наконец, эти сложные, детализированные, параллельные, идеально между собой согласованные галлюцинации должны были повторяться в продолжение более чем месяца, ведь все это время ученики пребывали в убеждении, что они снова и снова – здесь, на Земле – общаются со своим Господом и учителем.
А затем они внезапно прекратились. Христос больше не являлся людям на Земле. Описанные в Деяниях видения Петра и Корнилия и даже видение Павла на дороге в Дамаск, чем бы они ни были вызваны, качественно отличны от этих явлений. Ведь Павел никогда не утверждал, что Иисус преломил с ним хлеб и ел вместе с ним. Логика аргументов Теодора Кайма в данном пункте неумолима:
Ни у кого из пятисот не повторился транс, все случаи экстатического состояния раз и навсегда обрываются на пятом видении. Какой контраст между взлетом энтузиазма и резким его падением, вплоть до полного угасания! В тот самый момент, когда пламенные умы начинают приходить в исступление, фанатизм вдруг совершенно и навсегда сходит на нет. Не исключено, что некоторые менее страстные натуры – скорее, Иаков, чем Петр – и могли бы быстро восстановить душевное равновесие, но ведь у большинства из Двенадцати и из пятисот прорвавший все плотины бурный поток нельзя было остановить в одно мгновение – и однако, евангельский рассказ ничего не сообщает нам о третьем видении у Двенадцати и о втором видении у пятисот (Keim 1883, р. 3 5 6)377.
В контексте вычисления фактора Байеса теория галлюцинации заключает в себе ту трудность, что ее вероятность при условии ~R оказывается исчезающее малой. Тот тип сложных по содержанию, неоднократных, идеально между собой согласованных галлюцинаций, который требуется для объяснения свидетельств хотя бы одного ученика, должен представлять собой серьезную душевную болезнь. Однако сторонник данной теории вынужден допускать, что болезнь эта одновременно поразила всех учеников и внушила им определенное твердое убеждение, которое одушевляло их всю последующую жизнь и дало им силы для бесстрашного свидетельства перед лицом смерти. Мы вернемся к вопросу о значении данного обстоятельства для совокупной силы их свидетельств, когда будем оценивать общее влияние свидетельств учеников на убедительность аргументации в пользу воскресения.
Таким образом, натуралистические теории оказываются совершенно несостоятельными. Впрочем, не все сторонники теистических теорий соглашаются, что Иисус физически воскрес из мертвых. Согласно одной популярной трактовке, которую Гэри Хабермас называет теорией «объективного видения» – разработанной Теодором Каймом в XIX веке и поддержанной Гансом Грассом в середине XX столетия, – ученики, по прямому Божьему изволению, имели неоднократный опыт нетелесных явлений Иисуса, убедивший их в том, что Иисус жив и здоров. Терминология здесь несколько путаная, ибо в определенном смысле видения эти представляли собой не физические события, но, скорее, случаи субъективно пережитых «благодатных узрений». Однако сторонники данной трактовки всегда решительно заявляли, что ее ни в коем случае нельзя считать простым откатом на позиции теорий натуралистически-субъективного толка. Например, Кайм доказывает, что эти видения должны были иметь чудесную природу, а свои аргументы в защиту теории объективного видения он сопровождает резкой критикой Штраусовой гипотезы натуралистически интерпретированного видения (Keim 1883, рр. 334 и далее, особ, рр. 351–604, ср. Fuller 1993, р. 648).
Истолкованная подобным образом, теория объективного видения представляет собой теорию теистическую, и никто из ссылающихся на данную теорию не способен, по вполне понятным причинам, использовать ее как элемент доказательства против бытия Бога. Нетеисты склонны считать ее не более чем ловкой уверткой со стороны теистов, и в контексте спора между теизмом и атеизмом это дает им определенное преимущество. Ведь любой теист, пожелавший объяснить свидетельства учеников ссылками на их сугубо личный, субъективный опыт, не поддающийся объективному историческому подтверждению, неизбежно обнаружит, что это никак не увеличивает силу его логических аргументов в противостоянии со скептиком, который попросту отмахнется от данного предположения как от попытки облечь в теистические одежды обыкновенный обман чувств378.
С точки же зрения исторической апологетики теория объективного видения по- прежнему представляет собой серьезный вызов, поскольку она изначально мыслилась как явным образом несовместимая с любого рода физическим воскресением и, следовательно, должна рассматриваться в качестве альтернативной попытки объяснить веру учеников в воскресение Иисуса. И все же по целому ряду причин эта альтернативная интерпретация оказывается не слишком убедительной. Во-первых, в свете тех событий, о которых рассказали сами ученики, версия о том, что им было видение Иисуса, физически мертвого, но говорившего с ними, кажется маловероятной. Ведь Иисус, по словам учеников, предложил им прикоснуться к Нему и совершенно недвусмысленно заявил, что у Него есть «плоть и кости», каких не бывает у духов; наконец, Он ел с ними – все еще не вполне Ему поверившими – рыбу и сотовый мед (Лк.24:39 и далее). Согласно повествованию Иоанна, они видели Его «стоящим на берегу». Все это абсолютно не похоже на описание небесного видения (ср., например, сказанное Стефаном в Деян.7:56: «Вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога»). В Евангелии от Иоанна сообщается также, что Иисус приготовил для учеников рыбу и разделил с ними трапезу при море Тивериадском (Ин.21:12–14). Что бы ни происходило тогда в действительности, нет ни малейших разумных оснований сомневаться, что сами ученики верили в физическое воскресение Иисуса379. Это с полной очевидностью явствует не только из первоначального варианта символа веры в 1Кор.15:3–8, но и, как мы отмечали выше, из проповеди Петра в день Пятидесятницы (Деян.2:29–32).
Представим, однако, что на уровне непосредственного опыта видения учеников были тождественны восприятию ими телесно воскресшего из мертвых Иисуса, и, таким образом, теория объективного видения становится феноменологически неотличимой от теории яркой галлюцинации. Было бы бессмысленно усматривать причину подобных видений в могуществе какого-либо другого существа, кроме иудео-христианского Бога. У Зевса, если бы таковой существовал, не нашлось бы никаких причин внушать ученикам убеждение в том, что Христос победил смерть. Но ведь и для иудео-христианского Бога не было ни малейшего смысла ниспосылать им подобные видения. У Бога, способного творить чудеса – каковым Бог Авраама и Исаака, вне всякого сомнения, считался и каковым Он так или иначе должен был быть, чтобы обладать возможностью внушать такого рода видения, – у Бога, последователям которого строго предписывалась безусловная правдивость, не могло найтись никаких мыслимых оснований для того, чтобы увиливать от совершения чуда физического воскрешения, да еще и морочить на сей счет голову верным своим последователям.
Какой же вес следует нам в таком случае придавать свидетельству учеников? Вопрос этот состоит из нескольких частей – в том числе ввиду многочисленности альтернативных теорий и многообразия тех трудностей, с которыми они сталкиваются. Но кроме того, как мы уже обстоятельно пояснили выше, нам поименно известны по крайней мере тринадцать человек, которые открыто называли себя свидетелями воскресения Христа и изъявляли готовность умереть за это свидетельство, причем некоторые из них впоследствии действительно были казнены. А потому нам следует не только разобраться с тем, может ли быть неправдоподобным данное свидетельство со стороны хотя бы одного-единственного очевидца, но и рассмотреть вопрос о возможном неправдоподобии таких свидетельств, исходящих сразу от нескольких очевидцев.
Вначале рассмотрим случай с единственным учеником. Наилучшее из имеющихся натуралистических объяснений, теория галлюцинации, предполагает (коль скоро она должна сравниться с R по степени своей вероятности) совершенно исключительный по количеству конкретных деталей обман чувств, идеально вписанный (насколько может судить сам ученик) в опыт восприятия им окружающих его людей. Такие галлюцинации действительно имеют место в бодрствующем состоянии у лиц, страдающих тяжелым психическим расстройством, но, к счастью, подобная болезнь – явление редкое; к тому же она сопровождается и другими характерными симптомами, которых у учеников не наблюдалось. Прочие натуралистические гипотезы обладают более высокой априорной вероятностью, достигающей, пожалуй, 0,001, но по своей объяснительной силе они совершенно несопоставимы с R, и их вклад в P(Di|~R) оказывается ничтожно малым даже по сравнению с теорией галлюцинации. Теория объективного видения, при правдоподобной ее интерпретации, имеет чрезвычайно низкую вероятность: мы просто не можем ожидать, чтобы небесное видение вело себя так, как, по словам учеников, вел себя Иисус, и взаимодействовало с ними так, как это делал, по их же словам, Иисус. Мы не вправе думать, что из контакта с небесным видением ученики могли бы вынести твердое убеждение, что Его тело не разложилось и что они говорили и ели с Ним здесь, на Земле в самом обычном, «физическом», смысле этих слов. Соответствующим образом модифицированная теория видения (назовем ее О*) не имеет этого недостатка, поскольку более или менее по определению P(Di|~R & О*) = P(Di|R). Но ее подрывает то обстоятельство, что P(O*|~R) само по себе чрезвычайно мало (скажем, < 0,001), даже если (что признают немногие скептики) P(T|~R) ≫ 0. Все дело в том, что если бы воскресения не произошло, то у нас не было бы ни малейших оснований ожидать чего-либо даже отдаленно похожего на свидетельство хотя бы одного-единственного очевидца, подобное тем, которые зафиксированы в Деяниях и Евангелиях; на его спокойное мужество перед лицом смерти; на случившуюся с ним внезапную – и устойчивую по своим последствиям – перемену, о которой сообщают нам Деяния и которая подтверждается свидетельствами ранней церкви. Итак, в ситуации с одним-единственным учеником P(Di|R), как нам представляется, превосходит P(Di|~R) по меньшей мере на три порядка.
Но теперь, разобравшись с отдельно взятым фактором, мы должны задаться вопросом: а что же произойдет, если мы примем в расчет то обстоятельство, что подобных учеников было тринадцать? Первое приближение к результату мы получим, предположив здесь взаимную независимость. Для начала вспомним: там, где все входящие в систему нашей аргументации факты являются независимыми при R и при ~R, из допущения независимости вытекает, что
| h6C P(D1&...&D13|R) | h6C = | h6C P(D1|R) | h6C ×…× | h6C P(D13|R) |
| h6C P(D1&...&D13|~R) | h6C P(D1|~R) | h6C P(D13|~R) |
Таким образом, при допущении независимости факторы Байеса для каждого из тринадцати Di следует перемножить, что даст нам совершенно ошеломляющий совокупный фактор P(D|R)/P(D|~R) = 1039 380.
Обращение Павла: анализ фактора Байеса
Четвертый из наших знаменательных фактов – это обращение Павла, событие, нужно признать, поразительное и труднообъяснимое. Савл из Тарса, яростный и непримиримый гонитель христиан и восходящая звезда иудейской общины Иерусалима, направлявшийся в Дамаск с прямой целью раздавить эту новомодную секту и получивший на сей счет письменные полномочия от иерусалимского первосвященника, внезапно преобразился – он совершенно уверовал в воскресшего Христа и в конце концов принял мученическую смерть за ту самую религию, которую прежде так неистово преследовал.
Из представленных в Деяниях сообщений о случившемся тогда с Павлом нам известно, что он воспринял происшедшее как встречу с Иисусом – тем самым Иисусом, чьих последователей он с такой решимостью гнал; хотя встреча эта, в отличие от соответствующего опыта учеников, имела особый, не вполне «земной» характер. Упомянутые же последователи с самого начала провозглашали, что Иисус воскрес из мертвых физически – мысль, которую Павел специально развивает в нескольких местах. Таким образом, мы имеем здесь более тесную связь с идеей воскресения, чем это могло бы показаться. Павел считал, что Бог прямо поручил ему проповедовать воскресение и мессианство Иисуса и что его, Павла, учение соответствует тому, чему учили апостолы в Иерусалиме (Гал.2:2). Непоколебимой верой в это призвание свыше проникнуты как сохранившиеся в Деяниях рассказы о его учительстве, так и собственные Послания Павла (см., напр., Деян.22:10–16, Деян.26; 2Кор.1:1; Гал.1:1, 11–16; Флп.3:4–8; Кол.1:1; 1Тим.1:1, 12–13).
Предположение, что Павел умышленно распространял нечто такое, ложность чего была ему известна, слишком абсурдно, чтобы долго на нем останавливаться: пылкая преданность Павла иудаизму, его растущий авторитет среди евреев, позор и поношение, на которые обрекало христианство его последователей не оставляют здесь места для каких-либо человеческих побудительных мотивов к обману. Никаких земных благ Павел приобрести не мог, зато потерять мог все. Точно так же не стоит всерьез принимать гипотезу о том, что Павел оказался жертвой дерзкого розыгрыша, что его каким-то образом одурачили, заставив поверить, что Иисус говорит с ним с небес, в то время как его ошарашенные спутники за этим всем наблюдают. Устрашенные христиане опасались приближаться к Павлу и после того, как узнали о его обращении; но даже если бы они и захотели его обмануть, не существовало ни малейшей практической возможности устроить – на открытой дороге, да еще в присутствии Павловых спутников – такую жульническую мистификацию, которая позволяла бы им надеяться привлечь на свою сторону столь решительного и могущественного врага381 .
По-видимому, ясно сознавая всю неубедительность подобных объяснений, Штраус осторожно выдвигает другое предположение: Павел, вероятно, не устоял перед чувствами сомнения и вины, охватившими его во время страшной грозы (Strauss 1879, рр. 420–425)382. Сию замечательную догадку стоило бы, пожалуй, обсудить, если бы не то досадное обстоятельство, что и сомнения, и чувство вины, и гроза – выдумки чистой воды. Впрочем, сам Штраус, едва обозначив свою мысль, благоразумно отказывается от этой гипотезы, пытаясь укрыться за спасительным тезисом о «неисторичности» Деяний.
Таким образом, область возможных объяснений Павлова обращения сужается до следующих узких рамок: либо Павел стал жертвой совершенно необычного по своему характеру – и необыкновенного по своим результатам – обмана чувств, либо то, что он назвал причиной своего обращения, действительно с ним произошло – в последнем случае мы получаем довод настолько убедительный, насколько об этом вообще можно было бы мечтать, как в пользу воскресения, так и в пользу истинности христианской религии. Следовательно, логическая обоснованность заключения от обращения Павла к воскресению Христа оказывается, со всех практических точек зрения, обратно пропорциональной вероятности того, что на дороге в Дамаск Павел пережил галлюцинацию. Но, как и в случае с теми теориями галлюцинации, которыми пытаются объяснить свидетельства учеников, данная теория требует нагромождения все новых и новых логических несуразностей. Галлюцинаторные состояния, меняющие образ мыслей злобных гонителей настолько, что те превращаются в самоотверженных мучеников, к несчастью, чрезвычайно редки, и напрасно стали бы мы искать аналогичные обращения у печально известных своими деяниями кровавых изуверов всех веков. И потом, здесь нам требуется не какая угодно галлюцинация, но имеющая вполне конкретное, сложное содержание: ее субъект, находясь в бодрствующем состоянии, должен был пережить встречу с презираемым им Иисусом, который явился ему во славе и упрекал его за прежние действия. Да и странная какая-то получается галлюцинация – галлюцинация, за которой следует несколько дней слепоты.
Избежать нагромождения в данной гипотезе одного неправдоподобного допущения на другое здесь можно единственным способом – отбросив сам текст и предавшись, на манер Штрауса, полетам творческой фантазии. Принимая всерьез интерпретированный в мирском смысле компонент соответствующих текстов, мы бы предположили, что P(P|~R) составляет порядка 10–4, а скорее всего – гораздо меньшую величину, тогда как при допущении R объяснение Р не представляет ни малейших затруднений. Следовательно, байесовский фактор обращения Павла, свидетельствующий в пользу реальности воскресения, по нашим – умеренным – оценкам равен, как минимум, 103.
Совокупная доказательная сила знаменательных фактов
Каждый из рассмотренных нами знаменательных фактов сам по себе существенно укрепляет аргументацию в пользу воскресения. Взятые же вместе, они составляют неопровержимый аргумент, приводящий к заключению о том, что воскресение действительно произошло.
В первом приближении оценивать силу данного аргумента следует исходя из допущения независимости. В таком случае мы должны будем перемножить полученные факторы в соответствии с представленной выше формулой:
| h6C P(W|R) | h6C × | h6C P(D|R) | h6C × | h6C P(P|R) |
| h6C P(W|~R) | h6C P(D|~R) | h6C P(P|~R) |
Сила совокупных фактов-свидетельств =
Между тем байесовские факторы для этих отдельных элементов свидетельства составляют, по нашей оценке, соответственно, 102, 1039 и 103. Их полное произведение дает фактор Байеса 1044 – вес свидетельства, вполне достаточный, чтобы преодолеть априорную вероятность (или, скорее, невероятность) 10"40 для R, и в результате мы получим апостериорную вероятность, превышающую 0,9999.
Правда, данный вывод основывается на допущении, что в вопросах, отличных от прямых утверждений о чудесах, Евангелия и книга Деяний являются в целом надежными источниками, что им можно доверять в такой же мере, как и любому документу светской истории, когда речь в нем идет о самых обычных, не сверхъестественных фактах. Там же, где Евангелия и Деяния действительно повествуют о чудесных событиях, таких, например, как явления воскресшего Иисуса, мы предполагаем их достоверность, то есть допускаем, что в них сообщается именно то, что утверждали сами ученики. Если же наши допущения неверны, то приведенные выше вычисления говорят очень мало относительно свидетельств воскресения. Мы уже представили основания в пользу их принятия, хотя, конечно, на этот счет можно было бы сказать гораздо больше.
Впрочем, данное ограничение не является настолько жестким, как это может кому-то показаться. «Достоверность в целом» допускает разные степени, и в изложении знаменательных фактов мы сознательно стремились к минимальным по содержанию формулировкам, с тем чтобы принятие этих фактов не требовало от нас признания исторической достоверности библейских текстов во всех, даже самых мелких деталях. Применительно к разным фактам и даже к различным сторонам одного и того же факта наши текстуальные допущения имеют неодинаковую значимость. Факты, отнесенные у нас к категории W, оказываются, пожалуй, наиболее уязвимыми для критики, основанной на скептическом подходе. Некоторые моменты D – например, утверждения учеников о конкретных физических подробностях явлений воскресшего Иисуса – в большей степени зависят от достоверности источников, чем, скажем, готовность свидетелей умереть за свою веру в воскресение, которая подтверждается и небиблейскими текстами. Наконец, как мы уже неоднократно подчеркивали, важнейшие, решающие аспекты каждого из этих фактов не подвергаются сомнению даже теми учеными, которые склонны отрицать раннее происхождение или общую достоверность библейских текстов; причем вера учеников в то, что они видели воскресшего Христа, и обращение Павла вызывают, пожалуй, менее всего вопросов у специалистов, в целом относящихся к христианству скептически. Утверждается лишь следующее: надо ожидать, что действительность знаменательных фактов сильно зависит от надежности и подлинности самых важных в данном контексте и наиболее детализированных из доступных нам текстуальных источников.
Во-вторых, в ряде пунктов допущение независимости оказывается спорным; мы, в частности, полагаем, что в случае с вычислением байесовского фактора для D допущение независимости почти наверняка обнаружит свою несостоятельность. Но, как это ни странно, у нас нет причин думать, что данное обстоятельство неизбежно уменьшит силу нашей аргументации. Здесь все зависит от сравнения конкретных последствий того, в каком смысле и в какой мере допущение независимости рушится при условии R и при условии ~R. Подробнее мы рассмотрим этот вопрос в следующем разделе.
В-третьих, предложенные нами величины наверняка могут быть оспорены. Мы представили основанные на первом впечатлении основания для них, но вполне естественно было бы ожидать, что всякий, кто отрицает R, сочтет результаты наших вычислений неприемлемыми. По этому поводу мы ограничимся простым заявлением: выдвинутых нами доводов достаточно, чтобы в настоящий момент сдвинуть бремя доказательства с «мертвой точки».
Но есть один пункт, в значительной мере независимый от вводимых в наши расчеты конкретных величин. Использование байесовской схемы превосходно иллюстрирует то, каким образом сведение воедино независимых положительных фактов-свидетельств бывает способно резко увеличить силу совокупной аргументации даже в пользу чрезвычайно спорного утверждения. Отличным полем для иллюстрации данного обстоятельства служат доказательства исторические. Как удачно выразился Томас Чалмерс:
История – предмет особенный; далекие от нее люди могут сколько угодно изощряться в своих сомнениях и предаваться скептицизму, но всякий разумный человек, входивший в ее подробности, непременно испытывал в высшей степени привычное и приятное чувство убежденности в том, что исторические свидетельства вполне способны быть надежными и достоверными (Chalmers 1817, р. 56).
Независимость
Мы попытались доказать, что описанные выше три линии аргументации, взятые вместе, убедительно свидетельствуют, что вероятность R намного превосходит вероятность ~R. Наш аргумент, однако, основывался на упрощающем допущении о взаимной независимости этих линий рассуждения. Обратившись к вопросу о готовности тринадцати очевидцев умереть за свои убеждения, мы также приняли допущение независимости и таким образом получили очень высокий фактор Байеса для совокупной силы их свидетельств.
Критики нашего аргумента скорее всего не согласятся с таким допущением. С особой четкостью и остротой формулирует данное возражение Джон Венн:
Если два свидетеля (и, разумеется, еще большее их число) сходятся в изложении такого дела, в котором они могли бы допустить множество разнообразных ошибок, то совокупное действие их положительных показаний до чрезвычайной степени увеличивает вероятность данного события – но при одном непременном условии: здесь не должно существовать возможности предварительного сговора... Но выполнение этого условия, т. е. отсутствие сговора, можно обеспечить крайне редко. Фактически возможность сговора того или иного рода и оказывается важнейшим источником наших заблуждений и сомнений. Поскольку же мы редко бываем в силах полностью устранить подобную опасность, а при ее наличии не можем дать ей точное числовое выражение, то мне кажется, что комбинация нескольких показаний, представляющих собой детальные описания событий, в еще меньшей степени поддается анализу в терминах вероятности, чем даже показания одного-единственного свидетеля (Venn 1888, р. 428).
Насколько сила кумулятивного доказательства возрастает при допущении, что каждый из нескольких типов аргументации влияет на конечную убедительность соответствующего тезиса сам по себе, настолько же эта сила оказывается под серьезнейшей угрозой при наличии признаков сговора. Если все три человека, обвиняемые в совершении некоего преступления, дают по сути в одних и тех же словах одно и то же невинное объяснение своих действий, то вероятность сговора между ними в целях выработки общего алиби подрывает совокупную силу их показаний. Даже при отсутствии сознательного намерения кого-то обмануть одни свидетели способны оказывать на слова других свидетелей такое воздействие, которое может иметь место, даже если соответствующее событие вообще не произошло или же происходило не так, как они утверждают. Данная возможность имеет прямое отношение к эпистемологической вероятности, если у нас есть основания подозревать такого рода взаимное влияние. Краткий итог своего тщательного анализа проблемы независимости отдельных показаний Уильям Крускал подводит следующим предостерегающим поучением: «Не умножайте без нужды» (Kruskal 1988, р. 929). Таким образом, проблема независимости приобретает для нас решающее значение.
Для начала рассмотрим вопрос о независимости тех линий нашей аргументации, которые мы обозначили как W, D и Р. Свидетельства женщин о пустой гробнице и о явлениях Христа очевидным образом независимы от обращения Павла, которое не было вызвано и не стало более вероятным благодаря их свидетельствам – свидетельствам, которые Павел отверг, превратившись после этого в гонителя христиан; причиной же Павлова обращения послужило, скорее, то, что сам он описывал как непосредственное откровение свыше, данное именно ему и никому больше. Другие же свидетельства о воскресении Христа, включая исходившие от очевидцев-мужчин, никак не могли зависеть от Павлова обращения, поскольку были представлены раньше383. Свидетельства женщин по самому своему существу независимы от свидетельств тринадцати очевидцев мужского пола. Женщины стали первыми свидетелями, слова учеников никак на них в этом смысле не влияли; они пришли и рассказали ученикам о том, что увидели сами, еще до того, как ученики выступили с какими-либо утверждениями о воскресшем Иисусе. А поскольку ученики женщинам не поверили, то у нас нет оснований думать, что свидетельства учеников и их готовность умереть за эти свидетельства могли находиться в сколько-нибудь существенной зависимости от свидетельства женщин.
Однако допущение взаимной независимости применительно к тринадцати очевидцам-мужчинам порождает более серьезные проблемы. Ведь даже если согласиться, что свидетельства Тринадцати (D), взятые как единое целое, и не зависят от W и от Р, можно попытаться доказать, что двенадцать апостолов и Иисусов брат Иаков не свидетельствовали независимо друг от друга, а следовательно, наша оценка совокупного фактора Байеса для их свидетельства, вычисляя который, мы недвусмысленно исходили из допущения независимости, слишком завышена. Между тем, ввиду наличия столь большого числа свидетелей, D играет очень важную роль в нашей аргументации, и потому допущение их взаимной независимости приобретает в данном случае решающее значение.
Возражение против сделанного нами допущения о независимости этих тринадцати очевидцев друг от друга звучит следующим образом. Разве готовность каждого из них свидетельствовать то, что он свидетельствовал, и умереть за свои слова не укреплялась готовностью остальных поступать точно так же? Неужели каждый из них не воодушевлял других своей твердостью?
Ответ, и довольно неожиданный, на эти вопросы таков: допущение независимости приводит не к завышению, но как раз к недооценке доказательной силы нашей аргументации. А чтобы понять, почему, следует обратить внимание на то, что независимость свидетельств очевидцев и их готовности за них умереть имеет значение, только если:
| P(D1&...&D13|R) | h6C = | P(D1&...&D13|~R) |
| P(D1|R) ×... × P(D13|R) | P(D1|~R)×...×P(D13 |~R) |
Это верно, поскольку при допущении независимости числитель каждой дроби оказывается тождественным знаменателю. Если имеет место независимость, то P(D1& ... &D13|R) = P(D1R) × ... × P(D13|R), и аналогично для ~R. Следовательно, если мы принимаем допущение независимости в обоих случаях, как для R, так и для ~R, то каждое из соотношений будет попросту равно 1, что делает их тривиально равными друг другу.
Суть рассматриваемого нами возражения заключается в том, что мы якобы были не вправе перемножать факторы Байеса для тринадцати очевидцев и что если бы мы этого не сделали, то получили бы в итоге фактор существенно более низкий, чем 1039, как мы вычислили для их кумулятивного свидетельства. Верно, что вне условия независимости данное равенство может и не иметь места. Если отдельные элементы свидетельства находятся в положительном или отрицательном взаимном отношении (подтверждают или опровергают друг друга), то, при допущении независимости, наши расчеты действительно могли бы привести к завышению их доказательной силы в пользу R. Но это произошло бы лишь в том случае, если бы равенство превращалось в неравенство, свидетельствующее в пользу ~R, а именно:
| h6C P(D1&...&D13|R) | ˂ | h6C P(D1&...&D13|~R) |
| h6C P(D1|R)×...×P(D13|R) | h6C P(D1|~R)×...×P(D13|~R) |
В порядке иллюстрации данного случая допустим, что два свидетеля утверждают, что Н и байесовский фактор для каждого равен 10 в пользу Н, иначе говоря, P(W1|H)/P(W1|~H) = P(W2|H)/P(W2|~H) = 10. Если мы считаем их показания независимыми, то эти факторы Байеса следует перемножить, что даст нам совокупный байесовский фактор 100 в пользу Н. Но допустим, что у нас есть некоторые причины подозревать, что – если Н ложно – эти люди заранее сговорились согласовать свое изложение событий таким образом, чтобы их показания как-то подтверждали одно другое при условии ~Н. В такой эпистемологической ситуации нам не следует перемножать P(W1|~H) и P(W2|~H) при вычислении P(W1 & W2|~H), поскольку P(W1 & W2|~H) в результате данной операции оказалась бы заниженной. Масштаб этого занижения зависел бы от конкретных особенностей ситуации и, в частности, от степени вероятности предварительного сговора при ~Н. Но в таком случае имело бы место неравенство подобное тому, о котором шла речь выше, ибо показания свидетелей были бы независимы при допущении Н (ведь у нас нет причин подозревать здесь сговор, если Н истинно), но подтверждали бы одно другое при условии ~Н.
Разумеется, тринадцать очевидцев воскресения были между собой знакомы и имели полную возможность говорить друг с другом. Их свидетельства в пользу воскресения не принимали форму эксперимента, в ходе которого каждый из них, изолированный в отдельной комнате, не знал бы ничего о том, что утверждают другие. Таким образом, мы оказываемся перед следующим затруднением: нам приходится всерьез рассматривать возможность ~R, а также предварительного сговора в той или иной форме или же положительного взаимного влияния, что делает вероятность совпадения всех их свидетельств при допущении ~R более высокой, чем вероятность истинности их свидетельств, рассматриваемых по отдельности, а значит, лишает смысла прежние наши расчеты, предполагавшие здесь независимость.
Но пусть даже принцип вероятностной независимости свидетельских показаний рушится, ему совершенно необязательно рушиться описанным выше образом. Вероятностная корреляция может быть либо положительной, либо отрицательной, и в таком случае нам следует оценить обе стороны неравенства. Если равенство нарушается противоположным образом, так что
| h6C P(D1&...&D13|R) | ˃ | h6C P(D1&...&D13|~R) |
| h6C P(D1|R)×...×P(D13|R) | h6C P(D1|~R)×...×P(D13|~R) |
тогда отказ от допущения независимости оборачивается фактически в пользу R, а не ~R и делает заключение к R от факта совпадения свидетельств еще более убедительным, чем и без того громадный фактор, полученный нами при допущении независимости. Следовательно, решающий вопрос звучит так: является ли R лучшим объяснением единства в свидетельствах учеников, нежели ~R? Если допущение независимости рушится в данном конкретном случае, то смогут ли подозрения в сговоре склонить неравенство в пользу ~R – или же мы обнаружим, что совпадение свидетельств очевидцев получает более убедительное и естественное объяснение при допущении R?
Среди очевидцев, о которых идет у нас речь, были и такие, кто действительно умер за свое свидетельство. В их случае, как нам кажется, следует говорить не просто о готовности умереть за свое свидетельство, но также о реальной смерти за него. Если А умирает (тем более какой-то мучительной смертью) за свое свидетельство о воскресшем Христе и В узнает об этом – нет серьезных причин сомневаться, что казнь одного из апостолов становилась известной прочим, – увеличивает ли это вероятность того, что В пребудет тверд в своем свидетельстве вплоть до самой смерти? На наш взгляд, верно обратное: при обычных обстоятельствах знание о такой смерти, по-видимому, отрицательно скажется на готовности В держаться до конца. Судьба А может устрашить В и заставить его отречься от прежних утверждений. В таком случае трактовка смерти А и смерти В за свое свидетельство – двух примеров мученичества в исконном значении слова мученик, а именно свидетель – как вероятностно независимых событий фактически занижает доказательную силу аргументации в пользу R. Поскольку страх смерти присущ людям от природы и их ужасают даже рассказы о пытках, то факты мученичества действительно могут иметь некоторую отрицательную взаимную корреляцию при допущении истинности свидетельств мучеников. Даже людей, говорящих правду, страх способен принудить к молчанию – если они услышат, что кто-то другой, утверждавший то же самое, уже умер за свои слова384. Но ведь взаимная отрицательная корреляция этих фактов оказывается еще выше – гораздо выше! – при допущении ложности свидетельств апостолов. Если при нормальных условиях естественно ожидать, что их смерти находятся в отношении отрицательной корреляции друг к другу, и, однако, они идут на смерть, то убедительным объяснением этому будет следующее: они знали, что их слова – правда, и по этой самой причине чувствовали себя обязанными продолжать свое дело, несмотря на весь тот страх, который внушали им известия о казнях других очевидцев воскресения385. В противном же случае ничего подобного вообще нельзя было бы ожидать. Иными словами, когда мы рассматриваем факты смерти, скажем, трех свидетелей, то R позволяет лучше, чем ~R, объяснить не только смерть каждого из них в отдельности, но и все эти три случая смерти, взятые вместе. А это означает, что фактор Байеса, рассчитанный нами при допущении независимости, оказывается ниже, чем реальное влияние фактов их мученической гибели.
А теперь рассмотрим не саму смерть, но готовность тринадцати очевидцев умереть. Каждый из них, надо думать, ободрял и воодушевлял других примером собственной стойкости перед лицом смертельной угрозы, а следовательно, готовность А умереть за свое свидетельство не является независимой от аналогичной готовности В, но находится в отношении положительной корреляции к ней, и наоборот. Означает ли это, что наша аргументация в действительности слабее, чем это казалось нам при допущении независимости, и что мы не вправе перемножать байесовские факторы для каждого из тринадцати очевидцев, то есть выполнять операцию, дающую нам в итоге совокупный фактор 1039? Следует ли отсюда, что в случае тринадцати очевидцев мы должны всерьез рассматривать вероятность предварительного сговора и ложных свидетельств?
В данной ситуации любая зависимость между показаниями свидетелей также фактически лишь усиливает нашу аргументацию; допущение же независимости, если оно оказывает какое-либо искажающее действие, приводит к недооценке реальной силы доводов в пользу R. Если определенные лица открыто называют себя свидетелями некоторого события (здесь – явлений воскресшего Иисуса) и своими утверждениями на сей счет подвергают себя опасности мучительной смерти, то их искренняя вера в эти утверждения вместе с наличием у них веских оснований для такой веры служат более убедительным объяснением положительной зависимости между их рассказами о данном событии – то есть их способности побуждать друг друга к продолжению свидетельства – нежели отсутствие такой веры или веских оснований для нее.
Возьмем, например, одну из гипотез, предполагающих ~R – версию мошеннического сговора. Мало того, что она имеет низкую априорную вероятность и выглядит не слишком правдоподобно в свете поведения каждого из учеников в отдельности – данная гипотеза столь же бессильна объяснить реальное влияние, которое очевидцы воскресения оказывали друг на друга, побуждая один другого продолжать свидетельство, несмотря на угрозу смерти. Неужели проходимцы и лжецы могли бы так воздействовать друг на друга? Напротив, если два человека окажутся перед угрозой мучительной смерти за состряпанную ими небылицу, то непреклонность одного из них едва ли заставит другого и далее упорствовать в обмане. Доказательная сила включенных в D фактов не сводится к одному-единственному заявлению очевидцев о том, что Иисус воскрес из мертвых, ведь они продолжали настойчиво об этом свидетельствовать даже перед лицом смертельной угрозы. Но тогда факт чрезвычайно жестокого давления внешних обстоятельств, принуждавших каждого из свидетелей к отречению от своих слов, делает гипотезу сговора – если мы допускаем ~R – совершенно негодным объяснением проявленной всеми ими несгибаемой стойкости. При допущении ~R подобная стойкость каждого из свидетелей представляла бы собой в лучшем случае некий отдельный, независимый факт, а вовсе не результат взаимного влияния. А значит, если сразу несколько свидетелей оказываются способны воздействовать друг на друга, побуждая один другого и далее публично излагать определенные события, невзирая на тяжкие последствия, которыми могут для них обернуться подобные рассказы, то это само по себе доказывает, что свидетели верили в истинность сообщаемого ими, а не распространяли, заранее сговорившись, какую-то ложь. Следовательно, признавая вероятность взаимного влияния среди учеников, мы приходим к выводу, что факт такого влияния несовместим с гипотезой предварительного сговора, предполагающей ~R, но мог иметь место лишь при допущении R.
Пока все как будто говорит о том, что при отказе от допущения независимости решающее неравенство должно свидетельствовать в пользу R, а не ~R. Наш критик, однако, мог бы ответить так: теперь, коль скоро допущение независимости себя не оправдало, нам следует вести речь не о сговоре и не о мужестве, но, скорее, о чем-то вроде иррационального религиозного энтузиазма или, возможно, о какой-то, точно пока не определенной, разновидности теории объективного видения. Люди способны оказывать – и действительно оказывают – друг на друга особого рода возбуждающее влияние, результатом которого становятся иррациональные поступки и ревностная приверженность, невзирая на преграды и противодействие, тем или иным идеологическим системам или экстравагантным религиозным воззрениям. Мы уже проанализировали и отвергли гипотезу религиозной экзальтации, предлагавшуюся в качестве объяснения свидетельств учеников. При этом мы особо подчеркнули, что в данном случае речь идет не о приверженности какой-то системе идей или отвлеченных религиозных принципов, но о защите вполне конкретного утверждения эмпирического толка, утверждения, об истинности или ложности которого ученики сами были в состоянии судить. Мы также отбросили гипотезу общего видения, поскольку она не способна объяснить реальные свидетельства, данные каждым из учеников. Но какую связь имеют эти гипотезы с проблемой независимости?
Если ни у одного из двух очевидцев не было убедительных объективных оснований для такого рода эмпирического утверждения – если один из них или сразу оба лишь находились в состоянии религиозной экзальтации, имели некое смутное видение или какой-то неясный опыт, – то насколько вероятной следует считать их способность влиять друг на друга, взаимно укрепляясь в готовности продолжить это, относящееся к эмпирическим фактам, свидетельство перед лицом вполне реальной угрозы смерти? Ученики заявляли не просто об истинности христианства вообще, но о чем-то более конкретном, а именно о том, что они видели воскресшего Иисуса. Они создали это новое религиозное движение, другие же люди уверовали в важнейшие его положения, такие, как «Иисус есть Господь», на основании их, учеников, свидетельства об эмпирическом факте – их встречах с воскресшим Иисусом, встречах, имевших место в материальном мире. Совершенно очевидно, что их преданность христианству, доходившая до готовности принять за него мученическую смерть, объяснялась отнюдь не тем, что они приняли чьи-то чужие слова за его вероучительные положения, были воспитаны в христианстве, изначально составлявшем часть их культурной и религиозной идентичности, воспринимали себя как членов общины и тому подобное. Если кто-либо из очевидцев действительно не имел абсолютно ясного и неопровержимого в своей реальности опыта, если он не воспринимал неоднократно собственными органами чувств того, что Иисус физически присутствует рядом с учениками, говорит с ними, ест перед ними, предлагает сомневающимся прикоснуться к Его рукам и ребрам – то просто невозможно поверить, что он внял бы призывам своих товарищей продолжать, невзирая ни на что, публичное свидетельство о подобном опыте. Настоящая угроза смерти, если перефразировать Сэмюэла Джонсона, изумительным образом способствует сосредоточенной работе ума, и когда ему требуется оценить реальность тех или иных фактов, он умеет отделить пшеницу от плевел.
Отсюда мы должны заключить, что если тринадцать очевидцев и в самом деле влияли друг на друга, побуждая один другого к продолжению свидетельства, то наилучшим объяснением самого этого положительного влияния будет следующее: они действительно видели и слышали то, что, по их словам, они видели и слышали. Взаимная зависимость между готовностью каждого из тринадцати умереть возникает в данной ситуации лишь при допущении, что они имели прямые, неопровержимые, восходящие к их собственному опыту доказательства истинности того, о чем они рассказывали, и побуждали друг друга не поддаваться страху смерти и не отрекаться от истины ради спасения своей жизни. Здесь, как и в других случаях, внимательно присмотревшись к тому, как конкретно рушится принцип взаимной независимости, мы обнаружим, что более правдоподобным объяснением готовности всех без исключения очевидцев упорно продолжать то свидетельство, с которым они фактически выступали, оказывается именно R – а не исходящие из ~R гипотезы религиозного энтузиазма или же какого-то неопределенного небесного видения; хотя при иных обстоятельствах эти факторы могли бы обусловить готовность целой группы верующих умереть и их способность укреплять друг друга в этой готовности. В данном случае допущение независимости вновь приводит к недооценке доказательной силы аргументов в пользу R.
Нам могут возразить: вы заранее предполагаете, что ~R объясняет реальные факты менее убедительно, чем R. По большей части так оно и есть; существуют, однако, две гипотезы, принимающие ~R, но не уступающие по степени своей вероятности R в качестве способа объяснения положительной зависимости между свидетельствами тринадцати: (1) гипотеза, согласно которой все тринадцать случайно испытали аналогичные по содержанию – восприятие воскресшего Иисуса – и совершенно неотразимые по своей субъективной убедительности галлюцинации, иными словами, имели точно такой же опыт, какой получили бы они в том случае, если бы Иисус действительно восстал из мертвых и являлся им, говорил с ними, предлагал совместно вкушать пищу и так далее – хотя на самом деле R не имело места; и (2) особая версия гипотезы видения (мы назвали ее О*), на уровне чисто феноменологических следствий полностью совпадающая с (1), но дополненная тезисом о том, что соответствующий опыт был ниспослан ученикам Богом или обретающимся на небесах Иисусом.
Мы уже рассмотрели гипотезу галлюцинации и отвергли ее как совершенно неправдоподобную, при допущении ~R. То же самое мы утверждали относительно О*: ее способность объяснить факты, как и в случае с натуралистической гипотезой галлюцинации, приобретается ценой того, что при ~R сама О* может претендовать лишь на мизерную часть общего пространства вероятностей. Но неправдоподобность этих теорий станет особенно явной, когда мы попросим их сторонников дать объяснение не просто факта свидетельства со стороны каждого из очевидцев в отдельности, но их способности поддерживать друг друга в твердой решимости продолжать это свидетельство перед лицом смертельной угрозы. Ведь чтобы это объяснить, подобные теории должны состоять в ближайшем родстве с Декартовой гипотезой Злокозненного Гения-Обманщика, иначе говоря, все должно происходить в точности так, «как если бы» Иисус действительно воскрес, и это «как если бы» должно относиться ко всем тринадцати очевидцам одновременно, когда они собираются вместе, общаются, взаимодействуют и т. д. Если же подобная гипотеза не подразумевает, что на уровне непосредственного восприятия все происходило именно так, как если бы Иисус после своего воскресения на самом деле являлся ученикам, живой и в физическом облике (во что твердо верили сами ученики), то возникает уже рассмотренная нами трудность, характерная для любых апелляций к «религиозному энтузиазму» или к неким «более смутным» видениям: свидетели, чей опыт общения с воскресшим Христом не переживался ими самими как нечто абсолютно ясное и достоверное, скорее всего, не вняли бы увещаниям своих товарищей и не смогли бы устоять в вере. Если же А удается убедить В твердо держаться какого-то вполне эмпирического утверждения, то наилучшим объяснением данного факта будет предположение, что сам В уже имел на этот счет настолько ясный и несомненный опыт, что теперь он знает: А убеждает его делать то, что он, В, в любом случае обязан делать. То же верно, если колеблется из страха А, а В морально его поддерживает386. Предельно низкая априорная вероятность этих двух гипотез становится особенно очевидной, когда мы принимаем как факт и пытаемся объяснить результат взаимной поддержки такого числа свидетелей.
При оценке объяснительной силы той или иной гипотезы важно помнить, что если априорная вероятность дополнительной гипотезы Н ничтожно мала при условии ~R, то Н, пусть даже она позволяет предсказать соответствующие факты с высокой степенью вероятности, не слишком увеличит среднюю вероятность этих фактов при ~R – а именно это и имеет для нас значение при вычислении байесовского фактора. В рамках радикальной теории галлюцинаций, как, впрочем, и теории объективного видения (весьма напоминающего галлюцинации) эти два факта – стойкость учеников и их свидетельства – можно объединить так же непротиворечиво, как и на основе R, только вот ~R как целому такая интерпретация свидетельств едва ли особенно поможет, ибо сами эти теории остаются вопиющим образом неправдоподобными при ~R. Итак, рассматривая ~R в целом, мы приходим к выводу, что решающее неравенство оказывается благоприятным для R; иначе говоря, приняв во внимание влияние учеников друг на друга, мы заключаем, что ожидать такого рода влияния было бы естественнее при допущении R, нежели при допущении ~R. Следовательно, допущение независимости – уже позволившее нам вывести столь внушительный фактор Байеса для свидетельств и стойкости тринадцати очевидцев – фактически даже преуменьшает реальную силу их совокупных свидетельств.
Максима Юма и мировоззренческие проблемы
Как свидетельствует история, критики исторической аргументации в пользу воскресения использовали две стратегии. Первая состоит в детальном анализе доказательств – то есть в попытках оспорить факты, на которые опирается данная версия исторической аргументации, и/или предложить альтернативное, исключающее понятие чуда, объяснение соответствующих фактов. Вторая стратегия предполагает движение окольными путями – всячески избегать подробностей, но выискивать такие чрезвычайно общие соображения или абстрактные аргументы, которые позволили бы критику, не «связываясь» с конкретными фактами и доводами, разрушить историческое доказательство как таковое в самой его основе. На предыдущих страницах мы уже вели речь о некоторых важнейших приемах, характерных для первой стратегии. Теперь мы обращаемся ко второй.
Самым известным ее примером стало эссе Юма «О чудесах», впервые опубликованное в 1748 году. В первой его части Юм излагает аргументы, призванные доказать принципиальную неразумность всякой веры в чудеса, на какие бы свидетельства она ни опиралась. Юм объясняет:
Чудо есть нарушение законов природы, а так как эти законы установил твердый и неизменный опыт, то доказательство, направленное против чуда, по самой природе факта настолько же полно, насколько может быть полным аргумент, основанный на опыте... Если умерший человек оживет, это будет чудом, ибо такое явление не наблюдалось никогда, ни в одну эпоху и ни в одной стране. Таким образом, всякому чудесному явлению должен быть противопоставлен единообразный опыт, иначе это явление не заслуживает подобного названия. А так как единообразный опыт равносилен доказательству, то против существования какого бы то ни было чуда у нас есть прямое и полное доказательство, вытекающее из самой природы факта, причем оно может быть опровергнуто только противоположным, более сильным доказательством и только в последнем случае чудо может стать вероятным (Юм 1902, сс. 129–130).
Суть сказанного, очевидно, такова: любое сообщение о чуде, по определению, эпистемологически ущербно, ведь само чудо определяется здесь таким образом, что против его реальности всегда можно выставить довольно сильные и, пожалуй даже, неопровержимые доводы. Там же, где имеет место, по словам Юма, «столкновение между двумя противоположными опытами» (Юм 1902, с. 128), – свидетельством в пользу чуда и свидетельством в пользу нерушимого единообразия законов природы, – то из них, которое «настолько же полно, насколько может быть полным аргумент, основанный на опыте», едва ли уступит своему конкуренту.
Однако сам этот термин – «столкновение двух опытов» – вводит нас в заблуждение. Дело в том, что о воскресении Христа мы располагаем прямыми свидетельствами. Что же до эмпирического наблюдения «умершие обычно остаются мертвыми», то оно, конечно, должно приниматься в расчет при определении вероятности воскресения в каждом отдельном случае, но его связь с этой вероятностью имеет косвенный и индуктивный характер, а доказательная сила отнюдь не достигает той убедительности, какая имела бы место, если бы все или даже некоторые из этих очевидцев сами видели холодное, безжизненное и неподвижное тело Иисуса и противопоставили свое утверждение свидетельству женщин и учеников, заявлявших, что в этот самый момент Иисус был жив, здоров и беседовал со своими учениками в Галилее. Разумеется, аргументы индуктивного характера порождают некоторые основания для недоверия к данному конкретному сообщению о чуде, но, как подчеркивает главный герой «Испытания свидетельств в пользу воскресения» Томаса Шерлока, сами эти основания нельзя считать неопровержимыми доводами:
Представим, что вы видели, как какого-то человека публично казнили, затем изувечили его тело рукою палача, унесли и положили в гроб – после чего вам сообщают, что человек этот вернулся к жизни. В чем бы вы в таком случае усомнились? – Разумеется, не в том, что он умер, ведь вы сами были свидетелем его смерти. Очевидно, вы бы не поверили, что он все еще жив. Но разве стали бы вы утверждать, что этот случай исключает любые человеческие свидетельства и что люди совершенно не способны определить, жив или мертв тот, с кем они еще недавно тесно общались? На каком основании могли бы вы это утверждать? Человек, восставший из гроба, есть объект, доступный нашим чувствам, и он может представить точно такие же, непосредственно нами воспринимаемые, доказательства того, что он жив, как и всякий другой человек. Следовательно, воскресение, если рассматривать его лишь как факт, подлежащий эмпирическому доказательству, не заключает в себе ничего особенного и не требует от свидетелей больших дарований, нежели способность отличить мертвого человека от живого – в чем, по моему разумению, всякий ныне здравствующий человек полагает себя вполне компетентным судьей.
Охотно соглашаюсь: для того, чтобы мы поверили в данное событие (и другие, сходные с ним по природе), требуются более убедительные доказательства, чем в обычных случаях, и мы вправе требовать здесь более убедительных доказательств, чем в прочих случаях; но ведь было бы нелепостью утверждать, что подобные случаи – где речь идет о вещах, явным образом доступных для наших чувств, – вообще не допускают доказательств (Sherlock 1765, рр. 63–64).
Первую часть своего опыта Юм заключает следующей «общей максимой»:
Никакое свидетельство недостаточно для установления чуда, кроме такого, ложность которого была бы большим чудом, нежели тот факт, который оно стремится установить (Юм 1902, с. 131).
Все это весьма эффектно звучит, но вряд ли представляет собой особенно глубокое проникновение в суть дела. При ближайшем рассмотрении оказывается, что максима Юма означает не более чем следующее: чтобы некоторое событие можно было считать правдоподобным, соответствующие свидетельства должны представлять его скорее вероятным, чем невероятным. Как замечает Джон Эрман:
Все те участники споров XVIII века о возможности чудес, которые находились с Юмом по разные стороны баррикад, отлично знали, что утверждения о чудесах могут быть надежно обоснованы лишь с помощью чрезвычайно веских доказательств. Они полагали, что в некоторых случаях им удалось представить необходимые доказательства. Возможно, они ошибались. Но для демонстрации их неправоты требуется все же нечто большее, чем высокопарно изрекаемые банальности (Earman 2000, р. 42).
Если же Юм, – заключает Эрман, – вознамерился разумными доводами разрушить аргументацию в пользу воскресения в самой ее основе, то он обязан был сделать именно то, что он так решительно отказывался делать – «оставить позиции на высотах и спуститься в окопы», чтобы там, на месте, опровергать вполне конкретные исторические факты, свидетельствующие в пользу христианства (Earman 2000, р. 70).
Эрман убедительно доказывает, что максима Юма, если рассматривать ее с вероятностной точки зрения, есть лишь безобидный трюизм (Earman 2000, рр. 38–43). Но не могли бы мы истолковать Юма несколько иначе или, по крайней мере, высказать в духе Юма нечто такое, что избавило бы скептика от необходимости спускаться в окопы?
В одном из писем к Хью Блэру Юм обронил замечание, проливающее некоторый свет на то, почему он считал, что непременно должен существовать довод, способный одним махом опровергнуть любые утверждения о чудесах. «Неужели, – вопрошает Юм, – разумный человек станет возиться с каждой глупой басней о ведьмах, гоблинах и феях и подробно разбирать здесь каждое свидетельство в отдельности?» (Campbell 1839, р. 7; см. Earman 2000, р. 59). По-видимому, этот вопрос дает скептику зацепку, необходимую для того, чтобы превратить максиму Юма в нечто большее, чем тезис: для обоснования веры в чудо требуются достаточно веские доказательства. Если лежащий у кассы на выходе из супермаркета таблоид возвещает, что маленькие зеленые человечки высадились на кукурузном поле в одном из штатов Среднего Запада, захватили несколько человек и объявили о своем намерении подчинить своей власти планету Земля, то большинство из нас, разумеется, не станет тратить свое драгоценное время на чтение свидетельств «очевидцев», пусть даже те выражают полную готовность умереть ради спасения рода людского от пришельцев; мы, вероятно, сочтем, что они были не в своем уме, либо затеяли какую-то мистификацию, либо находились в момент этого «происшествия» под действием галлюциногенных препаратов.
Столкнувшись с утверждениями о чудесных событиях, скептики скорее всего займут сходную позицию, полагая, что им нет нужды утруждать себя дотошным анализом конкретных свидетельств в конкретных случаях, ибо априорная вероятность чудес настолько мала, что, как и в случае с похищением людей инопланетянами, тратить время на исследование любого сообщения о чудесах попросту не стоит. И даже христианские апологеты высказывали в той или иной степени свое беспокойство по поводу того, что априорная вероятность чуда может оказаться «слишком низкой», сделав таким образом неэффективными их попытки доказать реальность частных откровений со стороны Бога.
Одна из самых умеренных и философски точных формулировок, выражающих подобную тревогу, принадлежит Ричарду Суинберну:
Сообщения о результатах наблюдений по справедливости вызывают глубокий скепсис, если существование самих феноменов, ставших, как нас уверяют, объектом наблюдения, исключается какой-то надежно доказанной общепризнанной теорией. Если у вас есть авторитетная общая теория, которая гласит, что в небесной области не происходит изменений... то и в конкретном случае вы с полным правом отмахнетесь от сообщений неких наблюдателей, утверждающих, что они заметили появление новой звезды там, где прежде никаких звезд не было (Swinburne 1992, р. 69).
Разумеется, речь здесь не идет об утверждении Суинберна, будто ни одно свидетельство в пользу откровения в принципе не способно преодолеть «слишком малую» априорную вероятность. Суинберн слишком хорошо знаком с теорией вероятностей, чтобы заявлять подобное; он лишь указывает на то, что утверждения о фактах откровения потребуют для своего обоснования меньше конкретных свидетельств, чем при любых иных обстоятельствах, если у нас уже имеется свидетельство из области естественного богословия, благодаря которому вероятность чуда хоть немного, но возвышается над отметкой «совершенно ничтожная».
Другие же авторы, менее сведущие в проблемах теории вероятностей, чем Суинберн, прямо утверждали, что естественное богословие должно предшествовать исторической апологетике, ибо в противном случае было бы невозможно обосновать конкретные утверждения о чудесах.
Естественное богословие показывает, что Бог есть. Если Бог есть, то чудеса возможны. Если существует Бог, который создал этот мир и управляет им, то не может быть сомнений, что Он способен видоизменить свой образ действий. С другой стороны, если бы мы не знали о существовании Бога, нам пришлось бы принять иррациональное представление о том, что природа действует посредством случайностей... Чудеса не способны доказать бытие Бога – только бытие Бога дает нам доказательство возможности чудес. Иными словами, о самой возможности чудес мы вправе говорить лишь в том случае, если у нас уже есть убедительные аргументы в пользу существования Бога (Sproul, Lindsey & Gerstner 1984, р. 146).
Спраул и его соавторы (даже если оставить в стороне неточность в употреблении термина «доказательство») допускают здесь, похоже, элементарную ошибку с границами понятий, смешивая «незнание о том, что Бог есть» и «знание о том, что Бога нет». Коль скоро эта ошибка уже сделана, их заявление о том, что естественное богословие должно предшествовать обоснованию возможности чудес, кажется уместным, но ведь без нее данный тезис ни на чем не основан. Впрочем, даже если бы этой элементарной ошибки и не было, нас, пожалуй, по-прежнему мучил бы вопрос: можно ли приводить доводы в пользу реальности какого-либо конкретного чуда, не продемонстрировав вначале, опираясь на уже имеющиеся аргументы, что вероятность существования Бога достаточно высока?
В особой важности нашей предварительной установки по отношению к проблеме чудесного твердо убеждены не только современные апологеты, подобные Спраулу – самые решительные утверждения на сей счет исходят как раз от тех, кто занимает в этом споре противоположную позицию. Сам Юм отнюдь не был сторонником естественного богословия и, выдвигая свою максиму, он вряд ли задавался целью побудить апологетов к подготовке надежного фундамента для дальнейшей аргументации с помощью каких-то положений из области естественного богословия. Маркиз де Лаплас, неявным образом воспроизводя логику Юма, так оценивает рассказы о чудесах: «Есть вещи настолько странные и необычные, что представлению об их невероятности нам просто нечего противопоставить» (Laplace 1840, р. 119). А Дж.Л. Маки, прямо ссылаясь на Юма, утверждает следующее:
Одна из сторон в этом споре сразу же занимает, как минимум, агностическую позицию, отказываясь допускать существование какой-либо сверхъестественной силы вообще. С данной точки зрения степень внутреннего неправдоподобия всякого «чуда» в подлинном смысле этого слова... представляется весьма значительной, и то или другое из имеющихся у нас альтернативных объяснений всегда окажется гораздо более вероятным – т. е. либо предполагаемое событие не имело чудесной природы, либо такого события вообще не произошло.
Отсюда следует явная невозможность того, чтобы люди, изначально склонные к атеизму и даже к агностицизму, сочли сообщения о чудесах сколько-нибудь серьезным доводом в пользу теизма... Мало того, что такие рассказы, взятые сами по себе, бессильны в чем-либо разумно убедить – они даже не способны что-либо прибавить к той своего рода груде или батарее аргументов, о которой шла речь во введении. И в этом Юм прав... (Mackie 1982, р. 27).
Лаплас и Юм не просто предлагают констатирующие описания того, что, по их мнению, станет думать скептик или с чем, по всей видимости, его можно или нельзя будет заставить согласиться. Они выступают с прямыми утверждениями о том, каким – с необходимостью – должен быть характер данной эпистемологической ситуации: если вы не верите в Бога, то уже никакие доводы не смогут вас переубедить387.
Но есть ли у нас основания думать, что все это соответствует действительности? По-видимому, Лаплас и Маки выдвигают здесь нечто похожее на тезис Спраула: считать чудеса возможными человек вправе лишь в том случае, если он уже верит в Бога. Выраженная в терминах теории вероятностей, мысль эта, судя по всему, звучит так: на шкале априорной вероятности чуда есть некий предел, критическая точка, и находится она «слишком низко», чтобы доказательства – любые доказательства – оказались способны ее преодолеть, как если бы склон, на который предстоит «взбираться» этим доказательствам, превращался в крутой и скользкий откос, на котором просто невозможно удержаться. Понятие же чрезвычайно большой – непреодолимо большой – априорной невероятности, несомненно, вполне соответствует духу рассуждений Юма.
Пока что мы имеем дело лишь с некоей смутной интуицией, которая к тому же, если подойти к ней с позиции теории вероятностей, кажется просто неверной. Ведь любая реальная, отличная от нуля априорная невероятность может быть преодолена при наличии достаточно убедительных доказательств. Практически все критики Юма, как и многие ортодоксальные авторы до него, подчеркивали, что такого рода исходных допущений, в принципе не поддающихся опровержению, просто не бывает. Как заметил Гладстон, «не существует такого крайнего предела достоверности – практической, не абстрактной, – к которому вероятные доказательства не смогли бы нас привести по своим полого поднимающимся тропам» (Gladstone 1896, р. 349; ср. Earman 2000, р. 53 и далее).
Чтобы правильно оценить это утверждение, мы могли бы воспользоваться вероятностной формулировкой, предложенной Джорданом Говардом Собелом: когда мы рассматриваем вопрос, имело ли место некоторое чудо, и нам предлагают нечто, претендующее на роль фактов, это чудо доказывающих, то необходимым условием для того, чтобы апостериорная вероятность чуда, основанная на этих доказательствах, могла превысить 0,5, является следующее:
Р(М|К) > Р(~М & Е|К) (Sobel 2004, р. 317).
Иными словами, априорная вероятность чуда должна превышать априорную вероятность того, что чуда не произошло, хотя упомянутые факты (свидетельства) имеются у нас в наличии. На первый взгляд кажется, что данное неравенство подвергает априорную вероятность чуда колоссальному эпистемологическому давлению и внушает апологету серьезную тревогу на предмет того, что эта априорная вероятность может оказаться «слишком низкой». Ведь если мы заранее допускаем (а нам следует так поступить), что, какими бы ни были уже известные нам, фоновые, факты, М является менее вероятным, чем ~М для любого чуда, то, очевидно, затем перед нами должен встать вопрос: «Насколько менее вероятным?» А что, если намного менее вероятным? Не означает ли это, что для единственного доступного нам вида доказательств задача преодоления столь большого априорного неравенства может оказаться «непосильной»?
Рассмотрим одну из версий неравенства Собела, анализируемую у Эрмана. Здесь для простоты принято, что заблуждение является единственной причиной, по которой очевидец мог бы свидетельствовать о чудесном событии, если на самом деле этого события не произошло (Earman 2000, рр. 47–48). Понятие «заблуждения» включает в себя здесь, очевидно, ошибку, самообман и преднамеренный обман со стороны других людей. Тогда P(D|~M & К) есть попросту то же самое, что и P(t(M)|~M & К), где t(M) означает свидетельство о чуде. В результате мы получаем особый случай неравенства Собела: необходимым условием для того, чтобы апостериорная вероятность чуда, основанная на t(M), могла превысить 0,5, является следующее:
Р(М|К) > P(~M|K)P(D|~M & К).
Правая часть здесь равна Р(~М & D|K), соответствующей правой части упрощенной версии неравенства Собела, так как при данных допущениях получить «доказательства» чуда, которого в действительности не произошло, можно лишь находясь в заблуждении. Если апологет признает, что априорная вероятность ~М очень высока, то это неравенство может сохранить силу лишь при условии чрезвычайно низкой вероятности того, что свидетель ошибочно верит в реальность чуда. А коль скоро мы признали, что априорная вероятность чуда является низкой, то разве не будет неразумным с нашей стороны считать, что она выше, чем вероятность заблуждения свидетеля?
Но ведь скептик, желающий утверждать подобное, не может оставаться «над схваткой». Выше мы продемонстрировали, что с учетом байесовских факторов для отдельных элементов нашего доказательства их совокупное действие преодолевает априорную вероятность R в 10–40 и при этом дает нам апостериорную вероятность, составляющую приблизительно 0,9999. При наличии чрезвычайно сильных доказательств можно преодолеть даже крайне низкую априорную вероятность. К этому доводу следует относиться всерьез, ведь он весьма ясно указывает, что не существует такого поддающегося точному определению уровня априорной вероятности, который был бы настолько низким, что его, словно «крутой и скользкий откос», было бы невозможно преодолеть с помощью каких бы то ни было доказательств.
Конечно, главным аргументом при защите определенных нами байесовских факторов служит крайне низкая вероятность соответствующих конкретных фактов при условии ~R – это касается, насколько можно судить уже теперь, и чрезвычайно слабых шансов на объяснение этих фактов с помощью гипотез, согласно которым очевидцы «заблуждались» – т. е. ошибались или находились в состоянии самообмана, – когда думали, что в продолжение 40 дней они видели воскресшего Христа. Но этот вопрос можно решить лишь путем анализа конкретных свидетельских показаний – именно тех, о которых идет у нас речь, показаний, которые были даны при конкретных обстоятельствах. Мы не рассматриваем здесь абстрактно, «вообще» вероятность того, что то или иное чудо могло и не произойти, а тот или иной свидетель при неких, точно не определенных обстоятельствах мог бы ошибочно считать это чудо реальным событием. Конкретные факты, предлагаемые в качестве доказательств, и конкретные обстоятельства – вот чем мы должны всякий раз заниматься. А из того, что мы, если можно так выразиться, заглядываем вперед и анализируем вероятность воображаемой ситуации, при которой воскресения не произошло, но соответствующие свидетельства о воскресении у нас имеются, отнюдь не вытекает, будто данный вопрос мы рассматриваем абстрактным образом.
Кроме того, неравенство Собела в действительности не дает нам какого-то особенно глубокого эпистемологического проникновения в суть проблемы, хотя бы потому, что оно является необходимым, но недостаточным условием превышения апостериорной вероятностью чуда величины 0,5 – факт, который отметил также Эрман (Earman 2000, р. 40), когда отверг его в качестве возможной интерпретации Юма. Если бы, например, Р(Е|М) было равно или даже меньше, чем Р(Е|~М), то условие Е не смогло бы поднять апостериорную вероятность М выше величины 0,5.
Вспомним шансовую форму теоремы Байеса применительно к чуду и предполагаемым свидетельствам в его пользу:
| h6C Р(М|Е) | h6C = | h6C Р(М) | h6C × | h6C Р(Е|М) |
| h6C Р(~М|Е) | h6C Р(~М) | h6C Р(Е|~М) |
Задачу увеличения вероятности М – от априорно мизерной до апостериорно весьма значительной и даже чрезвычайно внушительной – должно выполнить отношение правдоподобий, т. е. второе отношение в правой части данного уравнения. Верно, что если апостериорная вероятность М больше 0,5, то условия неравенства Собела удовлетворяются. Но сила нашего доказательства зависит от отношения правдоподобий, и если этого отношения достаточно, чтобы апостериорная вероятность М превысила 0,5, то это просто означает, что фактор Байеса выполнил условия данного неравенства, поскольку соответствующие факты убедительно подтверждают М.
Вперив взор в неравенство Собела и вопрошая себя, превосходит или нет априорная вероятность М априорную вероятность добросовестного заблуждения или умышленного обмана со стороны кого-то из свидетелей, мы узнаем очень немного. Во-первых, подобная процедура, когда рассматривается только само неравенство, а не доказательная сила фактов (посредством анализа байесовского фактора) и не какая-либо конкретная априорная вероятность R, лишь укрепит нас в уже сложившемся предвзятом мнении: либо в пользу чуда, либо против его возможности. Теист или христианин способен преувеличить истинную силу данного доказательства, если он считает, что единственная его задача – разобраться которая из вероятностей выше: ложности показаний свидетеля или реальности чуда. Со своей стороны, скептик может небрежно заметить, что он-де всегда будет считать это неравенство невыполнимым. Если же мы вместо всего этого сосредоточимся на доказательной силе самих фактов (как это и происходит в настоящей аргументации), то скептику волей-неволей придется спросить себя, действительно ли он думает, что априорная вероятность воскресения ниже, чем что-то около 10–43, и если – да, то почему он так думает.
Более того, всякий, кто станет размышлять об этом неравенстве, игнорируя конкретные свидетельства очевидцев и их конкретный исторический контекст, почти наверняка ошибется в своей итоговой оценке вероятности. Согласно Маки, даже скептик, если ему кажется, что он собственными глазами видел чудо, должен будет в подобной ситуации признать возможность обмана чувств, «как это ясно любому человеку, которого когда-либо водили за нос фокусники» (Mackie 1982, р. 28). Но неужели в реальной действительности найдется балбес, способный заявить, будто некто, совершив ловкий трюк в стиле Дэвида Копперфильда, внушил ученикам ложное мнение о том, что Иисус воскрес? Когда речь идет о воскресении, ссылки на искусство иллюзионистов неуместны, и задавать чуждый всякой конкретики вопрос – вероятна ли ситуация, когда чуда не произошло, но кто-то, скорее всего одураченный трюком фокусника, пребывает на сей счет в заблуждении? – значит направлять нашу мысль по ложному пути. Спрашивать здесь следует о другом: какова вероятность того, что Иисус не воскресал, однако женщины свидетельствовали, что Его гробница пуста и что они сами видели Его живым; а тринадцать мужчин все как один готовы были умереть за свое утверждение о том, что они видели Его, говорили с Ним и в продолжение 40 дней получили громадное количество прямых, эмпирических доказательств Его физического воскресения; а яростный гонитель Его приверженцев совершенно внезапно, под действием того, что сам он назвал видением воскресшего Иисуса, превратился в пылкого проповедника христианского учения? И какова вероятность того, что все это произошло в контексте жизни иудеев I века, со всем, что предполагали ее условия – отсутствием шансов на успешное мошенничество, реальной перспективой казни за подобные утверждения, недоверием к свидетельствам женщин и т. д.? Иначе говоря, скептик обязан тщательно исследовать сравнительную способность R и ~R объяснить эти особые факты в их действительном. историческом контексте.
Здесь стоило бы также упомянуть критическую оценку Эрманом своей собственной скептической позиции. Эрман доказывает – пространно, тщательно и убедительно, – что никакого принципиального и неопровержимого довода против возможности установить факт чуда посредством свидетельств не существует, после чего замечает, что его согласие с Юмом сводится, по сути, к следующему: лично он, Эрман, подобно Юму, «не склонен» входить в подробный анализ свидетельств в пользу конкретных утверждений о чудесах, даже таких свидетельств, которые были даны многочисленными очевидцами. С очаровательной откровенностью Эрман тут же признает, что эта его несклонность не может получить какого-либо априорного философского обоснования и не в силах дать нам какой-либо возвышенный принцип, которым мы могли бы руководиться в дальнейших исследованиях. Любопытно, однако, отметить, какую именно форму принимает здесь его скепсис. Эрман проводит аналогию между историями о похищении людей, которые совершали пришельцы из НЛО, религиозными утверждениями о чудесах и, в частности, свидетельствами об исцелениях верой, говоря, что лично он склонен усматривать за всем этим «совершенно очевидную атмосферу коллективной истерии, а потому утверждения охваченных ею людей не способны удовлетворить даже минимальным критериям достоверности» (Earman 2000, рр. 59–61).
Минимальный критерий достоверности, как его определяет Эрман, означает следующее требование: байесовский фактор события, о котором свидетельствует очевидец, должен обеспечивать преимущество М (реальность чуда) перед ~М. Упоминание же Эрманом об атмосфере, или общей обстановке, в которой происходит исцеление верой, и подскажет апологету ответ на скептицизм такого сорта. Ибо, как мы уже неоднократно подчеркивали, свидетели, утверждавшие, что они видели воскресшего Христа, как раз не находились тогда в состоянии очевидного возбуждения или истерической экзальтации и, сходясь вместе, они вовсе не чаяли узрения каких-то чудес. Напротив, женщины собирались помазать мертвое тело, а ученики затаились в страхе; к утверждениям же о воскресении Иисуса они выказывали явное недоверие. Если мы вообще соглашаемся с аргументами в пользу того, что эти люди называли себя свидетелями воскресшего Иисуса, то делать это мы должны на основании текстуальных источников; источники же дают нам веские доводы против гипотезы, согласно которой они сами, напряженно ожидая чуда, довели себя до безумного исступления и в итоге оказались жертвами весьма длительных и сложных по своей структуре галлюцинаций. Иными словами, сам этот термин – «достоверность» свидетельств – немного сбивает нас с толку. Скорее, здесь следует говорить о способности данной гипотезы объяснить реальные события. Эта объяснительная сила может, конечно, зависеть от каких-то дополнительных сведений о честности и добросовестности того или иного свидетеля, вдруг оказавшихся в нашем распоряжении, но она также определяется, и в немалой степени, способностью альтернативных гипотез убедительно объяснить конкретные утверждения свидетелей, сделанные в конкретных условиях. Байесовский фактор включает точную оценку всего этого, и именно по этой причине Эрман вполне справедливо замечает:
Я признаю, что это такого рода убеждение, для обоснования которого требуются не отвлеченные философские аргументы и не эффектные фразы вроде «необыкновенные утверждения требуют необыкновенных доказательств», но скорее тщательные и непростые эмпирические исследования... всех подробностей каждого конкретного случая (Earman 2000, р. 61).
Все это возвращает нас к попытке уклониться от анализа этих подробностей, ссылаясь на другие утверждения о чудесах. Современной версией Юмова замечания из письма к Хью Блэру служит пренебрежительная реплика скептика в адрес апологета: «Вы что, всерьез намерены разбирать все без исключения доводы в пользу каждого утверждения о похищении людей пришельцами из НЛО?» Мы же ответим следующее: даже беглое знакомство с подобными историями демонстрирует, что у них нет того права притязать на наши исследовательские усилия, какое имеется у свидетельств в пользу воскресения Иисуса Христа. Был ли кто-либо побит камнями, распят на кресте или убит мечом за утверждение о том, что его прокатили на космическом корабле? С первого взгляда ясно, что для того типа фактов, которыми располагаем мы в подобных случаях, гипотеза обмана служит несравненно более убедительным объяснением, чем для свидетельств о воскресении Христа.
Христианину никогда не следует говорить, что свидетельство как таковое, свидетельство о любом событии, при любых обстоятельствах и в каком угодно контексте, вправе претендовать на наше внимание и доверие. Он должен всякий раз указывать на совершенную уникальность и неотразимую убедительность конкретных свидетельств в пользу главного чуда своей собственной веры. Как сказал Жак Сорен (Saurin 1843, vol. 1, р. 193), тщательно разобрав все свидетельства о воскресении, «Когда еще радость была столь рациональной?»
Принцип убывающих вероятностей Плантинги
Одно из немногих по-настоящему оригинальных и основанных на теории вероятностей возражений против исторического аргумента в пользу христианства предложил несколько лет тому назад известный христианский философ Алвин Плантинга. Контраргументация Плантинги имеет форму вероятностной стратегии, опирающейся на то, что сам он называет Принципом Убывающих Вероятностей (ПУВ) (Plantinga 2000, рр. 268–280).
Плантинга пытается дать в вероятностных терминах общую характеристику той формы, которую, на его взгляд, принимает историческая аргументация в пользу христианства; тем самым он намеревается продемонстрировать, что она не может обладать той доказательной силой, какую усматривают в ней апологеты. В его версии исторического аргумента ряд пропозиций соединяется в общую цепь, каждой из них приписывается определенная вероятность (и, по мнению Плантинги весьма щедро), а вычисление вероятности одной пропозиции при условии другой (или множества других) рассматривается как шаг аргумента. Свою реконструкцию Плантинга начинает с наших базовых, фоновых знаний (К), которые он определяет как «то, что все или почти все уже знают, или считают само собой разумеющимся, или же то, в чем все твердо убеждены, – во всяком случае, то, что уже знают, или считают само собой разумеющимся, или же в чем убеждены люди, занимающиеся данным исследованием». Затем он формулирует основное положение теизма:
Т: Бог существует
и, в целях дальнейшей аргументации, приписывает ему вероятность не менее 0,9 при условии К. Затем он рассматривает вероятность (всякий раз зависящую от наших базовых знаний) того, что при Т,
А: Бог пожелал бы даровать человечеству некоторое откровение о себе самом.
Допустив и это, Плантинга переходит к
В: Учение Иисуса было таково, что его разумная интерпретация делала возможным переход к G, великим положениям Евангелия,
где G включает в себя основные христианские учения – о грехе, воплощении, искуплении и возможности всеобщего спасения. Предположив К, Т, А и В, Плантинга далее рассматривает вероятность того, что
С: Иисус воскрес из мертвых.
После чего, сведя воедино К, Т, А, В и С, Плантинга утверждает:
D: Воскресив Иисуса из мертвых, Бог тем самым одобрил Его учение.
Наконец, Плантинга рассматривает вероятность при условии К, Т, А, В, С и D следующего заключения:
E: Перенос и распространение учения Иисуса на G являются оправданными.
Плантинга утверждает, что поскольку связи между этими пропозициями не имеют дедуктивного характера, то мы должны считаться с возможностью разрыва данной цепи в любом ее звене. Поэтому он перемножает вероятности, вычисленные им с использованием формулы общей вероятности, и получает величину, лишь немного превосходящую 0,21. Отсюда он делает вывод: самое большее, о чем мы вправе здесь говорить, это что Р(Е|К) ≥ 0,21. А поскольку Плантинге кажется, что, определяя степени вероятности отдельных пропозиций, он грешил чрезмерной щедростью, то он думает, что это неизбежно приводит к преувеличению реальной силы исторического аргумента в пользу истинности христианства. «Имеющихся у нас знаний, исторических и прочих, – заключает Плантинга, – совершенно недостаточно для надежного обоснования серьезной веры в G» (Plantinga 2000, р. 280).
Однако предложенная Плантингой версия исторического аргумента имеет ряд специфических черт, из-за которых соответствующая аргументация может показаться менее убедительной, чем она есть на самом деле. Разобравшись с недостатками его подхода как к формулировке, так и к критике исторического аргумента, мы сможем яснее уловить связь между историческим аргументом, с одной стороны, и естественным богословием и теизмом – с другой.
Успех попытки применить ПУВ к историческому аргументу в решающей степени зависит от логической обоснованности. Почему и в каком смысле Плантинга считает теизм необходимой предпосылкой христианства? И каким образом это представление о логической связи между ними оказывается недостаточным, а следовательно, сбивающим нас с толку при определении совокупной силы соответствующих доводов?
Чтобы понять, почему Плантинга находит возможным применение ПУВ к историческому аргументу, разберем общий метод трактовки ряда фактов и конечного вывода сквозь призму ПУВ. Начнем с некоторой пропозиции А, находящейся в положительной связи с некоторой другой пропозиции В, но безусловно слабей, чем В – т. е. А вытекает из В, но не наоборот. Возьмем такие пропозиции А и В, чтобы более слабую из них, А, можно было считать посылкой для аргумента в пользу более сильной, В. Заметьте, что, с учетом тех фактов, которые следует считать известными при нормальных условиях, А будет более вероятной, чем В, а значит, составит верхний предел для Р(В). Определим – предварительно, «на глаз» – вероятность А при условии всех известных нам фактов; при этом постараемся проявить в нашей оценке некоторую щедрость. Рассматривая А в качестве посылки для В, построим доказательство, которое будет состоять из цепи пропозиций, ведущих нас от А к В. Используем формулу полной вероятности для демонстрации того, что нижняя граница неравенства, выражающего Р(В) с учетом всех известных нам фактов может оказаться гораздо ниже, чем первоначальная оценка вероятности А. Наконец, торжественно отметим, что, коль скоро такая «щедрая» оценка вероятности А при условии всех известных нам фактов была сделана, то все остальные вероятности «катятся под уклон» (см. Me Grew & Me Grew 2006, р. 30).
Что касается Плантинги и его примера с историческим доказательством, то более простая пропозиция, с которой он начинает, есть утверждение чистого теизма (Т), заключением же (Е) оказывается истинность G, т. е. важнейших положений Евангелий, которые мы могли бы назвать чистым христианством. Как и в только что кратко нами описанной стратегии, из христианства действительно логически следует теизм, но не наоборот, так что в единственно мыслимом здесь распределении вероятностей вероятность теизма устанавливает верхнюю планку для вероятности христианства. А нижний предел вероятности, 0,21, полученный в конечном счете Плантингой, и в самом деле гораздо ниже, чем 0,9, т. е. его исходная оценка вероятности теизма с учетом всех данных. Поскольку Плантинга предлагает нам лишь неравенство, то поначалу можно подумать, что это не так уж важно, ведь простое неравенство, неравенство как таковое совместимо и с гораздо более высокой фактической вероятностью христианства, подтверждаемой общеизвестными фактами. Но так как в цепи аргументов Плантинги из христианства вытекает сразу несколько пропозиций (Т, А и С), то данное неравенство имеет, похоже, большее, нежели чисто формальное, значение388.
В качестве посылок для христианства Плантинга рассматривает не только теизм, но и другие соединенные им в общую цепь пропозиции, а в ответ на замечание о том, что независимые свидетельства в пользу воскресения сами по себе служат доказательством теизма, а значит, логическое обоснование теизма через факт воскресения также следует принимать в расчет, Плантинга настойчиво утверждает, что заключать нужно от теизма к христианству, а не наоборот (Plantinga 2006, рр. 13–14).
Поскольку вопрос о посылках принципиально важен для понимания того, в чем именно заключается ошибочность использования ПУВ в данном контексте, нам следует ясно себе представить точный смысл тезисов «теизм есть посылка для воскресения (или христианства)» и «воскресение есть посылка для теизма». А чтобы понять эти отношения, мы должны основательно разобраться с особенностями применения не вполне достоверных промежуточных посылок – т. е. посылок, занимающих место между исходными основополагающими убеждениями и заключениями – в недедуктивных аргументах.
Когда не вполне достоверная посылка оказывается между базисными убеждениями и каким-то заключением, с которым она положительно или отрицательно соотносится, мы должны рассматривать эту посылку как проводник (conduit), по которому на это заключение переходит доказательная сила некоторого независимого факта. «Проводник», если входить здесь в специальные подробности, представляет собой понятие довольно сложное и тонкое. Но если рассматривать его в общем и ограничиться лишь простыми случаями, то это – эпистемологически релевантная для заключения пропозиция, отрицание которой «предохраняет» данный вывод от вероятностного воздействия какого-то другого значимого факта. «Предохранение» – это отношение вероятностной независимости между двумя пропозициями «по модулю» какой-то другой пропозиции или ее отрицания. Выражаясь формально, В предохраняет Е от А в случае, если
Р(А|+В &Е) = Р(А|±В).
Возьмем, например, пропозицию «Иисус воскрес из мертвых». С учетом фактов, принятых здесь в качестве базового знания, в этой пропозиции мы вправе видеть проводник, по которому доказательная сила (скажем) утверждения Петра о том, что Иисус воскрес из мертвых, достигает пропозиции «Бог существует». Если бы исходная вероятность воскресения Иисуса из мертвых составляла 1, то дополнительная пропозиция «Петр сказал, что Иисус воскрес из мертвых» не изменила бы степени вероятности теизма – оно бы не добавило здесь ничего нового. Сходным образом, если бы нам было дано, что вероятность невоскресения Иисуса составляет 1, то прибавление к уже имеющимся у нас данным пропозиции «Петр сказал, что Иисус воскрес из мертвых» никак не отразилось бы на вероятности теизма. Ее доказательное воздействие на теизм исчерпывается подтверждением тезиса «Иисус действительно воскрес из мертвых». Кроме того, пропозиция «Иисус воскрес из мертвых» вероятностно релевантна для теизма, как и пропозиция «Петр сказал, что Иисус воскрес из мертвых». Таким образом, пропозиция «Иисус воскрес из мертвых» представляет собой тот проводник, благодаря которому факт свидетельства апостолов становится значимым для теизма. Следовательно, данная пропозиция есть посылка теизма, в том смысле, что она сообщает, передает теизму доказательную силу какой-то другой информации389.
Не в наших, однако, интересах отрицать, что и теизм, в качестве проводника доказательной силы других фактов, служит посылкой для воскресения, а также для христианства. Теизм способен служить посылкой для христианства как вследствие своей вероятностной релевантности для него, так и ввиду наличия независимых данных, релевантных и для чистого теизма, и для христианства, от которых теизм «предохраняет» христианство. Рассмотрим, к примеру, аргументацию в пользу определенного замысла, которой сторонники теории разумного замысла желают объяснить происхождение жизни – скажем, тезис о том, что первая живая клетка не возникла сама собой, но, вероятно, была создана по определенному плану. Значимость для христианства данного аргумента, т. е. представления о клетке как о результате разумного замысла, исчерпывается существованием Бога, и таким образом существование Бога выполняет функцию проводника, по которому доказательная сила этого аргумента распространяется на христианство. То же самое можно утверждать о любых доводах, которые предоставляет в наше распоряжение сам факт физического существования вселенной, например тех, которые используются в каламических космологических аргументах. Такие пропозиции свидетельствуют в пользу христианства уже потому, что они подтверждают теизм. И если имеются, по крайней мере некоторые, независимые основания для веры в теизм, то защитник христианства должен быть доволен, ибо это лишь увеличивает априорную вероятность воскресения.
Существуют, таким образом, различные ряды доводов как в пользу теизма, так и в пользу воскресения, и сколько-нибудь надежно определить вероятность каждой пропозиции, с учетом всех имеющихся у нас данных, мы сможем лишь в том случае, если рассмотрим все значимые направления аргументации. Доказательная сила одних фактов сообщается теизму через воскресение, доказательная же сила других фактов достигает воскресения по каналу теизма.
Данное обстоятельство имеет отношение к той стратегии, которой следует Ричард Суинберн, когда строит свою поэтапную аргументацию в пользу христианства и, в частности, перейдя к проблеме чудесных откровений Бога, задается вопросом: существуют ли какие-либо «другие доказательства», способные сделать теизм вероятным? (Swinburne 1992, рр. 69–70). «Другие доказательства» означают здесь доказательства теизма, отличные от доказательств, непосредственно связанных с каким-то частным, конкретным откровением и имеющих отношение к теизму лишь в силу своей связи с фактом данного события-откровения. Диахронический, или поэтапный, метод аргументации, принятый Суинберном, позволяет четко разграничить разные ряды доводов и избежать путаницы, поскольку каждая линия рассуждения рассматривается сама по себе, а все вероятности каждый раз заново уточняются с помощью теоремы Байеса390.
Все это помогает нам понять, почему Плантинга грубо ошибается, пытаясь применить к христианству свой ПУВ. Опора на формулу общей вероятности имеет решающее значение для всей стратегии ПУВ, который может быть использован лишь при условии, что степени вероятности всех пропозиций уже твердо установлены и изменениям не подлежат. Но если мы допускаем их последующее уточнение в соответствии с новыми данными, то все приходится начинать заново, ведь каждая очередная корректировка порождает новый ряд взаимосвязанных вероятностей, а после того, как будут произведены все уточнения и приняты во внимание все относящиеся к делу факты, первоначальная оценка вероятности теизма, основывавшаяся на некотором минимальном базовом знании, уже не сможет составлять верхний предел вероятности ни теизма, ни христианства.
Указание Плантинги на то, что априорная вероятность теизма влияет на априорную вероятность воскресения, само по себе не вызвало бы возражений. Но ведь Плантинга не удовлетворился этим тезисом. Он решительно и неоднократно утверждал, что сначала следует определить вероятность теизма с учетом, всех имеющихся данных, и только затем можно переходить к проблеме воскресения. Таким образом, он считает, что мы должны определять или, по крайней мере, оценивать вероятность теизма с учетом всех данных, сознательно оставляя в стороне относящиеся к делу – и, возможно, чрезвычайно убедительные – свидетельства, которые подтверждают теизм уже в силу своей связи с воскресением – метод, который почти наверняка даст нам в итоге вероятность, отличную от реальной вероятности теизма с учетом всех имеющихся данных. Между тем единственный здравый образ действий при рассмотрении двух взаимосвязанных пропозиций заключается в возможно более подробном анализе различных рядов фактов, имеющих прямое или косвенное отношение к каждому из них.
Самый свежий аргумент, выдвинутый Плантингой в пользу подобной стратегии, также неубедителен:
Согласно формуле полной вероятности
Р(С|К) = [Р(С|К & Т) × Р(Т|К)] + [Р(С|К & ~Т) × Р(~Т|К)].
Если Р(С|К & ~Т) очень мало, то второй член правой части уравнения прибавит здесь совсем немного, и тогда Р(С|К) окажется чрезвычайно близкой к Р(С|К & Т) х Р(Т|К); а это означает, что Р(Т|К) будет близкой к верхней границе Р(С|К). Итак, представим, что по отношению к теизму вы занимаете агностическую позицию и приписываете Т и ~Т вероятности, равные 0,5. Предположим далее, что другой реальной альтернативы, кроме выбора между теизмом и натурализмом, по вашему мнению, не существует. В таком случае, даже если вы считаете вероятность воскресения при К & Т очень высокой, например равной 0,9999, вам придется оценить его вероятность при К как близкую к 0,5. В подобной ситуации мы могли бы еще раз повторить, что вера в С предполагает веру в Т. Если так, то у нас не было бы разумных оснований верить в С, не веря при этом в Т, или, во всяком случае, не приписывая Т высокой вероятности – но не потому что существует естественное логическое заключение от С к Т (Plantinga 2006, р. 14).
Данное доказательство звучит знакомо: мы узнаем здесь предложенную Плантингой версию контраргумента от «мировоззрения», рассмотренную нами в предыдущем разделе – с той лишь разницей, что в вероятностной формулировке Плантинга пытается обойтись без какого-либо различения между априорной и апостериорной вероятностями и использовать только формулу полной вероятности. Однако вся реальная ценность этой аргументации сводится к логическому трюизму: вероятность теизма, с учетом всех имеющихся данных, приближается к верхней границе вероятности воскресения с учетом всех имеющихся данных. А это никак не способствует решению вопроса, «предполагает» ли вера в воскресение веру в теизм – или же, как пишет Плантинга, «сначала нам следует определить величину Р(Т|К) или, по крайней мере, установить, что она равна или превосходит какую-то довольно высокую вероятность» (Plantinga 2006, р. 13)391.
Посмотрим, каким образом аргументацию Плантинги можно было бы применить к двум другим пропозициям.
А: Алвин Плантинга существует.
В: Алвин Плантинга 3 марта 2007 года отправил мне по электронной почте письмо.
Здесь мы можем пойти еще дальше Плантинги, поскольку А вытекает из В, а значит, вероятность А при взаимосвязанном распределении вероятностей составляет абсолютный верхний предел для вероятности В. Представим, что вплоть до утра 3 марта 2007 года вы ничего не слышали об Алвине Плантинге как о реальном человеке, не читали ни одной его книги или статьи и не располагали какими-либо другими конкретными доказательствами его существования. Предположим, что с именем Алвин Плантинга мы связываем некоторую определенную дескрипцию расселовского типа, например «Философ религии, в настоящее время преподающий в Университете Нотр-Дам, известный тем, что стоял у истоков направления мысли, называемого реформированной эпистемологией». Вы могли бы, хотя и не без труда, получить какую-то вероятность для А, основываясь на чрезвычайно общих соображениях – вроде того, редкими или распространенными являются эти имя и фамилия, сколько имеется философов в мире вообще и в Университете Нотр-Дам, в частности, и т. п. И полученная вами в итоге вероятность, если учесть характер данного описания, была бы, скорее всего, намного ниже 0,5.
Но вот вечером 3 марта вы садитесь за компьютер, проверяете свою электронную почту – и перед вами появляется сообщение от человека, который называет себя Алвином Плантингой, говорит о себе примерно то, что уже известно вам из определенного описания, и о чем-то вас спрашивает.
Было бы глупо приводить вначале доводы в пользу В и, не рассмотрев В само по себе, пытаться определить итоговую вероятность А с учетом всех имеющихся данных. Зачем вам сразу же браться за оценку этого, игнорируя известный вам теперь и в высшей степени значимый факт, который имеет прямое отношение к В, а через В связан с А? Кому в такой ситуации пришло бы в голову доказывать В подобным образом? Хотя имеющиеся у вас не слишком конкретные независимые свидетельства в пользу А имеют некоторое отношение к В – к априорной вероятности В, – опыт чтения самого этого письма является аргументом гораздо более сильным, и вы, опираясь на это прямое свидетельство, мгновенно и без труда сделаете вывод об истинности В. Конечно, если Алвин Плантинга не существует, то он не может писать вам по электронной почте, но в данном случае сообщение от него налицо.
Помимо столь вопиющей странности, как попытка оценить вероятность А с учетом всех данных до рассмотрения В, с вашей стороны было бы грубейшей ошибкой принять за Р(А) с учетом всех данных ту вероятность, которую А имело утром, и объявить ее верхним пределом для вероятности В. Это было бы совершенно неправильно, ведь как А, так и В требуют теперь переоценки в свете нового факта, который, обладая значительной доказательной силой, служит прямым подтверждением для В и косвенным – для А.
Итак, несмотря на то, что А устанавливает верхнюю границу вероятности В и априорная вероятность А влияет на априорную вероятность В, было бы попросту неверно утверждать, что вера в В «предполагает» веру в А в том смысле, что априорная вероятность А – т. е. вероятность на утро 3 марта – должна быть выше, чем некий кратчайший путь к вере в В вечером 3 марта. Равным образом, из того факта, что А вытекает из В, а не наоборот, отнюдь не следует, будто мы должны определить вероятность А с учетом всех имеющихся данных прежде рассмотрения В.
В повседневной практике нашего взаимодействия с обычными людьми, наиболее сильным доказательством их существования служат, как правило, прямые свидетельства – то, что они сами делают и говорят и что можно было бы назвать их само– обнаружением или самооткровением. По-настоящему строгий и добросовестный сторонник байесовского метода мог бы потребовать, чтобы вначале мы вычислили априорную вероятность чьего-либо существования, опираясь на аргументы общего характера, и уже затем уточняли ее на основании более конкретных свидетельств о действиях данного лица. Но столь вдумчивый и дотошный приверженец Байеса никогда бы не заявил, что априорная вероятность (исключая случайные совпадения) может быть близкой к вероятности существования этого человека, определенной с учетом всех имеющихся данных. Точно так же и попытка приблизительно определить, т. е. попросту угадать конечную величину вероятности существования какого-либо человека прежде рассмотрения доступных нам свидетельств о его действиях в нашем мире была бы несостоятельной стратегией.
В случае с существованием Бога к анализу вопроса о воскресении и о любом другом предполагаемом чуде или откровении мы приступаем не на пустом месте, но после того, как в пользу и против Его бытия уже было приведено множество всевозможных доводов. В качестве аргумента против существования Бога выдвигают логическую проблему зла – апологет отвечает защитой свободной воли. Затем в ход идет вероятностная проблема зла – апологет просит представить строгую ее формулировку и критикует предложенные ему версии. Сам апологет строит телеологические, моральные или онтологические доказательства бытия Божьего – скептик пытается их опровергнуть. Если вы когда-либо изучали соответствующую литературу или хотя бы участвовали в долгих ночных спорах на эту тему в студенческом общежитии, то у вас не могло не сложиться собственного представления о степени вероятности теизма, причем независимо от прямых свидетельств в пользу воскресения. И эта вероятность, высокая, низкая или средняя, окажется, во всяком случае, чем-то более определенным, нежели предполагаемая априорная вероятность существования Плантинги по состоянию на утро 3 марта.
Однако ни один из доводов и контрдоводов, использующихся в подобных дискуссиях, не должен заслонять от нас того факта, что во всех этих рассуждениях речь идет о существовании Бога независимо от прямых исторических свидетельств о Его воскресении. Представим, что эти свидетельства, как мы и пытались продемонстрировать, чрезвычайно убедительны. Аргументы же логического и семантического характера показывают, что они имеют прямое отношение к теизму. Но в таком случае мы окажемся далеки от истины, если попытаемся дать окончательную оценку итоговой вероятности теизма еще до того, как рассмотрим вопрос о воскресении. И было бы неразумно с самого начала и прежде всякого анализа доказательств воскресения допускать – как это делает гипотетический агностик у Плантинги, – что в конечном счете вероятность теизма составит 0,5. Даже якобы «щедрая» оценка Плантингой вероятности теизма с учетом всех данных – 0,9 – есть не более чем догадка, делая которую Плантинга совершенно сознательно отказался от рассмотрения реальной доказательной силы независимых исторических свидетельств. Как определить при таких условиях, действительно ли она была «щедрой»? И как вообще можно об этом судить?
Отсюда с очевидностью явствует, что нет такого Принципа Убывающих Вероятностей (ПУВ), который был бы способен продемонстрировать слабость исторического аргумента в пользу христианства или воскресения. А значит, у нас остается один путь – анализ эмпирических доводов по существу.
Мошенничество, глупость и страсть к чудесному
В предыдущих двух разделах мы рассмотрели два примера того, что мы назвали непрямым подходом к критике исторического аргумента – утверждение, согласно которому априорная вероятность воскресения настолько мала, что в анализе конкретных свидетельств на сей счет нет никакой нужды, и попытку Алвина Плантинги подорвать самые основы исторического аргумента, используя Принцип Убывающих Вероятностей. Теперь мы обращаемся к несколько менее абстрактному подходу, характерному для второй части эссе Юма и предполагающему, по крайней мере, некоторые ссылки на исторические факты.
Хотя Юмова аргументация во второй части ведется и не на столь абстрактном уровне, как в первой, она по-прежнему остается довольно отвлеченной и состоит, по сути, из ряда соображений общего характера, а также нескольких примеров предполагаемых чудес, подобранных таким образом, чтобы выставить свидетельства в пользу евангельских чудес в самом невыгодном свете. Возражения его по большей части не до конца продуманы и разработаны, а некоторые из них и не вполне оригинальны, так как они уже были подвергнуты исчерпывающему анализу в ходе спора о теизме, имевшего место в предшествующие десятилетия (Burns 1981). Но поскольку первая часть эссе не дает нам убедительной независимой аргументации, то успех Юмовой критики всецело зависит от рассуждений, с которыми он выступает здесь.
«Легко показать, – пишет он, – что ни одно чудесное событие никогда не основывалось на таком полном свидетельстве», которое было бы «равносильным настоящему доказательству». Здесь он делает четыре утверждения, которые могут служить посылками аргументов:
1. Свидетели чудес (ясно, что Юм имеет в виду апостолов) никогда не были достаточно многочисленными и не внушали к себе надлежащего доверия; сами же эти события никогда не происходили в достаточно значительной части мира.
2. Страсть ко всему удивительному и необыкновенному побуждает людей верить рассказам о чудесах вопреки собственному здравому смыслу.
3. Рассказы о чудесах «распространены преимущественно среди невежественных и диких народов», в цивилизованном же обществе они бытуют лишь потому, что были унаследованы от «невежественных и диких предков».
4. Если бы рассказы о чудесах, существующие в разных противоборствующих религиях, были сочтены заслуживающими одинакового доверия, то они бы взаимно опровергли и уничтожили друг друга, сделав все соперничающие между собой религиозные положения равно безосновательными.
Эти четыре тезиса, ни по отдельности, ни взятые вместе, не способны выполнить ту задачу, с которой, по утверждению Юма, они непременно должны справиться.
Развивая свой первый тезис, Юм уверяет нас, что
во всей истории нельзя найти ни одного чуда, засвидетельствованного достаточным количеством людей, столь неоспоримо здравомыслящих, хорошо воспитанных и образованных, чтобы мы могли не подозревать их в самообольщении; столь несомненно честных, чтобы они стояли выше всякого подозрения в намерении обмануть других; пользующихся у всех таким доверием и такой репутацией, чтобы им было что потерять в случае, если бы их уличили во лжи, и в то же время свидетельствующих о фактах, в такой мере оказавшихся достоянием общественности и происшедших в столь известной части света, что разоблачение обмана было бы неизбежным. Все эти условия необходимы для того, чтобы дать нам полную уверенность в свидетельствах людей (Юм 1902, с. 132).
Это весьма смелое утверждение, содержащее, как мы сразу же замечаем, порочный круг. Ортодоксальные оппоненты деистов были превосходно знакомы с подобными возражениями и уже успели продемонстрировать, пространно и довольно убедительно, что свидетельства апостолов удовлетворяют всем разумным критериям достоверности, о которых вообще можно вести речь. Отвечая на скептические выпады Аннета против «Испытания» Шерлока, Сэмюэл Чандлер пишет:
Эти авторы обнаруживают все признаки честности, каких только можно потребовать или пожелать. Самые противоречия, которые, на первый взгляд, следовало бы поставить им в вину, доказывают, что они, во всяком случае, не сговаривались между собой с целью обмануть других. Они не колеблясь сообщают нам, что в первый раз Христос явился женщинам, свидетельства коих, останься они единственными – и это отлично известно авторам – отнюдь не убедили бы окружающих. По-видимому, они не утаили от нас ни единой подробности явлений Христа, какими бы сомнительными ни могли казаться те или иные обстоятельства в глазах людей определенного рода взглядов и мнений. Они прямо нам говорят, что первые сообщения о воскресении апостолы сочли пустыми грезами, баснями и беспредметными фантазиями и были совершенно не расположены принимать их всерьез или верить им. Если бы они не знали, что их рассказы соответствуют истине, то непохоже, что у них могли бы быть какие-то реальные интересы, удовлетворению коих эти рассказы способствовали бы, или же что к записи последних их бы побудили некие особы, которые могли либо вознаградить их, либо сами получить какие-нибудь мирские выгоды благодаря сообщению этих свидетельств другим людям.
Что же получается? Нам чрезвычайно трудно представить, каким образом в эмпирических доказательствах воскресения мог бы ошибиться хотя бы один человек – и однако, нас уверяют, что в заблуждении на сей счет пребывали все эти люди без исключения. Как же так? Неужели ни среди апостолов, ни среди бывших с ними, ни среди ста двадцати, ни среди пятисот не нашлось ни единого человека, у которого были бы глаза, чтобы видеть, уши, чтобы слышать, руки, чтобы осязать, и рассудок, чтобы здраво мыслить? Или их всех одурачил некий фантастический призрак, и столь великое множество людей, вдруг испытав совершенный обман чувств, приняло ложь за истину? Или, может, все они дружно согласились поддержать ложь – очевидную для них ложь, и притом ложь невероятную, омерзительную и опасную? Будь вся эта история мошенничеством кучки лиц, они, пожалуй, сумели бы сохранить тайну. Но можно ли было уберечь от разглашения тайну, известную столь громадному числу людей? Неужели они стояли за неправду так твердо и неколебимо, что ни собственный интерес, ни жестокие гонения не заставили их во всем признаться? (Chandler 1744, рр. 133,141–142).
Чандлер, что примечательно, говорит это уже в заключении, после того, как он посвятил более сотни страниц обзору и анализу возражений против достоверности евангельского рассказа о воскресении, в частности, связанным с характером свидетелей. И это лишь одна из книг, в которых Чандлер разрабатывает исторический аргумент. На этом фоне голословным заявлением Юма можно просто пренебречь.
Второй и третий апостериорный доводы столь же неоригинальны и неубедительны. Второй свой аргумент Юм набрасывает в следующих словах:
...Когда утверждают что-нибудь вполне невероятное и чудесное, мы в высшей степени охотно допускаем этот факт в силу того самого обстоятельства, которое должно было бы поколебать всю его вероятность. Так как чувство изумления и удивления, возбуждаемое чудесами, отличается приятностью, то оно порождает в нас стремление верить в вызывающие его явления. Дело доходит до того, что даже те люди, которые не могут наслаждаться этим удовольствием непосредственно и даже не верят в те чудесные явления, о которых им сообщают, все же любят принимать косвенное участие в этом наслаждении и кроме того чувствуют гордость и удовольствие, если им удастся возбудить восторг других людей (Юм 1902, с. 133).
В этих дилетантских умствованиях на темы психологии Юма предвосхитил Томас Морган:
Людей тем легче бывает обмануть в подобных вещах, что им самим страшно нравится удовлетворять свою страсть к восхищению и они находят превеликое удовольствие в том, чтобы слушать или рассказывать о чудесах (Morgan 1738, р. 31).
Но как орудие критики воскресения это банальное замечание оказывается слишком тупым, чтобы причинить хоть какой-нибудь вред. Страсть ко всему чудесному и удивительному может побудить людей с увлечением слушать фантастические рассказы путешественников, но, как заметил в своих Лоуэлловских лекциях Джон Горэм Полфри, есть все же некий предел для того, что можно объяснить с помощью этого принципа, и каждый из нас знает по собственному опыту, что в историю, подобную рассказу о воскресении, он никогда не поверил бы
без тщательного исследования и неопровержимого доказательства, которые привели бы его к заключению (как это, несомненно, имело место в случае с первыми христианами), что он должен всецело посвятить себя новой жизни, отречься от старых друзей и связей, принять на себя неведомые ему прежде труды и смело выступить навстречу неисчислимым и страшным опасностям (Palfrey 1843, рр. 293–294).
Что до третьего аргумента Юма, то утверждение, что в чудеса особенно охотно верят дикари, сделал еще деист Джон Толанд в своей работе «Христианство без тайн», и в тех самых выражениях, которые впоследствии позаимствовал Юм:
Легко заметить, что чем более невежественными и дикими остаются люди, тем больше распространены среди них истории такого рода... (Toland 1702, р. 148).
Однако называть иудаизм I века «невежественным и диким» значило бы обнаружить собственное невежество в области истории, а предположение, что это освобождает нас от необходимости принимать свидетельства очевидцев всерьез, было бы классическим примером попытки отвергнуть некое доказательство, не представив в пользу такого решения реальных аргументов. Да и не была Иудея I века, три столетия находившаяся под властью греков, прежде чем оказаться в руках римлян, таким захолустьем, как это хотел бы внушить своим читателям Юм.
Если Юм хотел опровергнуть аргументы, тщательно разработанные такими авторами, как Чандлер, Джейкоб Вернет, Томас Стакхаус, Томас Шерлок, Джон Леланд и Натаниель Ларднер, то ему нужно было самому вступить в бой и заниматься последовательным разбором вполне определенных фактов и доказательств. Но такого испытания он как раз и не сумел бы выдержать. Вместо этого, как пишет Джон Эрман,
Юм важно восходит на некую философскую высоту и оттуда грозно мечет громы и молнии в истории о чудесах... Когда же он спускается с философских высот, чтобы рассмотреть конкретные истории о чудесах, рассуждения его становятся поверхностными и, вне всякого сомнения, совершенно не способными воздать должное тем глубоким, серьезным и страстным спорам о чудесах, которые уже несколько десятилетий бушевали в Британии (Earman 2000, р. 70).
Оценку Эрмана мы сочтем вполне справедливой, если обратимся к четвертому рассуждению Юма, где он рассматривает реальные истории о чудесах, пытаясь доказать, что разные утверждения о чудесах ничем по сути друг от друга не отличаются и что все они в равной мере необоснованны. Сталкивание лбами верующих в чудеса было излюбленной тактикой многих деистов (Burns 1981, рр. 72–75). Уже в самом начале спора о деизме Чарлз Лесли предложил четыре признака, по которым подлинные чудеса можно было бы отличить от мнимых, и в продолжение всей этой дискуссии, как до, так и после выступления Юма, среди протестантов процветала особая отрасль производства, разрабатывавшая средства, позволяющие отделить апостольскую пшеницу от папистских плевел.
Этот традиционный прием натравливания верующих друг на друга Юм использует для того, чтобы навязать христианскому апологету неявную дилемму: либо признайте истинными все эти истории о чудесах – либо откажитесь от веры в воскресение Иисуса Христа. Первый вариант не придется по вкусу английским апологетам-протестантам, ведь соответствующая история о чуде может иметь своим источником какую-нибудь языческую религию, или восходить к католицизму, или обнаруживать явные признаки мошенничества.
И, однако, решительно налегая на подобного рода доводы, Юм уклоняется от ответа на реальные аргументы, выдвинутые в пользу евангельских чудес и, в частности, чуда воскресения – вместо этого он сосредоточивает все свое внимание на чудесах совершенно иного рода, которые, как рассчитывает Юм, должны показаться его читателям неправдоподобными. Критики Юма не замедлили обнаружить эту уловку. Но ни один из них не разоблачил ее так же энергично, как это сделал Питер Бейн:
«Когда кто-либо, – продолжает Юм, – говорит, что видел, как умерший человек ожил, я тотчас же спрашиваю себя, что вероятнее: то, что это лицо обманывает меня или само обманывается, или же то, что факт, о котором оно рассказывает, действительно имел место? Я взвешиваю оба чуда и выношу суждение в зависимости от того, которое из них одержит верх, причем отвергаю всегда большее чудо. Если ложность показания свидетеля была бы большим чудом, нежели само явление, о котором он рассказывает, тогда, и только тогда, мог бы он претендовать на веру, или согласие, с моей стороны».
Именно! Что может быть разумнее такого утверждения? А потому перейдем к сравнению. Христианин должен привести такое свидетельство в пользу чуда, ложность коего оказалась бы чем-то еще более поразительным, нежели самое подлежащее доказательству чудо, а Юму предстоит взвесить эти два чуда.
Какой же следующий шаг должен был сделать Юм в своей аргументации? Чего требовала от Юма логика его собственных утверждений? Ответ очевиден: взять те чудеса, которые христиане называют истинными, исчерпывающе и ясно изложить приводимые в их пользу свидетельства и продемонстрировать нам, что какими бы правдоподобными ни казались эти свидетельства, их несоответствие действительности не было бы чудом большим, нежели то чудо, которое пытаются с их помощью удостоверить. Именно этого, говорю я, требовало правило, установленное для подобных случаев самим Юмом, именно такой порядок рассмотрения в суде доказательств предписал сам Юм.
Но всякий, кто читал эссе Юма, знает, что ничего подобного он не делает. Довольно точно описав природу свидетельств, необходимых для подтверждения христианских чудес, он тихонько выпроваживает сами эти чудеса из зала суда. В дальнейшем разбирательство ведется через доверенных лиц. Юм не спрашивает, какие предлагаются нам доказательства того, что христианские чудеса имели место; он призывает к ответу некие «чудеса», не имеющие никакого отношения к христианству, входит в разбор их доказательств, осуждает их как лживые выдумки, а затем преспокойно сообщает суду, что христианские чудеса опровергнуты. Согласно Тациту, Веспасиан совершил два чудесных исцеления; кардинал де Рец говорит о чуде, в истинности которого он уверен; рассказывают также, что всевозможные чудеса происходили на могиле аббата Пари. Об этих последних, сообщает нам Юм, можно было бы «с некоторым основанием утверждать, что по своей очевидности и достоверности они превосходят» чудеса Спасителя. Но просить, чтобы в подобном деле мы признали приговор Юма – это, право, уже слишком! Мы выказали бы воистину невиданное и невообразимое безрассудство, если бы не настояли на необходимости отложить в сторону Юмовы примеры и не потребовали того, что он сам уже успел нам предоставить, а именно права самим выбирать решающие примеры (Bayne 1862, рр. 26–27).
Что сказать о Юмовой стратегии ведения судебного процесса через доверенных лиц, т. е. о замене воскресения другими чудесами? Выражаясь языком формальной логики, довод о взаимном опровержении, чтобы быть убедительным, требует принятия слишком многих сомнительных допущений (Earman 2000, рр. 67–70). Но, оставляя в стороне довольно путаные замечания Юма насчет взаимного опровержения, следует отметить, что анализ языческих и церковных сообщений о чудесах имел бы отношение к вопросу о правдоподобии воскресения лишь в том случае, если бы можно было надежно обосновать следующие две (у Юма прямо не сформулированные) посылки: 1) свидетельства в пользу этих альтернативных чудес ни в чем не уступают по своей убедительности свидетельствам в пользу воскресения или даже превосходят их; и 2) сами же эти события, о которых имеем мы подобные сообщения, доверия не заслуживают.
Действительно, риторика Юма косвенным образом подразумевает его готовность принять оба эти тезиса, хотя ни один из них он так и не потрудился подкрепить каким-либо прямым аргументом, и было бы невозможно обосновать первую посылку, не обратившись непосредственно к анализу свидетельств в пользу воскресения. Судя же по Юмовой трактовке языческих и недавних христианских чудес, он хочет сказать, что они вполне удовлетворяют тем критериям, по которым должны судить о реальном чуде христиане. Однако Уильям Адамс, Джон Дуглас и Джордж Кэмпбелл проявили полную готовность войти здесь в подробности и подвергнуть более тщательному, чем у Юма, исследованию те самые примеры, которые он предложил. Им не составило особого труда показать, что первая из скрытых посылок путаной аргументации Юма рушится из-за пробелов в его образовании, произвольного отбора материала, а порой и самого откровенного вранья.
Первая из параллелей, на установление которой претендует Юм, относится к исцелениям, совершенным Веспасианом.
Одним из наиболее засвидетельствованных чудес во всей светской истории является чудо, рассказанное Тацитом о Веспасиане: последний исцелил слепого в Александрии своей слюной, а другого, хромого, – простым прикосновением своей ноги, по воле бога Сераписа, который, явившись этим людям, повелел им обратиться за чудесным исцелением к императору. Рассказ этот можно найти у названного великого историка, причем все обстоятельства, казалось бы, подтверждают данное свидетельство, и они могли бы быть изложены в высшей степени убедительно и красноречиво, если бы в настоящее время кому-нибудь было интересно вновь обосновать достоверность этого отжившего языческого суеверия. Это происшествие подтверждается серьезностью, солидностью, возрастом и честностью великого императора, который в течение всей жизни дружески беседовал со своими приятелями и придворными и никогда не разыгрывал роль божества подобно Александру и Деметрию. Сам историк был современным императору писателем, известным своей откровенностью и правдивостью; кроме того, он обладал, быть может, самым великим и проницательным умом во всем Древнем мире и был настолько свободен от всякой наклонности к легковерию, что его даже обвиняли, напротив, в атеизме и приверженности мирскому. Лица, на авторитет которых он ссылался, рассказывая об этом чуде, были, насколько мы можем предполагать, людьми с твердой репутацией рассудительных и правдивых, очевидцами события, подтвердившими свои показания уже после того, как род Флавиев оказался лишен власти и не мог вознаградить их за ложное показание. Utrumque, qui interfuere, пипс quoque memorant, postquam nullum mendaciopretium392. Если прибавить к этому публичный характер рассказываемых фактов, то окажется, что нельзя было бы предложить более очевидного свидетельства в пользу такой грубой и осязаемой лжи (Юм 1902, сс. 139–141).
Юмово изложение настолько небрежно, что его оппоненты усматривали здесь прямую недобросовестность. «Откровенность и правдивость» историка к делу не идут, ибо то, каким образом Тацит вводит в свое повествование эту историю, ясно показывает, что сам он в ее истинность не верил. Характеристика же Юмом лиц, чьи слова послужили Тациту источником в рассказе об этом чуде, как «насколько мы можем предполагать, людей с твердой репутацией рассудительных и правдивых» вызвала особенно презрительную реакцию со стороны Кампбелла, ведь Тацит ничего подобного не говорил (Campbell 1839, р. 98).
Вся эта история обнаруживает бесспорные признаки явного мошенничества. Афера была устроена в Александрии, первом крупном городе, поддержавшем притязания Веспасиана на императорскую власть, и должна была послужить к чести как самого императора, для которого божественное знамение оказалось бы весьма кстати, так и местного божества. По просьбе Веспасиана врачи осмотрели двух мужчин, утверждавших, что у них были ночные видения, в которых им было указано обратиться за исцелением к Веспасиану; врачи сообщили, что слепой не был совершенно слеп, а хромой – по-настоящему хром, и добавили, что в случае успешного исцеления вся слава достанется самому Веспасиану, тогда как весь позор неудачи падет на этих двух просителей, жульнически исказивших оракул Сераписа. Египетская чернь, которую сам Тацит характеризует в этой связи как «народ, склонный к суеверию», едва ли была способна к критической оценке происходящего. Так стоит ли удивляться, – спрашивает Адамс,
что этих двоих подговорили сыграть роли хромого и слепого, если они сами были уверены в успехе этого обмана и в том, что их щедро вознаградят (как мы вполне можем предположить) за подобные труды? (Adams 1767, р. 78).
Что же до ссылки Тацита на живых свидетелей, то и в этом нет ничего загадочного. Если данное мошенничество, как это и описано у Тацита, совершилось публично, то оно имело место, вне всякого сомнения, в присутствии множества людей, наблюдавших, как эти двое радостно скачут и вопят о своем исцелении. Нет нужды предполагать, что свидетели лгали; здесь было вполне достаточно некоторого легковерия с их стороны. Им не требовалось тщательно выяснять подробности дела, поскольку, продолжая рассказывать об увиденном, они – в отличие от апостолов – совершенно ничем не рисковали. «Более слабое доказательство трудно даже себе представить» – сухо заключает Дуглас, меняя Юмову оценку на прямо противоположную (Douglas 1757, р. 99).
Случай Веспасиана буквально во всех деталях принципиально отличен от случая воскресения. В самом деле, было бы гораздо более удивительно, если бы, при сложившихся тогда обстоятельствах, какая-то история о чудесном происшествии, выгодная для Веспасиана, не возникла уже в самом скором времени. С учетом наших исходных знаний о данной ситуации байесовский фактор для этого свидетельства оказывается настолько близким к 1, что у нас практически не остается пространства для эпистемологического маневра: и в случае участия этой парочки в заранее подготовленном обмане, и в случае подлинного исцеления имелись почти одинаково веские причины ожидать соответствующих сообщений. Было бы просто нелепо думать, что свидетельства об этих чудесах выдерживают сравнение с доказательствами в пользу воскресения.
Мы могли бы уже здесь распрощаться с историей о Веспасиане, если бы не одно любопытное обстоятельство. Два упомянутых выше исцеления были, похоже, подсказаны двумя случаями, описанными в Евангелии от Марка; в частности, использование слюны для помазания глаз слепому поразительно напоминает рассказ об исцелении в Вифсаиде (Мк.8:23). Если так, то вся эта история подтверждает древнюю традицию, представленную у Евсевия, Епифания и Иеронима, согласно которой Марк обнародовал списки своего Евангелия в Александрии. Это могло произойти, по крайней мере, за несколько лет до прибытия туда Веспасиана (ок. 69 г. н. э.). Следовательно, избранный Юмом пример начинает выполнять такую функцию, которая для Юма оказалась бы полной неожиданностью. Самый факт сходства между исцелениями, приписанными Веспасиану, и исцелениями, совершенными Христом, служит еще одним доводом в пользу утверждения, что евангельские повествования появились и стали известны гораздо раньше, чем хотелось бы признавать скептически настроенным библеистам.
Второй пример Юма также представляет собой сообщение об исцелении, совершившемся в среде верующих, но в качестве третьего примера он берет случай, когда рассказы о предполагаемых чудесах не могли прийтись по вкусу одной могущественной и влиятельной партии. Юм молчаливо подразумевает, что рассказы об этих чудесах соответствуют тому же критерию убедительности, что и свидетельства о воскресении, а именно: они не могли быть отвергнуты современниками, поскольку отсутствовали какие-либо определенные основания, заставлявшие усомниться в их достоверности. И здесь становится особенно очевидным его стремление принудить христианского апологета к радикальному выбору – все или ничего!
Никогда не приписывалось одному лицу совершения большего числа чудес, чем то количество, которое недавно произошло, как рассказывают, во Франции, на могиле аббата Пари, известного янсениста, святостью которого так долго морочили людей. Всюду рассказывали о том, что эта святая гробница исцеляла больных, возвращала слух глухим и зрение слепым; но что всего необычайнее – многие из этих чудес были засвидетельствованы на месте судьями несомненной честности на основании показаний лиц, заслуживающих доверия и пользующихся почетом; совершились они притом в просвещенную эпоху и в одном из самых выдающихся центров современного мира. Но это еще не все: рассказ об этих чудесах был опубликован и распространен всюду, и иезуиты были не в состоянии опровергнуть и разоблачить их, несмотря на то, что эта ученая корпорация, поддерживаемая властями, была отъявленным врагом тех взглядов, подтверждению которых служили эти чудеса. Где найдем мы такое количество условий, подтверждающих какой-нибудь факт? И что можем мы выставить в противовес такой толпе свидетелей, кроме абсолютной недопустимости тех чудесных явлений, о которых они рассказывают? Без сомнения, уже это одно возражение в глазах всех разумных людей будет считаться удовлетворительным (Юм 1902, сс. 142–143).
Кое-что из сказанного Юмом соответствует действительности. Янсенисты, большая раскольническая группа в католицизме, которая стремительно теряла благоволение Рима в десятилетия, предшествовавшие кончине аббата Пари (1727 г.), отчаянно нуждалась в каком-нибудь небесном знамении, способном подтвердить их правоту в борьбе с иезуитами; соответственно, вскоре появились сообщения о многочисленных исцелениях – и еще более многочисленных конвульсиях – у могилы аббата. Однако утверждение, что эти сообщения никем не опровергались, явным образом ложно, и его присутствие в первом издании эссе простительно лишь при допущении, что Юм, пользовавшийся главным образом книгой Луи Базиля Карре де Монжерона, просто не знал, что многие утверждения Монжерона уже были опровергнуты в пастырском послании архиепископа Санского.
Если причиной ошибки Юма была простая неосведомленность, уже вскоре у него появилась возможность исправить ее, ибо его оппоненты взяли на себя труд изучить посвященную этому спору литературу и представили исчерпывающий отчет о многочисленных мошенничествах, совершенных от имени аббата. Например, «чудесное» исцеление г-на де Дуля было разоблачено самим же выздоровевшим пациентом, который в письме к епископу Лаонскому пояснил, что янсенистский монастырь Сент-Илер принудил его исповедаться и причаститься, когда он лежал в постели с лихорадкой, что создало неоправданное впечатление тяжести его состояния. Вдова де Лорм, будто бы разбитая параличом за то, что отправилась к могиле аббата с целью высмеять тамошние чудеса, впоследствии призналась, что все это было хитроумной инсценировкой (Douglas 1757, р. 129). Анна Ле Франк, якобы исцелившаяся, в частности, от болезни глаз, никогда на глаза не жаловалась, а о пяти нотариально заверенных свидетельствах исцеления сами подписавшие официально объявили, что документы эти были подделаны уже после подписания (Adams 1767, рр. 85–86). Монжерон славит выздоровление дона Альфонсо, страдавшего воспалением глаз, но, как явствует из собранных самим Монжероном документов, незадолго до посещения могилы аббата этот молодой человек начал принимать лекарства, назначенные ему выдающимся окулистом доктором Сент-Ивом (Douglas 1757, рр. 141–143). Подобные примеры, разоблаченные архиепископом Санским, можно умножать и умножать.
Если бы любовь к истине взяла у Юма верх над стремлением к литературной славе, он, быть может, изъял бы эти примеры из последующих изданий своего опыта или хотя бы упомянул о противоположных свидетельствах, представленных архиепископом Санским. Однако ни того, ни другого Юм не сделал. Вместо этого он включил во второе издание пространное примечание, в котором заверял, что многие из этих чудес были «тотчас засвидетельствованы в парижской консистории, или епископском суде, перед лицом кардинала де Ноайля, ум и честность которого никогда не отрицались даже его врагами» (Юм 1902, с. 144). Эта ссылка на нравственный характер и интеллектуальные способности кардинала – еще одна попытка направить нашу мысль по неверному пути. В соответствующем прошении стояли подписи единственно лишь тех 33 кюре, которые и подали его кардиналу – и он отклонил прошение на том основании, что явная лживость заключенных в нем сведений была доказана свидетелями par informations juridiques (Adams 1767, p. 89). В том же примечании Юм утверждал, что 22 парижских кюре настойчиво требовали от преемника Ноайля рассмотреть эти чудеса, но тот «благоразумно отказался» (Юм 1902, с. 144). Это еще одна грубая ошибка: Шарль-Гаспар де Вантимиль, сменивший Ноайля на парижской архиепископской кафедре, назначил публичное судебное следствие по поводу этих чудес, а 8 ноября 1735 года обнародовал его итоги – в документе, который Адамс характеризует как «распоряжение», заключавшее в себе «убедительные доказательства того, что чудеса, о подлинности которых столь решительно заявляли эти кюре, были на самом деле мошенническими выдумками» (Adams 1767, рр. 88–89).
Из того, что многие исцеления оказались, по расследовании, лишь жульническими проделками, отнюдь не вытекает, что после посещения могилы аббата никто не выздоравливал. Но, как отмечает Адамс, в некоторых исцелениях нет ничего удивительного:
То же самое, осмелюсь утверждать, произошло бы и в том случае, если бы тысяча произвольно взятых пациентов в какой угодно момент отправилась из своих больничных палат в Лондоне на кладбище у Собора св. Павла или в парк, в особенности, если бы их при этом воодушевляла надежда на исцеление. В такой массе народа непременно найдутся пациенты, уже стоящие на пороге выздоровления; многим просто захочется думать, что им стало лучше; кто-то будет некоторое время льстить себя подобной надеждой, все еще оставаясь больным; а еще больше окажется таких, кто, благодаря моциону и свежему воздуху, а главное – воздержанию от использования других средств, обнаружит изменение к лучшему. Но чтобы после подобных посещений к слепым возвращалось зрение, а к глухим слух? – я решительно утверждаю, что никаких убедительных или даже хоть сколько-нибудь серьезных доказательств этого у нас нет (Adams 1767, рр. 83–84).
Если бы история с пресловутыми исцелениями у могилы аббата Пари соответствовала ее характеристике у Юма, то у нас и вправду были бы основания полагать, что они имели место. На самом же деле происходило нечто иное, однако ни в одном из последующих изданий эссе, вышедших при его жизни, Юм так и не признал многочисленных фактических ошибок, которые обнаружили в его изложении такие критики, как Адамс, Дуглас и Кампбелл.
Вся вторая часть эссе, помимо воли самого Юма, служит превосходной иллюстрацией истинности следующего замечания автора:
Красноречие, достигшее своей высшей степени, оставляет мало места для рассудка или обсуждения; говоря исключительно воображению или страстям, оно пленяет слушателей и усыпляет их рассудок (Юм 1902, с. 134).
Именно такое действие, вне всякого сомнения, произвело красноречие самого Юма на многих его читателей, которые, обнаружив, надо думать, близость выводов автора своим собственным мыслям, принимали и пересказывали его трактовку исцелений Веспасиана и событий на могиле аббата Пари, не сделав даже малейшей попытки проверить, насколько точны утверждения Юма. Хуже того, он сам, кажется, напрочь забыл собственный мудрый совет, данный им в конце «Исследования»: «Вообще некоторая доля сомнения, осторожности и скромности должна быть присуща всякому здраво рассуждающему человеку во всех его исследованиях и решениях» (Юм 1902, с. 188).
Слабость аргументов второй части Юмова эссе объясняется не просто их неоригинальностью и даже не тем, что вся эта вторая часть представляет собой, говоря по правде, лишь крайне поверхностный взгляд на вопросы, уже подвергнутые несравненно более глубокому анализу защитниками христианства. Дело здесь прежде всего в том, что Юм решительно отказывается разбирать всерьез исторические свидетельства в пользу воскресения, хотя именно это – самое важное! – из всех утверждений о чудесах он как раз и обязан был убедительно опровергнуть, чтобы его эссе можно было счесть существенным вкладом в обсуждение данной проблемы. Подмена же их разбора рассуждениями по поводу сообщений о каких-то других чудесах, попытка исподволь внушить читателю, не приводя ни малейших аргументов, будто эти другие чудеса засвидетельствованы так же надежно, как и главное чудо христианства – это лишь ловкий прием, направляющий нашу мысль по ложному пути, тогда как искажение фактов ради установления, к своей выгоде, несуществующей параллели между ними есть действие безответственное, чтобы не сказать хуже. Подобная тактика подмены разумных доводов чем-то другим не представляет серьезной угрозы для уверенности ни в воскресении, ни в самом христианстве.
Заключение
Представив собственный вариант кумулятивного доказательства реальности воскресения, мы отнюдь не утверждаем, будто нам удалось привести все аргументы в пользу воскресения, а уж тем более – в пользу христианства. Мы сосредоточились на тех фактах, которые кажутся нам важнейшими, но само доказательство можно развивать по-разному: подкрепляя новыми доводами исходные допущения, опровергая или отклоняя возражения, принимая в расчет дополнительные факты. В конце концов, нашу аргументацию можно «встроить» в универсальное по охвату материала доказательство, в котором использовались бы все средства естественного богословия.
Но, как отмечает Батлер в «Аналогии религии», аргумент от чудес принадлежит к числу прямых и фундаментальных доказательств; ни в одном серьезном изложении доводов в пользу теизма без него нельзя обойтись, как невозможно считать эссе Юма последним словом в этом вопросе. Юм так и не потрудился вступить в спор по существу и не снизошел до детального анализа данного аргумента. Однако те философы, которые желают по-настоящему оценить реальную силу свидетельств в пользу чудесного, должны выйти за рамки этого поверхностного подхода и всерьез рассмотреть данный аргумент в наиболее правдоподобной и убедительной его форме, следуя здесь мудрому совету Бэкона «исследовать все до основания и не принимать на веру или отвергать как невероятное до окончания должного исследования» (Bacon 1862, р. 124)393.
Литература
К.С. Льюис, Чудо. Пер. Н.Л. Трауберг. М.: Гнозис; Прогресс, 1991.
К.С. Льюис, «Мерзейшая мощь» (пер. Н.Л. Трауберг) в Собрание сочинений в 8 т.
Т. 4. М.: Фонд о. Александра Меня; СПб.: Библия для всех, 2003, сс. 7–309.
Б. Мецгер, Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала, 2-е изд. М.: ББИ, 2013.
Р. Суинберн, Воскресение Бога Воплощенного. М.: ББИ, 2001.
Д. Юм, Исследование человеческого разумения. Пер. С.И. Церетели. СПб.: Издание М.В. Пирожкова, 1902.
Adams, W. (1767) An Essay in Answer to Mr. Hume’s Essay on Miracles, 3rd edn. London: B. White.
Allison, D.C. (2005) Resurrecting Jesus: The Earliest Christian Tradition and Its Interpreters. New York: T & T Clark.
Alston, W. (1997) Biblical criticism and the resurrection. In S. Davis, D. Kendall, and G.O’ Collins (eds.), The Resurrection, 148–183. Oxford: Oxford University Press.
Bacon, F. (1862) The Works of Francis Bacon. Eds. J. Spedding, R. Ellis, and D. Heath. Boston: Brown and Taggard.
Barnes, T.D. (1968) Legislation against the Christians. The Journal of Roman Studies 58, 32–50.
Bauckham, R. (2006) Jesus and the Eyewitnesses: The Gospels as Eyewitness Testimony. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Bayne, P. (1862) The Testimony of Christ to Christianity. Boston: Gould and Lincoln.
Blaiklock, E.M. (1983) Man or Myth. Singapore: Anzea Books.
Blomberg, C. (1987) The Historical Reliability of the Gospels. Downer’s Grove, IL: InterVarsity.
Blomberg, C. (2001) The Historical Reliability of John's Gospel. Downer’s Grove, IL: InterVarsity.
Brand, J. (1842) Observations on Popular Antiquities, vol. 3. London: Charles Knight & Co.
Burns, R.M. (1981) The Great Debate on Miracles from Joseph Glanvill to David Hume. London: Associated University Presses.
Butler, J. (1890) The Analogy of Religion, 4th edn. Ed. H. Morley. London: George Routledge and Sons.
Byrskog, S. (2002) Story as History-History as Story. Leiden: Brill.
Campbell, G. (1839) A Dissertation on Miracles. London: Thomas Tegg.
Carrier, R. (2005a) The spiritual body of Christ and the legend of the empty tomb. In
J.J. Lowder and R.M. Price (eds.), The Empty Tomb, 105–231. Amherst, NY: Prometheus.
Carrier, R. (2005b) The plausibility of theft. In J. J. Lowder and R.M. Price (eds.), The Empty Tomb, 349–368. Amherst, NY: Prometheus.
Carrier, R. (2006) Why I Don’t Buy the Resurrection Story, 6th edn, http://www.infidels. org/library/modern/richard_carrier/resurrection/2.html (accessed 10/30/2008).
Cavin, R.G. (1993) Miracles, Probability, and the Resurrection of Jesus: A Philosophical, Mathematical, and Historical Study. PhD Dissertation, University of California Irvine.
Chalmers, T. (1817) The Evidence and Authority of the Christian Revelation. Edinburgh: Walker and Greig.
Chandler, S. (1744) Witnesses of the Resurrection of Jesus Christ Re-examined. London: J. Noon.
Craig, W.L. (1997) John Dominic Crossan on the resurrection of Jesus. In S.T. Davis, D. Kendall, and G.O’ Collins (eds.), The Resurrection: An Interdisciplinary Symposium on the Resurrection of Jesus, 249–271. Oxford: Oxford University Press.
Craig, W.L. (2002) Assessing the New Testament Evidence for the Historicity of the Resurrection of Jesus. Lewiston, NY: Edwin Mellen Press.
Crossan, J.D. (1991) The Historical Jesus: The Life of a Mediterranean Jewish Peasant. San Francisco: HarperSanFrancisco.
Crossan, J.D. (1994) Jesus: A Revolutionary Biography. San Francisco: HarperSanFrancisco.
Crossan, J.D. (1996) Who Killed Jesus? San Francisco: HarperSanFrancisco.
Crossan, J.D. (1998) The Birth of Christianity. San Francisco: HarperSanFrancisco.
Davis, S.T. (2006) The counterattack of the resurrection skeptics: a review article. Philosophia Christi 8:1, 39–64.
Deissmann, A. (1965) Light from the Ancient East. Grand Rapids, MI: Baker.
Douglas, J. (1757) The Criterion. London: A. Millar.
Earman, J. (2000) Hume’s Abject Failure. Oxford: Oxford University Press.
Fuller, R.H. (1993) The resurrection. In B.M. Metzger and D. Coogan (eds.), The Oxford Companion to the Bible, 647–649. Oxford: Oxford University Press.
Geiger, A. (1865) Judaism and Its History. Trans. M. Meyer. London: Triibner and Co.
Gladstone, W. E. (1896) Studies Subsidiary to the Works of Joseph Butler. Oxford: Clarendon Press.
Greenleaf, S. (1874) The Testimony of the Evangelists. New York: J. Cockcroft and Co.
Gundry, R.H. (1982) Matthew: A Commentary on His Literary and Theological Art. Grand Rapids, MI: Eerdmans.
Habermas, G. (2005) Resurrection research from 1975 to the present: what are critical scholars saying? Journal for the Study of the Historical Jesus 3:2,135–153.
Habermas, G. (2006a) Experiences of the risen Jesus. Dialog: A Journal of Theology 45, 288–297.
Habermas, G. (2006b) Mapping the recent trend toward the bodily resurrection appearances of Jesus in light of other prominent critical positions. In R.B. Stewart (ed.), The Resurrection of Jesus: John Dominic Crossan and N.T. Wright in Dialogue, 78–92. Minneapolis: Fortress Press.
Hemer, C.J. (1989) The Book of Acts in the Setting of Hellenistic History. Tubingen: Mohr.
Hengel, M. (1977) Crucifixion. Minneapolis: Fortress Press.
Hengel, M. (1983) Between Jesus and Paul. London: Fortress Press.
Hengel, M. and Schwemer, A. M. (1997) Paul between Damascus and Antioch: The Unknown Years. Westminster: John Knox Press.
Houston, J. (1994) Reported Miracles: A Critique of Hume. Cambridge: Cambridge University Press.
Jenkin, R. (1734) Reasonableness and Certainty of the Christian Religion, vol. 2, 6th edn. London: T.W.
Jeremias, J. (1966) The Rediscovery of Bethesda. Louisville, KY: New Testament Archeology.
Кее, H.C. (1995) A century of quests for the culturally compatible Jesus. Theology Today 52,17–28.
Keim, T. (1883) The History of Jesus of Nazar, vol. 6. Trans. A. Ransom. London: Williams and Norgate.
Klausner, J. (1925) Jesus of Nazareth: His Life, Times, and Teaching. Trans. H. Danby. New York: MacMillan.
Kruskal, W. (1988) Miracles and statistics: the casual assumption of independence. Journal of the American Statistical Association 83, 929–940.
Lake, K. (1907) The Historical Evidence for the Resurrection of Jesus Christ. London: Williams and Norgate.
Laplace, P.S. (1840) A Philosophical Essay on Probabilities. Trans. F.W. Truscott and
F.L. Emory. New York: Dover. (Cited from Dover edition, 1951)
Larmer, R. (1988) Water Into Wine?: An Investigation of the Concept of Miracle. Montreal: Me Gill-Queen’s University Press.
Larmer, R. (ed.) (1996) Questions of Miracle. Montreal: Me Gill-Queen’s University Press.
Leon-Dufour, X. (1967) The Gospels and the Jesus of History. London: Collins.
Lowder, J.J. (2005) Historical evidence and the empty tomb. In J.J. Lowder and R.M. Price (eds.), The Empty Tomb, 261–306. Amherst, NY: Prometheus.
Lyttleton, G. (1800) Observations on the Conversion and Apostleship of St. Paul. Boston: Manning and Loring.
Mackie, J. L. (1982) The Miracle of Theism: Arguments for and against the Existence of God. Oxford: Clarendon Press.
Maier, P.L. (1997) In the Fullness of Time. Grand Rapids, MI: Kregel.
Maier, P.L. (ed. and trans.) (1999) Eusebius: The Church History. Grand Rapids, MI: Kregel.
Martin, Μ.M. (2005) Swinburne on the resurrection. In J. J. Lowder and R.M. Price (eds.), The Empty Tomb, 453–468. Amherst, NY: Prometheus.
McGrew, T. (2004) Has Plantinga refuted the historical argument? Philosophia Christi 6, 7–26.
McGrew, T. and Me Grew, L. (2006) On the historical argument: a rejoinder to Plantinga.
Philosophia Christi 8, 23–38.
McGrew, T. and Me Grew, L. (2008) Foundationalism, probability, and mutual support. Erkenntnis 68, 55–77.
McKinnon, A. (1967) «Miracle» and «paradox». American Philosophical Quarterly 4, 308–314.
Meier, J.P. (1991) The Roots of the Problem and the Person (Vol. 1): A Marginal Jew: Rethinking the Historical Jesus. New York: Doubleday.
Metzger, B. (1978) The Text of the New Testament: Its Transmission, Corruption, and Restoration, 2nd edn. Oxford: Oxford University Press.
Michaelis, J.D. (1801) Introduction to the New Testament, vol. 3. Trans. Herbert Marsh.
Cambridge: Cambridge University Press.
Miller, G. (2002) Good question: was the burial of Jesus a temporary one, because of time constraints?, http://www.christian-thinktank.com/shellgame.html (accessed 10/30/2008).
Morgan, T. (1738) The Moral Philosopher, vol. 2. London: Printed for the Author.
Paley, W. (1859) A View of the Evidences of Christianity. London: John W. Parker and Son.
Palfrey, J.G. (1843) Lowell Lectures on the Evidences of Christianity, vol. 2. Boston: James Munroe and Co.
Parsons, К. (2005) Peter Kreeft and Ronald Tacelli on the hallucination theory. In J. J. Lowder and R.M. Price (eds.), The Empty Tomb, 433–451. Amherst, NY: Prometheus.
Plantinga, A. (2000) Warranted Christian Belief. Oxford: Oxford University Press.
Plantinga, A. (2006) Historical arguments and dwindling probabilities. Philosophia Christi 8, 7–22.
Rawcliffe, D.H. (1959) Illusions and Delusions of the Supernatural and the Occult. New York: Dover.
Rist, J. (1993) Where else? In K.J. Clark (ed.), Philosophers Who Believe, 83–104. Downer’s Grove, IL: InterVarsity.
Robinson, J.A.T. (1976) Redating the New Testament. London: SCM.
Rose, H. J. (1950) A Handbook of Greek Literature from Homer to the Age of Lucian. London: Methuen.
Saurin, J. (1843) The Sermons of the Rev. James Saurin, vol. 1. Trans. R. Robinson, H. Hunter, and J. Sutcliffe. New York: Harper & Brothers.
Shanks, H. (2005) The Siloam pool. Biblical Archeology Review 31,17–23.
Sherlock, T. (1765) The Trial of the Witnesses of the Resurrection, 14th edn. London: John Whiston and Benjamin White.
Sherwin-White, A.N. (1963) Roman Society and Roman Law in the New Testament. Oxford: Oxford University Press.
Slade, P.D. and Bentall, R. P. (1988) Sensory Deception: A Scientific Analysis of Hallucination. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
Sobel, J.H. (2004) Logic and Theism: Arguments for and against Beliefs in God. Cambridge: Cambridge University Press.
Sproul, R.C., Lindsley, A., and Gerstner, J. (1984) Classical Apologetics: A Rational Defense of the Christian Faith and a Critique ofPresuppositional Apologetics. Grand Rapids, MI: Zondervan.
Starkie, T. (1833) APractical Treatise of the Law ofevidence, vol. 1. London: J. & W.T. Clarke.
Strauss, D. (1879) A New Life of Jesus, vol. 1, 2nd edn. London: Williams and Norgate.
Swinburne, R. (ed.) (1989) Miracles. New York: MacMillan.
Swinburne, R. (1992) Revelation: From Metaphor to Analogy. Oxford: Clarendon Press.
Swinburne, R. (2003) The Resurrection of God Incarnate. Oxford: Oxford University Press.
Swinburne, R. (2004) Natural theology, its «dwindling probabilities» and »lack of rapport». Faith and Philosophy 4, 533–546.
Toland, J. (1702) Christianity Not Mysterious. London: No Publisher.
Trites, A. (2004) The New Testament Concept of Witness. Cambridge: Cambridge University Press.
Venn, J. (1888) The Logic of Chance, 3rd edn. New York: Chelsea Publishing Co.
Wardlaw, R. (1852) On Miracles. Edinburgh: A. Fullerton & Co.
Wenham, J. (1992) Redating Matthew, Mark & Luke. Downer’s Grove, IL: InterVarsity.
Westcott, B.F. (1906) The Gospel of the Resurrection, 4th edn. London: MacMillan and Co.
Wright, Ν.T. (2003) The Resurrection of the Son of God. Minneapolis: Fortress Press.
Zusne, L. and Jones, W. H. (1982) Anomalistic Psychology: A Study of Extraordinary Phenomena of Behavior and Experience. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
* * *
К подобной позиции склоняется, по-видимому, Джон Венн (Venn 1888, р. 428 и далее). К.С. Льюис также опирается на эту идею в своих философских работах и художественных произведениях (см. Льюис 1991, сс. 56–59; 2003, с. 165). Критический анализ данного представления см. в Wardlaw 1852, рр. 31–41.
См. Larmer 1988, рр. 3–30 и его статьи (Larmer 1996).
Полезный анализ истории данной проблемы см. в Burns 1981.
Мы вовсе не хотим сказать, что определение чуда как приостановки действия физической причинности или как нарушения физического закона было бы неверным; и в частности, доводы МакКиннона кажутся нам не более чем семантическими трюками. Проще, однако, условиться считать чудо таким событием, которое не могло бы произойти в рамках естественного порядка вещей, а уже затем определить естественный порядок так, как это сделали мы.
Чтобы ни у кого не возникло искушения истолковать эти, довольно ограниченные по объему, утверждения в расширительном смысле, специально уточним: мы вовсе не намерены признавать неисторическими тексты, от которых настоящее доказательство не зависит.
Например, главные источники наших сведений о жизни императора Тиберия – это Светоний, Тацит и Дион Кассий. Эти авторы и в самом деле противоречат друг другу во многих местах. Но число «противоречий» выросло бы неимоверно, если бы мы предположили, что каждый случай упоминания одним автором о событии, пропущенном у другого автора, следует считать противоречием.
Основательную критику использования такого приема в исследованиях Нового Завета, главным образом в связи с работами Реджинальда Фуллера о Евангелиях, см. в Alston 1997, рр. 148–183.
Цитируемый Старки «тонкий наблюдатель» – это Уильям Пейли (Paley 1859, р. 336). Соответствующие примеры судебных дел см. в Прим. к работе Старки (Starkie 1833, р. 488), а также у Саймона Гринлифа (Greenleaf 1874, рр. 32–36). Старки – далеко не единственный ученый-правовед, высказывавший подобную мысль.
См., в частности, работы Крейга Бломберга (Blomberg 1987, 2001).
См. в частности, трагикомическую попытку использования методов библейской критики в юридической сфере – кратко описанную в Wenham 1992, рр. 253–255, историю процесса о плагиате Флоренс Дикс против Герберта Уэллса.
Данное положение сформулировано в общих чертах Самуэлем Бирскугом (Byrskog 2002) и детально обосновано Ричардом Бокемом (Bauckham 2006). См. также у Эллисона Трайтса (Trites 2004, р. 128 и далее).
Обзор современного состояния дискуссий вокруг этого места см. в Craig 2002, рр. 3–37.
Ср. суждения Штрауса (Strauss 1879, рр. 410–411), Пола Майера (Maier 1997, рр. 194–196) и Мартина Хенгеля (Hengel 1977).
Более подробный анализ характерного для Кроссана творческого подхода к истории см. в Craig 1997, рр. 249–271.
Мы принимаем традиционное отождествление Иоанна, сына Зеведея, с «любимым апостолом Иисуса» и с автором четвертого Евангелия – главным образом, по причинам, кратко изложенным Крейгом Бломбергом (Blomberg 2001, рр. 22–41).
Райт (Wright 2003, chap. 4, особ. рр. 200–206) довольно обстоятельно доказывает, что мировоззрение евреев той эпохи никак не могло привести учеников от их собственной веры в Иисуса как в великого пророка или даже Мессию к мысли о будущем Его воскресении. Действительно, идея телесного воскресения – в рамках всеобщего воскресения в конце этого мира – была присущей еврейскому религиозному сознанию, но прежде этого срока и для отдельных личностей его не чаяли.
Далее мы будем исходить из того, что автор книги Деяний, когда он говорит впоследствии об «апостолах» как о группе лиц, включает в нее и Матфия.
Хабермас (Habermas 2005, рр. 142–143) документально доказывает, что многие критики принимают раннюю датировку Павлова обращения и признают историческое значение этого события.
| h6C Р(R|F1 &...& Fn) | h6C = | h6C P(R) | h6C × | h6C P (F1|R) | h6C × | h6C P(F2|R&F1) | h6C ×…× | h6C P(Fn|R&F1 & ... &Fn–1) |
| h6C P(~R| F1 &...& Fn) | h6C P(~R) | h6C P (F1|~R) | h6C P(F2|~R&F1) | h6C P(Fn|~R&F1 & ... &Fn–1) |
Соответствующие раввинистические цитаты, вместе с подробным анализом многих других связанных с этой теорией спорных вопросов, см. в: Miller, 2002.
Еще одна теория внешнего фактора – настолько диковинная, что о ней едва ли даже стоило бы здесь упоминать – заключается в следующем: какой-то другой человек выдавал себя за Иисуса (ненавидимого местными вождями и незадолго до того распятого по приказу римских властей); роль эту Роберт Грег Кейвин отводит гипотетическому брату-близнецу (Cavin 1993, рр. ѵіі, 314–358).
К сожалению, подобного рода доводы используют иногда и такие авторы, которые, казалось бы, должны были лучше знать предмет (см. Plantinga 2006, рр. 15–16).
Именно на этот момент и обращает наше внимание Гэри Хабермас (Habermas 2006b, рр. 79–80).
Галлюцинация, в самом обычном и естественном смысле слова, есть некий личный опыт, некое внутреннее переживание (см. Slade & Bentall 1988, р. 16). Ряд приводимых в популярной литературе примеров (см., напр., Rawcliffe 1959, рр. 114–115) относится, скорее, к ошибочной идентификации, к принятию одного за другое, а не к собственно галлюцинациям. См., напр., историю кока–привидения у Джона Бранда (Brand 1842, р. 44). В случаях коллективных галлюцинаций важнейшую роль играют такие факторы, как напряженное ожидание, эмоциональное возбуждение и внушение. В частности, «все переживающие галлюцинацию должны заранее получить, хотя бы в общих чертах, некоторое представление о будущем объекте коллективной галлюцинации» (Zusne & Jones 1982, р. 135),
Обстоятельный научный анализ проблемы мессианских надежд и воскресения в иудаизме см. в Wright 2003, рр. 85–206.
«Более чем к дюжине» не означает здесь в точности тринадцать перечисленных нами свидетелей, поскольку мы не знаем, находился ли Матфий вместе с Одиннадцатью в упомянутом здесь отрывке; Иисусова же брата Иакова с ними тогда, по-видимому, не было. Наши слова указывают на тот факт, что, согласно Луке, некоторые «другие» находились в данном конкретном случае рядом с Одиннадцатью.
Роклиф (Rawcliffe 1959, р. 111) отмечает, что непохожие галлюцинаторные переживания разных людей «нередко приобретают искусственное сходство и единообразие в процессе их последующей гармонизации», по мере того как их вспоминают и обсуждают. Но от детализированных описаний опыта, насыщенных актами вербального и тактильного взаимодействия как с тем, кого видят, так и с другими очевидцами, так просто отмахнуться нельзя.
См. также у Кайма (Keim 1883, р. 355) сопоставление этих явлений с видениями монтанистов II века.
Это убедительно доказывает Кит Парсонс (Parsons 2005, р. 436).
Доказать обратное попытался Ричард Кэрриер (Carrier 2005а). Критику его взглядов см. в Davis 2006, рр. 56–59. Хабермас (Habermas 2006b, рр. 88–89) подчеркивает, что даже такие скептически относящиеся к идее воскресения ученые, как Герд Людеман, признают, что ученики верили в физическое воскресение Иисуса.
Майкл Мартин (Martin 2005, рр. 465–466) определяет – можно сказать, экспромтом, на глаз – что, если Иисус на самом деле не воскресал, то вероятность фактов, свидетельствующих в пользу Его воскресения, равна 1/500; данная оценка, уточняет Мартин, все еще выглядит «абсурдно низкой», использует же он ее вместо, как ему представляется, совершенно нереалистичной оценки той же вероятности у Ричарда Суинберна, а именно 1/1000. Однако тщательный анализ имеющихся данных, если их сначала рассмотреть по отдельности, а затем снова соединить их доказательную силу путем перемножения, демонстрирует, что обе эти оценки слишком завышены. А наша оценка еще не включает в себя факторы Байеса для прочих знаменательных фактов, ограничиваясь пока лишь анализом D.
Весьма подробное и энергичное обсуждение этих вопросов, до сих пор не утратившее научной ценности, см. в Lyttleton 1800, рр. 1–60.
От факта полного переворота в сознании Павла другие современники Штрауса отделываются чем-то таким, что вообще невозможно назвать «объяснением» (см., например, Geiger 1865, рр. 238–239).
Вообще говоря, хронологический приоритет не гарантирует независимости, но для целей вычисления независимой доказательной силы свидетельств в пользу R речь должна идти не о независимости вообще, но, скорее, о независимости при условии R и при условии ~R соответственно, которая, судя по всему, действительно имеет здесь место и для которой фактор хронологического приоритета является значимым.
Это один из приемов, использующихся для запугивания свидетелей.
Лаплас (Laplace 1840, рр. 11, 121–122) придает большое значение тому обстоятельству, что если свидетелю выгодно лгать в каком-то конкретном вопросе, то ценность его показаний в данном вопросе уменьшается. Разумеется, это верно, ибо вероятность того, что свидетель сказал бы то, что он действительно говорит, в подобном случае была бы выше, чем в любой другой ситуации – при допущении, что он говорит неправду. Иными словами, он мог бы солгать в своих показаниях, поскольку он имеет особый и понятный ему самому интерес сделать именно это ложное утверждение. Лаплас, однако, не учитывает, что сам интерес может быть двояким. Если в высшей степени вероятно, что ваша ложь в данном конкретном вопросе будет иметь своим следствием лишение вас жизни, притом самым мучительным образом, то у вас появляется особый интерес не лгать в данном конкретном вопросе. Все, что увеличивало в сознании апостолов вероятность мучительной смерти как неизбежного результата продолжения ими проповеди воскресения, уменьшало их заинтересованность в том, чтобы и далее упорно свидетельствовать о воскресшем Христе.
Неправдоподобность таких галлюцинаций или видений у всех учеников особенно очевидна в случае Иисусова брата Иакова, который даже не находился рядом с другими учениками вовремя предполагаемых явлений Иисуса после воскресения. Неубедительность гипотезы одновременного аналогичного опыта у всех учеников отчасти заключается в том, что они, согласно этой версии, должны были взаимодействовать друг с другом и с воскресшим Иисусом так, как если бы Он физически присутствовал рядом с ними – тогда как на самом деле Его с ними не было; интерпретация же данной теорией обращения Иакова сталкивается с иной трудностью: получается, что это обращение должно было произойти, по какому-то случайному стечению обстоятельств, под влиянием сходного опыта и примерно в то же самое время.
Сходным образом Дейл Аллисон решительно утверждает, что к формированию мировоззрения исторические доводы в пользу воскресения ни малейшего отношения не имеют (Allison 2005, р. 342).
Более детальный анализ структуры, предпринятой Плантингой реконструкции, см. в Me Grew 2004. Там было указано, что D Плантинги вытекает не из христианства (р. 13). Здесь же мы отметим, что его В также следует не из христианства и что даже без вошедших в евангельский текст сведений о том, чему учил Иисус в своей земной жизни (а к ним, по-видимому, и относится В), у нас имелись бы и другие данные из прочих частей Нового Завета, прежде всего Деяний и Посланий, которые (вместе со свидетельствами о воскресении Иисуса) подтверждали бы истинность пропозиций, включенных в G. Следовательно, даже при ложности В вероятность пропозиций в G оказалась бы, надо думать, отнюдь не ничтожной.
Сторонник сильной версии фундаментализма скажет здесь, что все не вполне достоверные пропозиции, используемые в аргументах, суть либо проводники, либо, в не столь простых случаях, элементы систем пропозиций, составляющие сложные «узлы» проводников, и что доказательная сила, которую посылки-проводники сообщают заключениям, в конечном счете восходит к достоверным основоположениям (см. Me Grew & Me Grew 2008).
Следует, однако, подчеркнуть, что не существует такого смысла, в котором разные ряды свидетельств становились бы неразличимыми и тогда, когда мы принимаем в расчет все свидетельства и рассматриваем их синхронически. Даже в этом случае разные линии аргументации остаются отличными друг от друга, ведь отношения предохранения и релевантности по-прежнему имеют здесь силу. А это, как мы увидим далее, означает, что в историческом доказательстве в пользу христианства, в каких бы терминах, диахронических или синхронических, мы его ни мыслили, ПУВ оказывается неуместным.
Такой ход мысли нельзя приписывать Суинберну, хотя Плантинга вновь пытается это сделать, ведь то, что Суинберн рассматривает «вначале» – как он заявлял неоднократно – это вероятность теизма с учетом независимых свидетельств, а не на основе всех имеющихся данных (Swinburne 2003, рр. 30–31; 2004, рр. 541–542). Суинберн не раз подчеркивал это обстоятельство публично, на заседании Тихоокеанского отделения Общества христианских философов, а также в личном общении с нами и с самим Плантингой.
«Люди, присутствовавшие там, уверяют, что все так в точности и происходило; они повторяют это до сего дня, когда им уже нет выгоды говорить неправду» (Тацит, «История», в Сочинения в 2 тЛ. 2. Л., 1969, с. 186). – Прим. пер.
Мы хотим поблагодарить Пола Майера за его щедрую помощь в исторических вопросах, Гэри Хабермаса и Клайда Биллингтона за помощь с источниками, Властимила Воханку за внимательное чтение, позволившее обнаружить одну важную опечатку, Уильяма Лейна Крейга за комментарии к предпоследнему черновому варианту и Райана Пфлума за работу над библиографией. Мы также благодарны редакции журнала Philosophia Christi за любезное разрешение включить в настоящую статью материал, первоначально опубликованный в этом журнале.
