III. Письмо второе: Сомнение
«Столп и утверждение Истины». Но как узнать его?
Этот вопрос неизбежно вводит нас в область отвлеченного знания. Для теоретической мысли «Столп Истины» это – достоверность, certitudo.
Достоверность удостоверяет меня, что Истина, если она достигнута мною, действительно есть то самое, чего я искал. Но что́ же я искал? Что разумел я под словом «Истина»? – Во всяком случае – нечто такое полное, что оно все содержит в себе и, следовательно, только условно, частично, символически выражается своим наименованием. Истина есть «сущее всеединоe», определяет философ 5. Но тогда слово «истина» не покрывает собственного своего содержания, и чтобы, хотя приблизительно, ради предварительного осознания собственных исканий, раскрыть смысл слова истина, необходимо посмотреть, какие стороны этого понятия имелись в виду разными языками, какие стороны этого понятия были подчеркнуты и закреплены посредством этимологических оболочек его у разных народов.
Наше русское слово « истина» лингвистами сближается с глаголом « есть» (истина – естина). Так что «истина», согласно русскому о ней разумению, закрепила в себе понятие абсолютной реальности: Истина – «сущее», подлинно-существующее, τὸ ὄντως ὄν или ὁ ὄντως ὤν, в отличие от мнимого, не действительного, бывающего. Русский язык отмечает в слове «истина» онтологический момент этой идеи. Поэтому «истина» обозначает абсолютное самотождество и, следовательно, саморавенство, точность, подлинность. « Истый», «истинный», «истовый» – это выводок слов из одного этимологического гнезда.
Онтологического разумения « Истины» не чуждалась и схоластическая философия. Для примера можно указать на доминиканца Иоанна Гратидеи из Асколи (†1341), который со всею решительностью настаивает, что « Истину» должно понимать не как равенство или согласие, вносимое в вещь познающим актом разума, а как то равенство, которое сама вещь вносит в свое существование во-вне; «формально истина есть та равность или та согласованность, которую сама вещь, поскольку она мыслится, вносит в себя самое в природе вещей во-вне» 6.
Обратимся тenepь к этимологии. Ист-ин-а, ист-ин-ый = истовина от ист-ый, ист-ов-ый, ист-ов-ьн-ный, ср. с лотышским ist-s, ist-en-s находится в связи с ec-ть, ест-е-ств-о (ï – в прошедшем времени = j-Ѣ- = j-е). Можно сделать сопоставление с польскими: istot-a=существо, istot-nie=действительно. istnieć=действительно существовать 7. Так же смотрят на этимологию слова «истина» и другие. По определению В. Даля, например, «истина» – «все что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть. Все, что есть, то истина; не одно ль и то же есть и естина, истина?» спрашивает он 8. То же говорят и Миклошич 9, Микуцкий 10 и наш старинный лингвист Ф. Шимкевич 11. Отсюда понятно, что среди прочих значений слова «истый» мы находим и «очень похожий». По старинному изъяснению некоего купца А. Фомина «истый: подобный, точный». Так что древний оборот: «истый во отца» (=«истый отец») объясняется им чрез «точно подобен отцу» 12.
Этот онтологизм в русском понимании истины усиливается и углубляется для нас, если мы дадим себе отчет, что́ за содержание первоначального глагола «есть». Ведь «есть» – от √es, в санскрите дающего as (например ásmi = есми; asti = ести), с есмь, есть нетрудно сопоставить древнеславянское есми; ести, греческое εἰμι (ἐσμι); латинское (е) sum, est, немецкое ist, санскритское asmi, asti и т. д. 13 Но, согласно некоторым намекам, сохранившимся в санскрите, этот √es, обозначал в древнейшей своей, конкретной фазе развития дышать, hauchen, athmen. В подтверждение такого взгляда на корень as Курциус указывает санскритские слова as-u-s – жизненное дыхание, дыхание жизни; asu-ra-s – жизненный, lebendig и на одной доске с латинским ôs – рот стоящее âs, âs-ja-m, тоже обозначающее рот; сюда же относится и немецкое athmen, дыхание. Итак «есть» первоначально значило «дышит». Но дыхание, дуновение всегда считалось главным признаком и даже самою сущностью жизни; и по сю пору на вопрос: «Жив?» обычно отвечают: «Дышит», как если бы это были синонимы. Поэтому второе, более отвлеченное значение «есть» – «жив», «живет», «силен». И, наконец, «есть» получает значение наиболее отвлеченное, являясь просто глаголом существования. Дышать, жить, быть – вот три слоя в √es, в порядке их убывающей конкретности, – по мнению лингвистов соответствующем порядку хронологическому.
Корень as обозначает, как дыхание, равномерно пребывающее существование (ein gleichmässig fortgesetze Existenz) в противоположность корню bhu,входящему в состав быть, fui, bin, φύω и т. д. и обозначающему становление(ein Werden) 14.
Э. Ренан, указывая связь понятий дыхания и существования дает параллель из семитских языков, а именно еврейское глагольное существительное הָיָה haja – случиться, возникнуть, быть или הָוָה hawa – дышать, жить, быть 15; в них он видит звукоподражательные процесса дыхания.
Благодаря такой противоположности корней es и bhu, они взаимно восполняют друг друга: первый применяется исключительно в длительныхформах, производных от настоящего времени, а второй – преимущественно в тех формах времени, которые, как аорист и перфект, означают наступившее или завершенное становление 16.
Вoзвращаяcь тeпeрь к пoнятию иcтины, в руccкoм ee разумeнии, мы мoжeм cказать: иcтина – этo «прeбывающee cущecтвoваниe»; – этo – «живущee», «живoe cущecтвo», «дышащеe», т. e. владeющee cущecтвeнным уcлoвиeм жизни и cущecтвoвания. Иcтина, как cущecтвo живoe пo прeимущecтву, – такoвo пoнятиe o нeй у руccкoгo нарoда. Нeтруднo, кoнeчнo, пoдмeтить, чтo имeннo такoe пoниманиe иcтины и oбразуeт cвoeoбразную и cамoбытную характeриcтику руccкoй филocoфии 17.
Совсем другую сторону подчеркивает в понятии истины древний эллин. Истина, – говорит он, – ἀλήθεια. Но что́ же такое эта ἀλήθεια? – Слово ἀλήθε(σ)ια, или, в ионической форме, ἀληθειη, равно как и производные: ἀληθής – истинный, ἀληθεύω – истинствую, соответствую истине и др., образовано из отрицательной частицы ἀ (ἀ privativum) и *λῆθος, дорическое λᾶθος. Последнее же слово, от √lādho, сокоренно с глаголом λάθω, ионическое λὴθω, и λανθάνω – миную, ускользаю, остаюсь незаметным, остаюсь неизвестным; в среднем же залоге этот глагол получает значение memoriā lābor, упускаю памятью, для памяти (т. е. для сознания вообще) теряю, забываю. В связи с последним оттенком корня λαθ стоят: λήθη, дорическое λάθα, λαθοσύνα, λησμοσύνα, λήστις – забвение и забывчивость; ληθεδανός – заставляющий забывать; λήθαργος – забывающий и, отсюда, λήθαργος – позыв к сну, Schlafsucht, как хотение погрузиться в состояние забвенности и бессознательности, и, далее, название патологического сна, летаргия. 18Древнее представление о смерти, как о переходе в существование призрачное, почти в самозабвение и бессознательность и, во всяком случае, в забвение всего земного, – это представление символически запечатлено в образе испиения тенями воды от подземной реки Забвения, «Леты». Пластический образ летейской воды, τὸ Λήθης ὕδωρ, равно как и целый ряд выражений, вроде: μετὰ λήθης – в забвении; λήθην ἔχειν – иметь забвение, т. е. быть забывчивым; ἐν λήθη τινὸς εἶναι – быть в забвении чего, забыть о чем;λήθην τινὸς ποιείσθαι – производить забвение чего, предавать что забвению; λησμοσύναν θέσθαι – положить забвение, привести в забвение;λῆστιν ἴσκειν τι – забывать что и др. – все это вместе ясно свидетельствует, что забвение было для эллинского понимания не состоянием простого отсутствия памяти, а специальным актом уничтожения части сознания, угашением в сознании части реальности того, что забывается, – другими словами, не неименением памяти, а силою забвения. Эта сила забвения – сила всепожирающего времени.
Все – текуче. Время есть форма существования всего, что ни есть, и сказать: «существует» – значит сказать: «во времени», ибо время есть форма текучести явлений. «Все течет и движется, и ничто не пребывает; πάντα ῥεῖ καὶ κινεῖται, καὶ οὐδὲν μένει», – жаловался уже Гераклит. Все ускользает из сознания, протекает сквозь сознание, – забывается. Время – χρόνος производит явления, но, как и его мифологический образ, как Κρόνος, оно пожирает своих детей. Самая сущность сознания, жизни, всякой реальности – в их текучести, т. е. в некотором метафизическом забвении. Оригинальнейшая из философий наших дней, – философия времени Анри Бергсона, 19, – всецело построена на этой несомненной истине, на идее о реальности времени и его мощи. Но, несмотря на всю несомненность этой последней, у нас незаглушимо требование того, что не забвенно, что незабываемо, что «пребывает, μένει» в текущем времени. Эта незабвенность и есть ἀλήθεια. Истина, в понимании эллина, есть ἀλήθεια, т. е. нечто способное пребывать в потоке забвения, в летейских струях чувственного мира, – нечто превозмогающее время, нечто стоящее и не текущее, нечто вечно памятуемое. Истина есть вечная память какого-то Сознания; истина есть ценность, достойная вечного памятования и способная к нему.
Память хочет остановить движение; память хочет неподвижно поставить пред собою бегущее явление; память хочет загатить плотину навстречу потоку бывания. Следовательно, незабвенное сущее, которого ищет сознание, эта ἀλήθεία есть покоящийся поток, пребывающее течение, неподвижный вихрь бытия. Самое стремление памятовать, эта «воля к незабвенности», превышает рассудок; но он хочет этого самопротиворечия. Если понятие памяти, по существу своему, выходит за границы рассудка, то Память в высшей мере своей, – Истина, – тем более выше рассудка. Память-Мнемосина есть мать Муз – духовных деятельностей человечества, спутниц Аполлона – Творчества Духовного. И, тем не менее, древний эллин требовал от Истины того же самого признака, который указуется и Словом Божиим, ибо там говорится, что «Истина Господня пребывает во век, לְעולָם» (Пс.116:2, по еврейскому счету 117:2) и еще: «В род и род Истина Твоя» (Пс.118:90, по еврейскому счету 119:9).
Латинское слово veritas, истина, происходит, как известно, от √var. Ввиду этого слово veritas считается сокоренным русскому слову вера, верить; от того же корня происходят немецкие währen – беречь, охранять и wehren – возбранять, не допускать, а также – быть сильным. Wahr, Wahrheit истинный, истина относится сюда же, равно как и прямо происходящее из латинского veritas французское verité. Что √var первоначально указывает на область культовую – это видно, как говорит Курциус, 20 из санскритского vra-ta-m – священное действие, обет, из зендского varena – вера, затем из греческих βρέ-τας – нечто почитаемое, деревянный кумир, истукан; слово ἑορτή (вместо έ Foρ-τή) – культовое почитание, религиозный праздник по-видимому относится сюда же; о слове вера уже сказано. Культовая область √var и тем более слова veritas наглядно выступает при обозрении латинских же сокоренных слов. Так, глагол ver-e-or или re-vereor, в классической латыни употреблявшийся в более общем смысле – остерегаюсь, берегусь, боюсь, пугаюсь, страшусь, почитаю, уважаю, благоговею со страхом, первоначально бесспорно относился к мистическому страху и происходящей отсюда осторожности при слишком близком подхождении к священным существам, местам и предметам. Табу, заповедное, священное – вот что заставляет человека verēri: отсюда-то и получился католический титул духовных лиц: reverendus. Reverendus или reverendissimus pater – это лицо, с которым надо обходиться уважительно, осторожно, боязненно, иначе может худо выйти. Verenda, -orum или partes verendae – это pudenda, «тайные уды»; а известно, что древность относилась к ним почтительно, с боязливым религиозным уважением. Затем, существительное verecundia – религиозный страх, скромность, глагол verecundor – имею страх, verecundus – страшный, стыдливый, приличный, скромный, опять-таки указывают на культовую область применения √var. Отсюда понятно, что verus означает, собственно, защищенный, обоснованный, в смысле табуированный, заклятый. Verdictum – вердикт, приговор судей, – конечно в смысле религиозно-обязательного постановления лиц заведывающих культом, ибо право древности есть не более, как одна из сторон культа. Другие слова, как то veridicus, veriloquium и т. д., понятны и без объяснений.
Автор латинского этимологического словаря А. Суворов указывает на глаголы говорю, реку, как на выражающие первоначальный смысл √var. Но несомненно из всего сказанного, что если √var действительно значит говорить, то – в том именно смысле, какой придавала этому слову вся древность, – в смысле вещего и могучего слова, будь то заклятие или молитва, способного сделать все заклятое не только юридически, номинально, но и мистически, реально внушающим в себе страх и благоговение 21. Vereor тогда означает, собственно, «меня заговаривают», «надо мною разражается сила заклятия».
После этих предварительных сведений уже нетрудно угадать смысл слова veritas. Отметим прежде всего, что это слово, вообще позднего происхождения, всецело принадлежало к области права и лишь у Цицерона получило значение философское, да и вообще теоретическое, относящееся до области познания. – Даже в общеморальном смысле искренности, παῤῥησία, оно встречается до Цицерона всего единожды, именно у Теренция 22 в словосочетании: «obsequium amicos, veritas odium parit – ласкательство производит друзей, а искренность – ненависть». Далее, хотя у Цицерона оно сразу получает большое применение, однако по преимуществу в правовой и отчасти моральной области. Veritas означает тут: то́ настоящее положение разбираемого дела, в противоположность ложному его освещению одной из сторон, то́ справедливость и правду, то́ правоту истца, и лишь изредка равняется «истине» приблизительно в нашем понимании 23.
Религиозно-юридическое по своему корню, морально-юридическое по своему происхождению от юриста, слово veritas и впоследствии сохраняло и отчасти усилило свой юридический оттенок. В позднейшей латыни оно стало даже иметь чисто юридическое значение: veritas, – по дю Канжу, – значит depositio testis – отвод свидетеля, veridictum; затем veritas означает inqusitio judicaria – судебное расследование; значит еще, – право, привилегия, в особенности в отношении имущества и т. п. 24
Древний еврей, да и семит вообще, в языке своем запечатлел опять особый момент идеи Истины, – момент исторический или, точнее, теократический. Истиною для него всегда было Слово Божие. Неотменяемость этого Божиего обетования, верность его, надежность его – вот что для еврея характеризовало его в качестве Истины. Истина – это Надежность. «Скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет» (Лк.16:17); этот безусловно непреложный и неизменный «закон» есть то, чем в Библии представляется Истина.
Слово 25 אְ֛מֶת ’эмет или, на жаргонном произношении, эмес, истина имеет в основе √אמן, √»мн.. Происходящий отсюда глагол אַ֛מַן ’аман значит, собственно, подпер, поддержал. Это основное значение глагола ’аман еще сильнее указуется сокоренными существительными из области архитектуры: אמנְה ’омнā – колонна и אָמון ’āмон – строитель, мастер, а отчасти и словом אמֵן ’омēн – педагог, т. е. строитель детской души. Затем, непереходное среднее значение глагола ’āман – был поддержан, был подперт – служит отправным пунктом для целого выводка слов более отдаленных от основного значения глагола ’āман, а именно: был крепок, тверд (– как подпертый, как поддержанный –), поэтому, – был непотрясаем; следовательно был таков, что на него с безопасностью для него можно опереться, и, наконец, был верен. Отсюда, слово אֲמֵן ’āмēн или новозаветное ἀμήν, аминь означает: «слово мое крепко», «воистину», «конечно», «так должно быть», «да будет, fiat» и служит формулою для скрепления союза или клятвы, а также употребляется в заключении доксологии или молитвы, тут – удвоенно. Смысл слова «аминь»хорошо уясняется из Откр.3:14: «τάδε λέγει ὁ Ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς καὶ ἀληθινός – сие глаголет Аминь свидетель верный и истинный», ср. Ис.65:16: אֲלדֵ֥י־אַמֵ ’элогэ ’амен – «Бог, которому должно довериться». Отсюда понятна вся совокупность значений слова אֱמֶת ’эмет (вместо אֲמֵנֶת ’амēнēт. Непосредственнейшие значения его: – твердость, устойчивость, долговременность; отсюда – безопасность. Далее вера-верность, fides, в силу которой, кто постоянен в себе, тот сохраняет и выполняет обещание, – понятия Treue и Glaube. Понятна, затем, связь этого последнего понятия с честностью, целостностью души. Как признак судьи или судебного приговора ’эмет означает, поэтому, справедливость, истинность. Как признак внутренней жизни, она противополагается притворству и имеет значение искренности, – по преимуществу искренности в Богопочитании. И, наконец, ’эмет соответствует нашему слову истина, в противоположность лжи; таков именно случай употребления этого слова в Быт.42:16; Втор.26:20; 2Цар.7:28 (2 Sam7:28), см. также I Reg 10:6, 22:16, Ps 15:2, 51:8 и т. д.
Отсюда, от этого последнего оттенка слова ’эмет происходит и термин меамес, употребляемый еврейскими философами, например Маймонидом, «для означения людей, стремящихся к умственному познанию истины, не довольствуясь авторитетом и обычаем» 26.
Итак, Истина для еврея, действительно, есть «верное слово», «верность», «надежное обещание». А так как надеяться «на князи, на сыны человечестии» – тщетно, то подлинно надежным словом бывает лишь Божие Слово; Истина есть непременное обетование Божие, обеспечением которого служит верность и неизменность Господа. Истина, следовательно, есть понятие не онтологическое, как у славян, и не гносеологическое, как у эллинов, и не юридическое, как у римлян, а историческое или, скорее, священно-историческое, теократическое. При этом можно отметить, что четыре найденных нами оттенка в понятии истины сочетаются попарно, следующим образом: русское Истина и еврейское אֱמֶת ’эмет относятся преимущественно к божественному содержанию Истины, а греческое Ἀλήθεια и латинское Veritas – к человеческой форме ее. С другой стороны, термин русский и греческий – характера философского, тогда как латинский и еврейский – социологического. Я хочу сказать этим, что в понимании русского и эллина Истина имеет непосредственное отношение к каждой личности, тогда как для римлянина и еврея она опосредствована обществом. – Таким образом, итог всего вышесказанного о делении понятия истины удобно может быть представлен в следующей табличке:

«Что́ есть истина?» вопрошал Пилат у Истины. Он не получил ответа, – потому не получил, что вопрос его был всуе. Живой Ответ стоял пред ним, но Пилат не видел в Истине ее истинности. Предположим, что Господь не только своим вопившим молчанием, но и тихими словами ответил бы Римскому Прокуратору: «Я есмь Истина». Но и тогда, опять-таки, вопрошавший остался бы без ответа, потому что не умел признать Истину за истину, не мог убедиться в подлинности ее. Знание, в котором нуждался Пилат, знание, которого прежде всего не хватает у человечества, это есть знание условий достоверности.
Что ж такое достоверность? Это – узнание собственной приметы истины, усмотрение в истине некоторого признака, который отличает ее от неистины. С психологической стороны таковое признание знаменует себя как невозмущаемое блаженство, как удовлетворенное алкание истины.
Познаете Истину (τὴν ἀλήθεια) и Истина (ή ἀλήθεια) сделает вас свободными» (Ин.8:32). От чего? – Свободными вообще от греха (Ин.8:34), – от всякого греха т. е., в области ведения, ото всего, что неистинно, что не соответствует истине. «Достоверность», – говорит архимандрит Серапион Машкин, 27 – есть чувство истины. Оно возникает при произношении необходимого суждения и состоит в исключении сомнения в том, что произносимое суждение когда или где-либо изменится. Следовательно, достоверность есть интеллектуальное чувство принятия произносимого суждения в качестве истинного». Под критерием истины, – говорит тот же философ в другом сочинении, – мы разумеем состояние обладающего истиной духа, состояние полной удовлетворенности, радости, в котором отсутствует всякое сомнение в том, что выставляемое положение соответствует подлинной действительности. Достигается такое состояние удовлетворением суждения о чем-либо известному положению, называемому мерилом истины или ее критерием».
Вопрос о достоверности истины сводится к вопросу о нахождении критерия. В ответ на последний стекается воедино, как бы в жало системы, вся ее доказательная сила.
Истина делается моим достоянием чрез акт моего суждения. Своим суждением я восприемлю в себя истину 28. Истина, как истина, Открывается мне посредством моего утверждения ее. И потому возникает такой вопрос:
Если я утверждаю нечто, то чем же гарантирую я себе его истинность? Я приемлю в себя нечто, в качестве истины; но следует ли делать это? Не есть ли самый акт суждения моего то, что удаляет меня от искомой истины? Или, другими словами, какой признак я должен усмотреть в своем суждении, чтобы быть внутренне спокойным? –
Всякое суждение – или чрез себя, или чрез другого, т. е. оно или дано непосредственно или опосредствованно, как следствие другого, имея в этом другом свое достаточное основание. – Если же оно ни чрез себя не дано, ни другим не опосредствовано, то оно, тем самым, оказывается лишенным как реального содержания, так и разумной формы, т. е. оно вовсе не есть суждение, а одни лишь звуки, flatus vocis, колебания воздуха, – не более. Итак, всякое суждение необходимо принадлежит по меньшей мере к одному из двух разрядов. Рассмотрим же теперь каждое из них особо.
Суждение, данное непосредственно, есть самоочевидность интуиции, evidentia, ἐνάργεια. Далее она дробится:
Она может быть самоочевидностью чувственного опыта, и тогда критерий истины есть критерий эмпириков внешнего опыта (эмпириокритицистов и проч.): «Достоверно все то, что может быть сведено к непосредственным восприятиям органов чувств; достоверно восприятие объекта».
Она может быть самоочевидностью интеллектуального опыта, и критерием истины в этом случае будет критерий эмпириков внутреннего опыта (трансцендентапистов и проч.), а именно: «Достоверно все то, что приводится к аксиоматическим положениям рассудка; достоверно самовосприятие субъекта».
И, наконец, самоочевидность интуиции может быть самоочевидностью интуиции мистической; получается критерий истины, как он разумеется большинством мистиков (особенно индусских): «Достоверно все то, что остается, когда отвеяно все неприводимое к восприятию субъект-объекта, достоверно лишь восприятие субъект-объекта, в котором нет расщепления на субъект и объект» 29.
Таковы три вида самоочевидной интуиции. Но все эти три вида данности, – чувственно-эмпирическая, трансцендентально-рационалистическая и подсознательно-мистическая, – имеют один общий недостаток; это – голая их данность, их неоправ-данность. Такую данность сознание воспринимает, как что-то внешнее для себя, принудительное, механическое, напирающее, слепое, тупое, наконец, неразумное, а потому условное. Разум не видит внутренней необходимости своего восприятия, а только – необходимость внешнюю, т. е. насильственную, вынужденную, – неизбежность. На вопрос же: «Где основание нашему суждению восприятия?» все эти критерии отвечают: «В том, что чувственное ощущение, интеллектуальное усмотрение или мистическое восприятие есть именно это самое ощущение, усмотрение и восприятие». – Но почему́ же «это» есть и именно «это», а не что-либо иное? В чем разум этого само-тождества непосредственной данности? – «В том, – говорят, – что и вообще всякая данность есть она сама: всякое А есть А».
А=А. Таков последний ответ. Но эта тавтологическая формула, это безжизненное, бессмысленное и потому бессмысленное равенство «А=А» есть на деле лишь обобщение само-тождества, присущего всякой данности, но никоим образом не ответ на наш вопрос «Почему?..». Другими словами, она переносит наш частный вопрос с единичной данности на данность вообще, показывает наше тягостное состояние момента в исполинских размерах, как бы проецируя его волшебным фонарем на все бытие. Если мы наткнулись ранее на камень, то теперь нам заявлено, что это – не отдельный камень, а глухая стена, охватывающая всю область нашей пытливости.
А=А. Этим сказано все; а именно: «Знание ограничено суждениями условными» или, попросту: «Молчи, говорю тебе!». Механически затыкая рот, эта формула обрекает на пребывание в конечном и, следовательно, случайном. Она заранее утверждает раздельность и эгоистическую обособленность последних элементов сущего, разрывая тем всякую разумную связь между ними. На вопрос «Почему?», «На каком основании?» она повторяет: «Sic et non aliter, – так и не иначе», обрывая вопрошающего, но, не умея ни удовлетворить его, ни научить самоограничению. Всякое философское построение этого типа дается по парадигму следующего разговора моего со старухою-служанкой:
Я: Что такое солнце? – Она: «Солнышко». – Я: Нет, что́ оно такое? – Она:«Солнце и есть». – Я: А почему оно светит? – Она: «Да так; солнце и есть солнце, потому и светит. Светит и светит. Посмотри, вон какое солнышко…» Я: А почему́? – Она: «Господи, Павел Александрович, словно я знаю! Вы грамотный народ, ученый, а мы – неучены».
Само собою ясно, что критерий данности, в той или иной своей форме применяемый подавляющим большинством философских школ, не может дать достоверности. Из «есть», как бы глубоко оно ни залегло в природе, или в моем существе, или в общем корне той и другого, никак не извлечь «необходимо».
Но мало того. Если бы даже мы не заметили этой слепоты голого тождесловия А=А, если бы нам не было душно в «есть потому что есть»,то, все равно, сама действительность заставила бы нас устремить на нее умственный взор.
То́ именно, что принимается за критерий истины в силу своей данности, оказывается нарушаемым действительностью решительно со всех сторон.
По странной иронии, именно тот критерий, который хочет опираться исключительно на свое фактическое господство надо всем, на право силы над каждою действительною интуицией, – он-то и нарушается фактически каждою действительною интуицией. Закон тождества, претендующий на абсолютную все-общность, оказывается не имеющим места решительно нигде. Он видит свое право в своей фактической данности, но вся данность toto genere фактически же отвергает его, нарушая его как в порядке пространства, так и в порядке времени, – всюду и всегда. Каждое А, исключая все прочие элементы, исключается всеми ими; ведь если каждый из них для А есть только не-А, то и А супротив не-А есть только не-не-А. Под углом зрения закона тождества, все бытие, желая утверждать себя, на деле только изничтоживает себя, делаясь совокупностью таких элементов, из которых каждый есть центр отрицаний, и притом только отрицаний; таким образом, все бытие является сплошным отрицанием, одним великим «Не». Закон тождества есть дух смерти, пустоты и ничтожества.
Раз наличная данность является критерием, то так – абсолютно везде и всегда. Поэтому все взаимоисключающие А, как данные, истинны, – все истинно. Но это приводит к нулю власть закона тождества, ибо он оказывается тогда содержащим в себе внутреннее противоречие.
Но, впрочем, нет надобности указывать на то, что один воспринимает так, а другой – иначе: не неизбежно ссылаться на само-разногласие сознания в пространстве. Такую же множественность являет в себе и каждый отдельный субъект. Изменение, происходящее во внешнем мире, в мире внутреннем и, наконец, в мире мистических восприятий, – и это все согласно взывает: «Прежнее А не равно теперешнему А, и будущее будет разнствовать с настоящим». Настоящее так же противополагает себя своему прошедшему и будущему во времени, как в пространстве это было со всем, для элемента внеположным. И во времени сознание само-разногласно. Везде и всегда – противоречие; но тождества – нигде и никогда.
Закон «А=А» обращается в совсем пустую схему самоутверждения, не синтезирующую собою никаких действительных элементов, – ничего, что стоило бы соединять знаком «=». «Я=Я» оказывается ничем более, как криком обнаженного эгоизма, – «Я!», – ибо, где нет различия, там не может быть и соединения. Есть, следовательно, одна лишь слепая сила косности и самозаключения, – эгоизм. Вне себя Я ненавидит всякое Я, ибо для него оно – не-Я, и, ненавидя, стремится исключить его из сферы бытия; а так как прошедшее Я (Я в его прошлом) тоже рассматривается объективно, т. е. тоже является как не-Я, то и оно непримиримо подвергается исключению. Я не выносит себя же во времени, всячески отрицается себя самого в прошлом и в будущем, и, тем самым, – так как голое «теперь» есть чистый нульсодержания, – Я ненавидит всякое конкретное свое содержание, т. е. всякую свою же жизнь. Я оказывается мертвою пустынею «здесь» и «теперь». Но тогда что же подлежит формуле «А = А»? – Только фикция (атом, монада и т. п.), только ипостазированное отвлечение от момента и точки, в себе – не сущих. Закон тождества есть неограниченный монарх, да; но его подданные только потому не возражают против его самодержавия, что они – бескровные призраки, не имеющие действительности, – не личности, а лишь рассудочные тени личностей, т. е. не-сущие вещи. Это – шеол; это – царство смерти.
Повторим, теперь, вместе все сказанное. Рассудочно, т. е. сообразно мере рассудка, вместимо в рассудок, отвечает требованиям рассудка, лишь то, что выделено из среды прочего, что не смешивается с прочим, что замкнуто в себя, – одним словом, что самотождественно. Лишь А, равное самому себе и неравное тому, что не есть А, рассудок считает за подлинно сущее, за τὸ ὄν, τὸ ὄντως ὄν, за «истину»; и наоборот, всему неравному самому себе или равному не себе он отказывает в подлинном бытии, игнорирует его, как «не сущее» как не воистину сущее, как τὸ μὴ ὄν. Это μὴ ὄν он лишь терпит, лишь допускает, как не-истину, уловляя его, – по слову Платона, – чрез какое-то незаконное рассуждение, ἁπτὸν λογισμῷ τινὶ νόθῳ (νόθος, собственно, значит незаконорожденный) 30.
Только первое, т. е. «сущее», рассудком признается; от второго же, т. е. не-сущего», наклеив этикетку «τό μή ὄν», рассудок отделывается, не замечает его, делая вид, как если бы его вовсе не было. Для рассудка только высказывание о «сущем» есть истина; напротив, высказывание о «несущем» даже не есть в собственном смысле высказывание: оно – лишь δόξα, «мнение» лишь видимость высказывания, лишенная, однако, его силы. Оно – только «так».
Но поэтому и выходит, что рассудочное есть в то же время необъяснимое: объяснить А это значит привести А «к другому», к не-А, к тому, что не есть А и что, следовательно, есть не-А, вывести А из не-А, породить А. И, если А действительно удовлетворяет требованию рассудка, если оно действительно рассудочно, т. е. безусловно самотождественно, то, тем самым, оно – и необъяснимо, неприводимо «к другому» (к не-А), невыводимо «из другого». Следовательно, рассудочное А есть безусловно неразумное, иррациональное, слепое А, непрозрачное для разума. То, что рассудочно, то неразумно, – несообразно мере разума. Разум противен рассудку, как и этот последний – первому, ибо требования их противоположны. Жизнь, – текучая, несамотождественная, – жизнь может быть разумна, может быть прозрачна для разума (так ли это – пока еще мы того не узнали); но именно потому самому она была бы невместима в рассудок, противна рассудку, разрывала бы его ограниченность. А рассудок, враждебный жизни, – поэтому самому, в свою очередь, искал бы умертвить ее, прежде нежели согласится принять ее в себя. 31
Итак, если критерий самоочевидности недостаточен прежде всего теоретически, как останавливающий искание духа, то он негоден, затем, и практически, как не могущий осуществишь своих притязаний и в им же обведенных границах. Непосредственная данность интуиции всех трех родов (объективной, субъективной и субъективно-объективной) не дает достоверности. Этим в корне осуждаются решительно все философские догматические системы, не исключая и кантовой, для которой чувственность и разум со всеми его функциями суть простые данности.
Обращаюсь теперь к суждению не непосредственному, а к опосредствованному, – к тому, что принято называть дискурсией, ибо здесь разум discurrit, перебегает к суждению какому-то другому.
Достоверность его, по самому названию, полагается в приводимости его к другому суждению. На вопрос об основании суждения отвечает уже не оно само, но иное. В другом суждении данное является как оправ-данное, – в своей правде. Таково относительное доказательство одного суждения на почве другого; относительно доказать и значит показать, как одно суждение образует следствие другого, порождается другим 32. Разум переходит при этом к суждению обосновывающему. И оно не может быть просто данным, ибо тогда все дело сводилось бы к критерию самоочевидности. И оно должно быть оправданным в другом суждении. И оно приводит к другому. Так идет дело и далее. – Это весьма похоже на то, как говорили наши деды, построяя целые цепи из объяснительных звеньев. Например, в одной сербско-болгарской рукописи XV-го века читаем:
«Да скажи ми: що дрьжить землю! Рече: вода висока. Да що дрьжить воду? Ответ: камень плосень вельми. Да що дрьжить камень? Рече: камень дрьжить 4 китове златы. Да что дрьжить китове златы? Рече: река огньнная. Да что дрьжить того огня? Рече: други огнь, еже есть пожечь, того огня 2 че(а)сти. Да что дрьжить того огня? Рече: дуб железны, еже есть первонасажден отвъсего же (его же) корение на силе божией стоить». 33
Но где конец? – Свои «объяснения» или «оправдания» наличной действительности наши предки заканчивали ссылкой на Божественные атрибуты; но так как они не показывали, почему же эти последние должно признать оправданными, то ссылка наших предков на волю Божию или на силу Божию, если только не была прямым отказом от объяснения, необходимо должна была иметь смысл формальный, как сокращенное обозначение продолжаемости объяснительного процесса. Современный язык пользуется для той же цели выражениями: «и проч.», «и т. д.», «и т. п.». Но смысл того и другого ответа – один и тот же: ими хотят сказать, что нет конца этому оправдыванию данной действительности. В самом деле, раз уж кто, оставив детскую веру, вступил на путь объяснений и обоснований, для того неизбежно кантовское правило, что «самые дикие гипотезы более выносимы, чем ссылка на сверхъестественное». 34 И потому, на вопрос: «Где же конец?» отвечаем: «Конца нет». Есть беспредельное отступление назад, regressus in indefinitum – нисхождение в серый туман «дурной» бесконечности, никогда не останавливающееся падение в беспредельность и в бездонность. 35 Этому удивляться не следует: иначе даже и быть не должно. Ведь если бы ряд нисходящих обоснований оборвался где-нибудь, то соответственное звено разрыва было бы слепым, было бы тупиком, разрушало бы самую идею достоверности разбираемого типа – достоверности отвлеченно-логической, дискурсивной, в отличие от предыдущей – конкретно-воззрительной, интуитивной. В возможности оправдать всякую ступень нисходящей лестницы суждений, т. е. в непререкаемой всегдашней беспрепятственности спуститься еще хотя бы на одну ступеньку ниже всякой данной, т. е. во всегдашней допустимости перехода от n к (n +1), каково бы ни было n, – тут, – говорю, – заложена, как зародыш в яйце, вся суть, вся разумность, весь смысл нашего критерия.
Но эта-то суть его и есть его ахиллесова пята. Regressus in indefinitum дается in potentia, как возможность, но не in actu, не как законченная и осуществленная когда-нибудь и где-нибудь действительность. Разумное доказательство только создает во времени мечту о вечности, но никогда не дает коснуться самой вечности. И потому разумность критерия, достоверность истины никогда не дана, как таковая, в действительности, актуально, в ее оправданности, но всегда – только в возможности, потенциально, в ее оправдываемости.
Интуиция, в данной непосредственно своей конкретности, была величиною действительною, хотя, правда, слепою и потому условною; она не могла удовлетворить нас. Но дискурсия, во всегда только оправдываемой посредственно своей отвлеченности, неотменно является величиною лишь возможною, ирреальною, хотя (– зато! –) разумною и безусловною. Конечно, и ее мы признаем неудовлетворительною.
Скажу попросту: слепая интуиция – синица в руках, тогда как разумная дискурсия – журавль на небе.
Если первая доставляла нефилософское удовлетворение своею наличностью, своею надежностью, то вторая фактически бывает не достигнутой разумностью, но лишь регулятивным принципом, правилом деятельности разума, дорогою, по которой мы должны вечно идти, чтобы… чтобы никогда не прийти ни к какой цели. Разумный критерий есть направление, а не цель.
Если слепая и нелепая интуиция может еще дать успокоение уму нефилософскому, в его практической жизни, то разумная дискурсия, конечно, годится лишь для литературных упражнений школы или для научного самодовольства кабинета, – для «занимающихся» философией, но самое ее ни разу не вкусивших.
Несокрушимая стена и непереплываемое море; мертвенность остановки и суетливость непрекращаемого движения; тупость золотого тельца и вечная недостроенность вавилонской башни, т. е. истукан и «Будете как боги»; наличная действительность и никогда не завершенная возможность; бесформенное содержание и бессодержательная форма; конечная интуиция и безграничная дискурсия – вот сцилла и харибда на пути к достоверности. Дилемма весьма грустная! Первый выход: тупо упереться в очевидность интуиции, в конце концов сводящейся к данности известной организации разума, откуда и вытекает пресловутый спенсеровский критерий достоверности. Второй выход: безнадежно устремиться в разумную дискурсию, являющуюся пустою возможностью, спускаться ниже и ниже в глубину мотивации.
Но ни там, ни тут нет удовлетворения в поисках Нетленной Правды. Ни там, ни тут не получается достоверности. Ни там, ни тут не видать «Столпа Истины».
Нельзя ли подняться над обоими препятствиями?
Возвращаемся к интуиции закона тождества.
Но, исчерпав средства реализма и рационализма, мы невольно поворачиваемся к скепсису, т. е. к рассмотрению, к критике суждения самоочевидного.
Как устанавливающее фактическую неразрывность подлежащего и его сказуемого в сознании, такое суждение ассерторично. Связь подлежащего и сказуемого есть, но ее может и не быть. В складе ее нет еще ничего, что делало бы ее аподиктически-необходимою, неотменяемою и непреложною. То единственное, что может установить такую связь, есть доказательство. Доказать – это значит показать, почему мы считаем сказуемое суждение аподиктически-связанным с подлежащим. Не принимать ничего без доказательства – это значит не допускать никаких суждений, кроме аподиктических. Считать всякое недоказанное положение недостоверным – таково основное требование скепсиса; другими словами, – не допускать абсолютно никаких недоказанных предпосылок, какими бы самоочевидными они ни были. Это требование мы находим отчетливо выраженным уже у Платона и Аристотеля. Для первого, т. е. для Платона, даже «правильное мнение – τὸ ὀρθὰ δοξάζειν», которое нельзя подтвердить доказательством, не есть «знание, ἐπιστήμη», «ибо дело недоказанное ка́к могло бы быть знанием – ἄλογον γὰρ πρᾶγμα πῶς ἄν εἴη ἐπιστήμη», хотя оно, вместе с тем, не может быть названо и «незнанием, ἀμαθία». 36 А для второго, т. е. для Аристотеля, «знание, ἐπιστήμη» есть не иное что, как «доказанное обладание – ἕξις ἀποδεικτική», 37 откуда происходит и самый термин «аподиктический».
«Но, – скажут, – ведь последнее положение, – т. е. принятие только доказанных положений и отметание всего недоказанного, – само-то оно недоказано; вводя его разве не пользуется скептик как раз тою же самою недоказанною предпосылкой, которую он осудил у догматика?» – Нет. Оно – лишь аналитическое выражение существенного стремления философа, его любви к Истине. Любовь к Истине требует именно истины, а не чего-либо иного. Недостоверное может и не быть искомою истиной, может быть не-истиной, и потому любящий Истину необходимо заботится о том, чтобы под личиною очевидности не проскользнула к нему не-истина. Но именно таким сомнительным складом отличается очевидность. Она – тупое первое, дальше не обосновываемое. А так как она и недоказуема, то философ попадает в апорию («ἀπορία» 38), в затруднительной положение. Единственное, что он мог бы принять, это – очевидность, но и ее он не может принять. И, не будучи в состоянии высказать достоверное суждение, он обречен «ἐπἕχειν», – медлить с суждением, воздерживаться от суждения. Ἐποχή, или состояние воздержания от всякого высказывания, – вот последнее слово скепсиса. 39
Но что такое ἐποχὴ как устроение души? есть ли это «невозмутимость, ἀταπαξία», 40 – то глубокое спокойствие отказавшегося от каких бы то ни было высказываний духа, та кротость и тишина, о которых мечтали древние скептики, или что-нибудь иное? – Посмотрим.
И еще: решившийся на атараксию в самом ли деле делается мирным и успокоенным, подобно Пиррону, – тому самому Пиррону, в котором скептики всех времен видели своего патрона и чуть ли ни святого? 41 Или, напротив, чарующий образ этого великого скептика имеет корень свой совсем не в теоретическом изыскании истины, а в чем-либо ином, чего не успел задеть скепсис?
– Посмотрим.
Выраженная в словах, ἐποχὴ сводится к следующему двухсоставному тезису:
| «Я ничего не утверждаю; «не утверждаю и того, что ничего не утверждаю». |
Этот дву-домный тезис доказывается положением, установленным ранее, а именно: «Всякое недоказанное положение недостоверно»; а последнее есть обратная сторона любви к Истине.
Раз так, то я не имею никакого доказанного положения; я ничего не утверждаю. Но, высказав только что высказанное, я и это положение должен снять, ибо и оно не доказано. Вскроем первую половину тезиса. Тогда она предстанет в виде двухсоставного суждения:
| «Я утверждаю, что ничего не утверждаю (Аʹ); «я не утверждаю, что ничего не утверждаю (Аʹʹ)», |
слагающегося из частей Аʹ и Аʹʹ. Теперь, как оказывается, мы явно нарушаем закон тождества, высказывая об одном и том же подлежащем, – об утверждении своем, А, – в одном и том же отношении, противоречивые сказуемые. Но мало того.
И та, и другая часть тезиса является утверждением: первая – утверждением утверждения, вторая – утверждением не-утверждения. К каждой из них неизбежно применяется тот же процесс. А именно, получаем:
| «Я утверждаю (Αʹ 1); «я не утверждаю (А 2ʹ). «Я утверждаю (Α 1ʹʹ); «я не утверждаю (А 2ʹʹ)». |
Точно таким же образом процесс пойдет далее и далее, при каждом новом колене удваивая число взаимопротиворечащих положений. Ряд уходит в бесконечность, а рано или поздно, будучи вынуждены прервать процесс удвоения, мы ставим в неподвижности, как застывшую гримасу, явное нарушение закона тождества. Тогда получается властное противоречие, т. е. зараз:
| А есть А; А не есть А. |
Не будучи в состоянии активно совместить эти две части одного положения, мы вынуждены пассивно предаться противоречиям, раздирающим сознание. Утверждая одно, мы в этот же самый миг нудимся утверждать обратное; утверждая же последнее – немедленно обращаемся к первому. Как тенью предмет, каждое утверждение сопровождается мучительным желанием противного утверждения. Внутренне сказав себе «да», в то же мгновение говорим мы «нет»; а прежнее «нет» тоскует по «да». «Да» и «нет» – неразлучны. Теперь далеко уже сомнение, – в смысле неуверенности: началось абсолютное сомнение, как полная невозможность утверждать что бы то ни было, даже свое не-утверждение. Последовательно развиваясь, выявляя присущую ему in nuce идею, скепсис доходит до собственного отрицания, но не может перескочить и чрез последнее, так что обращается в бесконечно-мучительное томление, в потуги, в агонию духа. Чтобы пояснить себе это состояние, вообрази утопающего, который силится ухватить полированную облицовку отвесной набережной; он царапается ногтями, срывается, снова царапается и, обезумев, цепляется еще и еще. Или, еще, представь себе медведя, старающегося спихнуть в сторону колотушку, подвешенную пред бортёвою сосною; чем дальше толкает он бревно, тем болезненнее обратный удар, тем более вздымается внутренняя ярость, тем слаще представляется мед.
Таково и состояние последовательного скептика. Выходит даже не утверждение и отрицание, а безумное вскидывание и корча, неистовое топтание на месте, метание из стороны в сторону, – какой-то нечленораздельный философский вопль. В результате же – воздержание от суждения, абсолютная ἐποχή, но не как спокойный и бесстрастный отказ от суждения, а как затаенная внутренняя боль, стискивающая зубы и напрягающая каждый нерв и каждый мускул в усилии, чтобы только не вскрикнуть и не завыть окончательно безумным воем.
Уж конечно, это – не атараксия. Нет, это наисвирепейшая из пыток, дергающая за сокровенные нити всего существа; пирроническое, поистине огненное (πῦρ – огонь) терзание. Расплавленная лава течет по жилам, темный огонь проникает внутренность костей и, одновременно, мертвящий холод абсолютного одиночества и гибели леденит сознание. Нет слов, нет даже стонов, хотя бы на воздух, выстонать миллион терзаний. Язык отказывает повиноваться; как говорит Писание «язык мой прильпнул к гортани моей» (Пс.21:16; ср. Пс.136:6; Плч.4:4; Иез.3:36). Нет помощи, нет средств остановить пытку, ибо палящий огонь Прометея идет изнутри, ибо истинным очагом этой огневой агонии является самый центр философа, его «Я», домогающееся неусловного знания.
Истины нет у меня, но идея о ней жжет меня. Я не имею данных утверждать, что вообще есть Истина и что я получу ее; а сделав подобное утверждение, я отказался бы тем самым от жажды абсолютного, потому что принял бы нечто недоказаное. Но, тем не менее, идея об Истине живет во мне, как «огнь поядаяй», и тайное чаяние встретиться с нею лицом к лицу прилепляет язык мой к гортани моей; это оно, именно, огненным потоком кипит и клокочет в моих жилах. Не будь надежды, кончилась бы и пытка; сознание вернулось бы тогда к философскому филистерству, в область условностей. Ведь именно этоогненное упование на Истину, именно оно плавит своим черным пламенем гремучего газа всякую условную истину, всякое недостоверное положение. Впрочем, недостоверно и то, что я чаю Истины. Может быть, и это – только кажется. А кроме того, может быть, и самое казание есть не казание?
Задавая себе последний вопрос, я вхожу в последний круг скептического ада, – в отделение, где теряется самый смысл слов. Слова перестают быть фиксированы и срываются со своих гнезд. Все превращается во все, каждое словосочетание совершенно равносильно каждому другому, и любое слово может обменяться местом с любым. Тут ум теряет себя, теряется в безвидной и неустроенной бездне. Тут носится горячечный бред и бестолочь.
Но это предельно-скептическое сомнение возможно лишь как неустойчивое равновесие, как граница абсолютного безумия, ибо что иное есть безумие, как ни без-умие, как ни переживание без-субстанциональности, без-опорности ума. 42 Когда оно переживается, то его тщательно скрывают от других; а раз переживши вспоминают весьма неохотно. Со стороны почти невозможно понять, что это такое. Бредовой хаос клубами вырывается с этой предельной границы разума, и всепронизывающим холодом ум умерщвляется. Тут, за тонкой перегородкой, – начало духовной смерти. И потому состояние предельного скепсиса возможно лишь в мановение ока, чтобы затем – либо вернуться к огненной пытке Пиррона, к ἐποχή, либо погрузиться в беспросветную ночь отчаяния, откуда нет уже выхода и где гаснет самая жажда Истины. От великого до смешного – один шаг, а именно, шаг, уводящий с почвы разума.
Итак, путь скепсиса тоже не ведет ни к чему.
Мы требуем достоверности, и это наше требование выражает себя решением не принимать ничего без доказательства: но, при этом, и самое положение «не принимать ничего без доказательства» должно быть доказано. Посмотрим, однако, не сделали ли мы в предыдущем некоторого догматического утверждения? Снова обращаемся назад.
Мы искали положения, которое было бы абсолютно доказано. Но на пути исканий прокрался некоторый признак этого, искомого положения, и сам однако ж остался недоказанным. А именно, это искомое абсолютно-доказанное положение почему-то наперед было признано первым в своей доказанности, – тем, с чего начнется вся положительная работа. Несомненно, что это утверждение на счет изначальности абсолютно-доказанного суждения, как не доказанное, само является догматическою предпосылкой. Ведь возможно, что искомое положение будет в наших руках, но – не как первое, а как некоторый результат других положений, – недостоверных.
«Из недостоверного не может получиться достоверного» – вот несомненно догматическая предпосылка, лежавшая в основе утверждения о первичности Истины достоверной: да, догматическая, ибо она нигде не доказана.
Итак, снова отрицаясь пройденного пути, мы отбрасываем обнаружившуюся догматическую предпосылку и говорим: «Мы не знаем, есть ли достоверное положение, или нет его; но, если бы оно было, то опять-таки мы не знаем, является ли оно первым, или нет. Впрочем, и того, что «мы не знаем», мы тоже не знаем» и т. д., – как доселе. Далее начнется наша ἐποχή в подобном прежнему виде. Но наше теперешнее состояние будет несколько новым. Мы не знаем, есть ли Истина, или нет ее; но если она есть, то мы не знаем, может ли привести к ней разум, или нет; и, если разум может привести к ней, то не знаем и того, как мог бы привести к ней разум и где он ее встретит. Однако, при всем том, мы говорим себе: «Если бы была Истина, то можно было бы поискать ее. Может быть, мы найдем ее, проходя некоторый путь наудачу, и тогда, может быть, она заявит нам себя, как таковая, как Истина». Но почему́ я говорю так? Где́ основание для моего утверждения? – Его нет. И потому, при требовании доказать свое предположение, я сейчас же снимаю его с очереди и возвращаюсь к ἐποχή утверждением: «Может быть, это так, а, может быть, – и обратно». Раз от меня требуется ответ на вопрос: «Так ли это?», я говорю: «Это – не так». Но если меня спросят решительно: «Это – не так?», я скажу: «Это – так». Я спрашиваю, а не утверждаю, и то, что вкладываю в свои слова, оно есть нечто вовсе не логическое. Что же оно? – Тон надежды, но не логическое высказывание надежды. И из этого тона следует только то, что я все-таки попытаюсь сделать предлагаемую неоправданную, но и не осужденную попытку найти Истину. Если меня спросят об основаниях, я уйду в себя, как улитка. Я вижу, что мне грозит либо безумие воздержания, либо суетный, быть может, труд попыток, – работа с полным сознанием, что она не имеет для себя основания, и что оправдание ее мыслимо лишь как случайность, – лучше сказать, как дар, как gratia quae gratis datur. Не о том же ли говорит преп. Серафим Саровский: «Если человек, из любви к Богу, не имеет излишнего попечения о себе, то это – мудрая надежда»? По слову святого Старца я и хочу «не иметь излишнего попечения о себе», о рассудке своем, т. е. – надеяться 43.
Итак, я иду ощупью, все время помня, что шаги мои не имеют никакого значения. Я попробую на свой страх, на авось вырастить что-нибудь, руководствуясь не философским скепсисом, а своим чувством, и покуда погожу испепеливать его пирроническои лавою. Про себя-то я имею тайную надежду – надежду на чудо: авось поток лавы отступит перед моим ростком, и растенье окажется купиной неопалимою. Но это – только про себя. Только про себя я принимаю слово кафизм, тысячекратно слышанное в церкви, но только сейчас почему-то всплывшее в сознании: «Взыскающие Бога не лишатся всякого блага». Да, взыскающие, т. е. ищущие, жаждущие. Не сказано «имеющие», да так сказать было бы и лишне, – ибо само собою, что имеющие Бога, Первоисточника благ, не лишатся и каждого из них в отдельности, – и, быть может, неправильно, – ибо может ли кто сказать, что он всецело имеет Бога и, стало быть, уже более – не из числа взыскающих? – Но именно взыскающие Бога не лишатся всякого блага; взысканиеутверждается Церковью уже как не-лишение; неимеющие оказываются как бы имеющими, – имеющими. Но, хотя это равенство еще и не доказано, но оно запало мне в душу. А раз у меня ничего нет, то почему бы не повиноваться этой силе Божьего слова?
Таким образом, я вступаю на новую почву – пробабилизма, однако, под тем непременным условием, что мое вступление будет лишь пробою, опытом. Истинной родиною все еще остается ἐποχή. Но если бы я сопротивлялся своему предчувствию и хотел вовсе не уходить от ἐποχή, то нужно было бы опять-таки доказать свое упорство, чего я так же не мог бы, как и теперь не могу доказать своего схождения. Ни для того, ни для другого у меня нет оправданий; но практически, конечно, естественнее искать пути, хотя бы даже надеясь на чудо, нежели сидеть на месте в отчаянии. Однако для искания необходимо оказаться вне рассудка. Тут опять возникает вопрос: «По какому же праву мы выходим за пределы нашего рассудка?» – Ответ таков: «По тому праву, которое дает нам сам рассудок: он нас к тому вынуждает. 44 Да, и что же остается делать, когда, все равно, рассудок отказывается служить».
Я хочу сделать проблематическое построение, имея в виду, что оно, быть может, случайно окажется достоверным. «Окажется»! Этим словом я перенес свои искания с почвы умозрения в область опыта, фактического восприятия, но такого, которое должно соединить в себе еще и внутреннюю разумность.
Каковы же формальные, умозрительные условия, которые удовлетворились бы, если бы такой опыт явился на деле? Другими словами, какие суждения мы необходимо составили бы по поводу этого опыта (– еще раз подчеркну, что его у нас нет –)?
Эти суждения суть следующие:
1°, – абсолютная Истина есть, т. е. она – безусловная реальность;
2°, – она познаваема, т. е. она – безусловная разумность;
3°, – она дана, как факт, т. е. является конечною интуицией; но она же абсолютно доказана, т. е. имеет строение бесконечной дискурсии.
Впрочем, третье положение, при анализе, влечет за собою два первых. В самом деле, «Истина – интуиция»; это и значит, что она есть. Далее, «Истина – дискурсия»; это и значит, что она познаваема. Ведь интуитивность есть фактическая данность существования, а дискурсивность – идеальная возможность постижения.
Значит, все внимание наше сосредоточивается на двойственном по составу, но едином по идее положении:
«Истина есть интуиция. Истина есть дискурсия», или проще:
«Истина есть интуиция-дискурсия».
Истина есть интуиция, которая доказуема, т. е. дискурсивна. Чтобы быть дискурсивною, интуиция должна быть интуицией не слепой, не тупо-ограниченной, а уходящею в бесконечность, – интуицией, так сказать, говорящей, разумной. Чтобы быть интуитивною, дискурсия должна быть не уходящею в беспредельность, не возможною только, а действительною, актуальною.
Дискурсивная интуиция должна содержать в себе синтезированный бесконечный ряд своих обоснований; интуитивная же дискурсия должна синтезировать весь свой беспредельный ряд обоснований в конечность, в единство, в единицу. Дискурсивная интуиция есть интуиция дифференцированная до бесконечности; интуитивная же дискурсия есть дискурсия интегрированная до единства.
Итак, если Истина есть, то она – реальная разумность и разумная реальность; она есть конечная бесконечность и бесконечная конечность, или, – выражусь математически, – актуальная бесконечность, 45 – Бесконечное, мыслимое как целокупное Единство, как единый, в себе законченный Субъект. Но законченная в себе, она несет с собою всю полноту бесконечного ряда своих оснований, глубину своей перспективы. Она – солнце, и себя и всю вселенную озаряющее своими лучами. Бездна ее есть бездна мощи, а не ничтожества. Истина – движение неподвижное и неподвижность движущаяся. Она – единство противоположного. Она – coincidentia oppositorum.
Раз так, то скепсис, действительно, не может уничтожить истины и, действительно, она – «сильнее всего» 46 она всегда дает скепсису оправдание себя, она – всегда «ответчива». На каждое «почему?» есть ответ, и притом все ответы эти даны не разрозненно, не внешне сцепляясь один с другим, но свитыми в целостное, изнутри сплоченное единство. Единый миг восприятия Истины дает ее со всеми ее основаниями (хотя бы они никем, – нигде и никогда, – не мыслились раздельно!). Мгновение ока дает всю полноту ведения.
Такова абсолютная Истина, буде она существует. В ней должен находить себе оправдание и обоснование закон тождества. Пребывая выше всякого внешнего для себя основания, выше закона тождества, Истина обосновывает и доказывает его. И, вместе с тем, в ней – объяснение, почему бытие неподвластно этому закону.
Пробабилистически-предположительное построение ведет к утверждению Истины, как само-доказательного Субъекта, – такого Субъекта, qui per se ipsum concipitur et demonstrator, который через себя постигается и доказуется, – Субъекта, который безусловно Господин себе, Господь, владеет синтезированным в единство и даже в единичность бесконечным рядом всехсвоих обоснований, господствует над всеми своими основаниями. Мы не можем конкретно мыслить такого Субъекта, ибо не можем синтезировать бесконечный ряд во всей его целокупности; на пути последовательных синтезов мы всегда будем видеть лишь конечное и условное. Прибавляя сколько угодно раз к конечному числу конечное же число, мы не получим ничего, кроме числа конечного. Подымаясь на горы выше и выше, – воспользуюсь образом Канта, 47 – мы тщетно надеялись бы тронуть рукою небо; и безумны расчеты на вавилонскую башню. Точно так же и все наши усилия всегда будут давать только синтезируемое, но никогда – осинтезированного. Бесконечная Единица трансцендентна для человеческих достижений.
Если бы в сознании у нас оказалось реальное восприятие такого само-доказательного Субъекта, то оно было бы именно ответом на вопрос скепсиса и, следственно, уничтожением ἐποχή. Если ἐποχή вообще разрешима, то только таким уничтожением, разгромом, – если угодно, полновластным удовлетворением; но ее решительно нельзя просто обойти или устранить.Попытка пренебречь ἐποχή непременно является логическим фокусом, – не более, и в тщетном стремлении произвесть такой фокус загублены все догматические системы, не исключая и Кантовой.
В самом деле, если не удовлетворено условие интуитивной конкретности, то Истина будет лишь пустою возможностью; если же не удовлетворено условие разумной дискурсивности, то Истина является не более, как слепою данностью. Только осуществленный независимо от нас конечный синтез бесконечности может дать нам разумную данность или, другими словами, само-доказуемый Субъект.
Имея все основания себя и явления себя нам – в себе же, т. е., имея все основания своей разумности и своей данности – в себе, он само-обосновывается не только в порядке разумности, но и в порядке данности. Он – causa sui как по сущности, так и по существованию, т. е. он – не только per se concipitur et demonstrator, но и per se est. Он – «чрез себя есть и чрез себя познается». Это хорошо понимали схоластики.
Так, по определению Ансельма Кентерберийского 48 Бог – «per se ipsum ens», «ens per se». По замечанию Фомы Аквинского 49 природа Бога «per se necesse esse», ибо она есть «prima causa essendi, non habens ab alio esse». –
Вот более точное определение смысла этого «per se»: «Per se ens est, quod separatim absque adminicolo alterius existit, seu quod non est in subjecto inhaesionis: quod non est hoc modo per se est accidens». 50
Это разумение Бога, как само-сущего и само-разумного, красною нитью проходит чрез всю схоластическую философию и свое крайнее, но одностороннее применение находит в философии Спинозы по третьему определению Спинозовской «Этики», 51 налагающему своеобразный отпечаток на всю систему его, субстанция именно и есть то, что само-суще и само-разумно: «Per substantiam intelligo ib., quod in se est et per se concipitur.
Само-доказуемый Субъект! Формально мы можем утверждать, что эта «Бесконечная Единица» все объясняет, потому что дать объяснение чему-нибудь, это значит, во-первых, показать, как оно не противоречит закону тождества и, во-вторых, как данность закона тождества не противоречит возможности его обоснования.
Встает, однако, новый вопрос. Как некое откровение в нашем восприятии явила себя (– допустим! –) синтезированная в конечную интуицию бесконечность ряда оснований. Пусть так. Но как же, именно, эта интуиция дала бы обоснование закону тождества со всеми его нарушениями?
Прежде всего, как возможна множественность сосуществования (разногласие, внеположность) и множественность последования (изменение, движение)? Другими словами, как временно-пространственная множественность не нарушает тождества?
– Она не нарушает тождества только в том случае если множество элементов абсолютно синтезировано в Истине, так что «другое», – в порядке сосуществования и в порядке последования, – есть в то же время и «не другое» sub specie aeternitatis, – если ἑτερότης, «инаковость», отчужденность «другого» есть только выражение и обнаружение ταὐτότης тождественности «этого же».
Если «другой» момент времени не является уничтожающим и пожирающим собою «этот», но, будучи «другим» он есть в то же время «этот», т. е. если «новое», открывающееся как новое, есть «старое» в его вечности, если внутренняя структура вечного «этого» и «другого», «нового» и «старого» в их реальном единстве такова, что «это» должно появиться вне «другого» и – «старое» – ранее «нового», если, – говорю – «другое» и «новое» является таковым не чрез себя, а чрез «это» и «старое», а «это» и «старое» суть то, что они суть, не чрез себя, а чрез «другое» и «новое», если, наконец, каждый элемент бытия есть только член субстанционального отношения, отношения-субстанции, то тогда закон тождества, вечно нарушаемый, вечно восстановляется самым своим нарушением.
Последним положением, зараз, дается ответ и на старый вопрос, а именно: «Как возможно, что всякое А есть А?» Да в таком случае из самого закона тождества течет источник, разрушающий тождество, но зато это разрушение тождества есть мощь и сила вечного его восстановления и обновления. Тождество, мертвое в качестве факта, может быть и непременно будет живым в качестве акта. Закон же тождества тогда окажется не всеобщим законом бытия, так сказать, поверхностного; а поверхностью бытия глубинного, – не геометрическим образом, а внешним обликом недоступной рассудку глубины жизни; и в этой жизни он может иметь свой корень и свое оправдание. Слепой в своей данности закон тождества может быть разумен в своей созданности, в своей вечной создаваемости; плотяный, мертвый и мертвящий в своей статике, он может быть духовным, живым и животворящим в своей динамике. На вопрос: «Почему А есть А?» отвечаем: «Потому А есть А, что вечно бывая не-А, в этом не-А оно находит свое утверждение как А». Точнее: А потому есть А, что оно есть не-А. Не будучи равно А, – т. е. самому себе, – оно в вечном порядке бытия всегда устанавливается силою не-А, как А. Впрочем, об этом речь будет далее.
Таким образом, закон тождества получит обоснование не в своем низшем, рассудочном виде, но в некотором высшем, разумном. Эта «высшая форма закона тождества» – основное открытие о. архимандрита Серапиона Машкина; впрочем, ценность открытия обнаруживается только при конкретной разработке системы философии. 52
Вместо пустого, мертвого и формального само-тождества «А=А», в силу которого А должно было бы самостно, само-утвержденно, эгоистически исключать всякое не-А, мы получили содержательное, полное жизни, реальное само-тождество А, как вечно отвергающегося себя и в своем само-отвержении вечно получающего себя. Если в первом случае А есть А (А=А) вследствие исключенности из него всего (– и его самого в его конкретности! –), то теперь А есть А чрез утверждение себя как не-А, чрез усвоение и уподобление себе всего.
Отсюда понятно, каков само-доказательный Субъект и в чем его само-доказательность, – если только вообще он есть.
Он таков, что он есть А и не-А. Обозначим для ясности не-А чрез Б. Что же – Б? Б есть Б; но оно само было бы слепым Б, если бы не было вместе и не-Б. Что же такое не-Б? Если оно – просто А, то А и Б были бы тождественны. А, будучи А и Б, было бы одним только простым, голым А, равно как и Б. (Как увидим, в ересеологии это соответствует модализму, савеллианству и т. п.). Чтобы не было простого тождесловия «А=А», чтобы было реальноеравенство «А есть А, ибо А есть не-А», необходимо, чтобы Б само было реальностью, т. е. чтобы Б было зараз и Б и не-Б; последнее, т. е. не-Б для ясности обозначим чрез В. Чрез В круг может замкнуться, ибо в его «другом», – в «не-В», – А находит себя, как А. В Б переставая быть А, А от другого, но не от того, которому приравнивается, т. е. от В, опосредствовано получает себя, но уже «доказанным», уже установленным. То же относится и к каждому из субъектов А, Б, В троичного отношения.
Само-доказательность и само-обоснованность Субъекта Истины Я есть отношение к Он чрез Ты. Чрез Ты субъективное Я делается объективным Он, и в последнем имеет свое утверждение, свою предметность как Я. Он есть явленное Я. Истина созерцает себя чрез Себя в Себе. Но каждый момент этого абсолютного акта сам абсолютен, сам есть Истина. Истина – созерцание Себя чрез Другого в Третьем: Отец, Сын, Дух. Таково метафизическое определение «сущности – οὐσία» само-доказательного Субъекта, которая есть, как видно, субстанциональное отношение. Субъект Истины есть отношение Трех, но – отношение, являющееся субстанциею, отношением-субстанцией. Субъект Истины есть отношение Трех. 53 А так как конкретное отношение вообще есть система актов жизнедеятельности, в данном же случае – бесконечная система актов, синтезированных в единицу или, еще, бесконечный единичный акт, то мы можем утверждать, что οὐσία Истины есть Бесконечный акт Трех в Единстве. Потом мы конкретнее объясним этот бесконечный акт Жизни.
Но что такое каждый из «Трех» в отношении к бесконечному акту-субстанции?
Реально это не то, что весь Субъект, и реально же – это то же, что и весь Субъект. Ввиду необходимости дальнейших рассуждений мы назовем его, – как «не то», – « ипостасью – ὑπόστασις», тогда как ранее уже установили мы термин « сущность – οὐσία» – для обозначения его как «то́ же». –
Следовательно, Истина есть единая сущность о трех ипостасях . Не три сущности, но одна; не одна ипостась, но три. Однако, при всем том, ипостась и сущность – одно и то же. Выражаясь несколько неточно, скажу: «Ипостась – абсолютная личность». Но, спрашивается: «В чем же личность, как ни в сущности?». И еще: «Разве дается сущность иначе как в личности?». – Да, и все-таки все предыдущее устанавливает, что не одна ипостась, а три, хотя сущность – конкретно едина. И потому нумерически, числом – один Субъект Истины, а не три.
«Святые и блаженные отцы наши, – пишет авва Фалассий, – как единое существо Божества триипостасным признают, так св. Троицу единосущною исповедуют – Единица, простираясь у них до Троицы, пребывает Единицею; и Троица, собираясь в Единицу, пребывает Троицею. И сие чудно. – Сохраняется так у них свойство ипостасей неподвижным и непреложным, и общность сущности, т. е. Божества, нераздельною. Исповедуем Единицу в Троице, и Троицу в Единице, разделяемую нераздельно и совокупляемую разделительно». 54
«Почему же ипостасей именно три?» спросят меня. Я говорю о числе «три», как имманентном Истине, как внутренне неотделимом от нее. Не может быть меньше трех, ибо только три ипостаси извечно делают друг друга тем, что они извечно же суть. Только в единстве Трех каждая ипостась получает абсолютное утверждение, устанавливающее ее, как таковую. Вне Трех нет ни одной, нет Субъекта Истины. А больше трех? – Да, может быть и больше трех, – чрез принятие новых ипостасей в недра Троичной жизни. Однако эти новые ипостаси уже не суть члены, на которых держится Субъект Истины, и потому не являются внутренне-необходимыми для его абсолютности; они – условные ипостаси, могущие быть, а могущие и не быть в Субъекте Истины. Поэтому-то их нельзя называть ипостасями в собственном смысле, и лучше обозначить именем обо́женных личностей и т. п. Но, кроме того, имеется еще одна сторона, доселе опущенная нами; впоследствии мы обсудим ее со тщанием, а покуда заметим только: в абсолютном единстве Трех нет «порядка», нет последовательности. В трех ипостасях каждая – непосредственно рядом с каждой, и отношение двух только может быть опосредствовано третьей. Среди них абсолютно немыслимо первенство. Но всякая четвертая ипостась вносит в отношение к себе первых трех тот или иной порядок и, значит, собою ставит ипостаси в неодинаковую деятельность в отношении к себе, как ипостаси четвертой. Отсюда видно, что с четвертой ипостаси начинается сущность совершенно новая, тогда как первые три были одного существа.
Другими словами. Троица может быть без четвертой ипостаси, тогда как четвертая – самостоятельности не может иметь. Таков общий смысл троичного числа.
Semper adamas. – Всегда не сокрушаем.
* * *
Примечания
Вл. С. Соловьев, – Критика отвлеченных начал [1878–1380], XLII (Собрание сочинений Владимира Сергеевича Соловьева, Т. II, СПб. стр., 282). – «На вопрос Что есть истина, мы отвечаем: 1) истина есть сущее или то, что есть; но мы говорим «есть» обо многих вещах; но многие вещи сами по себе не могут быть истиной, потому что… Итак, сущее 2) как истина не есть многое, a есть единое. Единое как истина не может иметь многое вне себя, т. е. оно не может быть чисто отрицательным единством, а должно быть единством положительным, т. е. оно должно иметь многое не вне себя, а в себе или быть единством многого; а так как многое содержимое единством или многое в одном есть все, то следовательно положительное или истинное единое есть единое, содержащее в себе все или существующее как единство всего. Итак, 3) истинно сущее, будучи единым вместе с тем и тем самым есть и все, точнее содержит в себе все, или истинно сущее есть всеединое. – Таким образом полное определение истины выражается в трех предикатах: сущее, единое, все. Истина есть сущее всеединое. Иначе мы не можем мыслить истину; если бы мы отняли один из этих трех предикатов, мы уничтожили бы тем самое понятие истины. – Мы можем мыслить истину только как сущее всеединое, и когда говорим об истине, то мы говорим именно об этом, о сущем всеедином –» и т. д. и т. д. (id., id. стр. 281–282). – «Всеединая идея должна быть собственным определением единичного центрального существа» (Вл. С. Соловьев, – Чтение о богочеловечестве [1877–1881], Чтение V. Собрание сочинений, Т. III, СПб., стр. 64). – «Истина очевидно в том, что божественное начало – не есть только единое, но и все, не есть только индивидуальное, но и всеобъемлющее существо, не только сущий, но и сущность» (id., id. стр. 67). – « Сущее как такое или абсолютное первоначало есть то, что имеет в себе положительную силу бытия, а так как обладающий первее или выше обладаемого, то абсолютное первоначало точнее должно быть названо сверхсущим или даже сверхмогущим. – Очевидно, что это первоначало само по себе совершенное единично; оно не может представлять ни частной множественности, ни единичной общности» (Вл. С. Соловьев, – Философские начала цельного знания (1877 г.], III. – Собрание сочинений, T. I, СПб., стр. 307). «По смыслу слова, абсолютное (absolutum от absolvere) значит во-первых, отрешенноеот чего-нибудь, освобожденное, и во-вторых – завершенное, законченное, полное, всецелое – в первом [значении] оно определяется – как свободное от всего, как безусловно единое; во втором значении оно определяется – как обладающее всем. – Оба значения вместе определяют абсолютное, как ἕν καὶ πᾶν» (id., IV, id. стр. 318). – «Единство единству рознь. Есть единство отрицательное, отъединенное и бесплодное, ограничивающееся исключением всякой множественности. Оно представляет простое отрицание – [и] может быть обозначено, как дурное единство. Но есть единство истинное, не противополагающее себя множественности, не исключающее ее, но, в спокойном обладании присущим ему превосходством, господствующее над своей противоположностью и подчиняющее ее своим законам. Дурное единство есть пустота и небытие: истинное есть бытие единое, все в себе заключающее. Это положительное и плодотворное единство, возвышаясь над всякой ограниченной и множественной действительностью, непрестанно пребывает тем, что оно есть, и содержит в себе, определяет и, обнаруживает живые силы, единообразные причины и многообразные качества всего существующего. Исповеданием этого совершенного единства, производящего и обнимающего все, и начинается Cимвол веры христианской: во единаго Бога Отца Вседержителя(παντοκράτορα). – Истина едина и одна в том смысле, что не может быть двух истин безусловно независимых одна от другой, а тем более противоположенных одна другой. Но именно в силу этого единства, единая существующая истина, не допуская в себе никакого ограничения, произвола и исключительности, не может быть частичной и односторонней, а потому должна заключать основания всего существующего в логической системе, должна довлеть для объяснения всего». (Владимир Соловьев, – Россия и вселенская Церковь [1889]. Перевод с французского Г. А. Рачинского. Книга третья, глава первая. Издание «Путь», М, 1911, стр. 303–305).
Эти, почти наудачу приведенные, выдержки, из разных сочинений Вл. С. Соловьева, показывают, сколь прочно было в нем понимание истины, как «всеединого сущего». Несомненно, что большая часть его произведений посвящена ничему иному, как всестороннему раскрытию этого понятия о всеединстве. Но мы, употребив в тексте и определение Соловьева, должны оговориться, что берем его лишь формально, вовсе не вкладывая в него Соловьевского истолкования; доказательство тому – все наше сочинение, стоящее по духу антиномичности против примирительной философии Вл. Соловьева.
Часть библиографических указаний относительно Вл. С. Соловьева читатель может найти в сборнике «О Влад. Соловьеве», «Путь», M., 1911.
Дополнения и поправки к этому указателю см. в библиографической заметке:
Г. В. Флоровский, – Новые книги о Владимире Соловьеве («Известия Одесского Библиографического Общества», вып. 7-й =отд. оттиск, Одесса, 1912 г.) – Но, в свою очередь, эти дополнения нуждаются в новых дополнениях. Так, например, среди них отсутствует книга:
Michel d’Herbigny, – Un Newman Russe. Vladimir Soloviev. Paris, 1911. Publication de la Bibliothèque Slave de Bruxelles. Serie A). Ha pp. XIV-XVI интересная для русских библиография, no преимуществу иностранных трудов, о Вл. С. Соловьеве.
«Ego autem dico, quod… potest accipi veritas non pro ilia adaequatione aut conformitate, quam importat actus intelligendi ad rem in esse cognito vel cognoscibili ibi praecise sistendo, sed pro ilia adaequatione, quam ipsa res in suo esse cognito importat ad se ipsum in sua reali existentia extra, – sic intelligendo, quod veritas formaliter est ipsa rectitudo aut conformitas, quam ipsa res ut intellecta importat ad se ipsam in rerum natura extra».
(Commentaria Gratidei Esculiani ordinis praedicatorum in totam artem veterem Aristotelem [sic]. Venet. 1493, Dist. 19, qu. 1 f. CXXVII r. B. [Цитата – из: Carl Prantl, – Geschichte der Logik im Abendlande. Dritter Bd., Lpz. 1867, S. 318, прим. 691]).
H. В. Горяев, – Сравнительный этимологический словарь русского языка. Тифлис, 1896. Стр. 124.
Вл. И. Даль, – Толковый словарь живого великорусского языка. Изд. 3-е, под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртенэ, СПб. и М., 1904, Т. II, столб. 140 (в 1-м изд. стр. 673).
Franz Miklosich, – Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886, S. 105.
[Стан. Пав.] Микуцкий, – Материалы для корневого и объяснительного словаря русского языка и всех славянских наречий. Вып. I. Варшава, 1880, стр. 4713
Феодор Шимкевич, – Корнеслов русского языка, сравненного со всеми главнейшими славянскими наречиями и с двадцатью четырьмя иностранными языками. Часть первая. СПб., 1842, стр. 91.
Купец Архангелогородский А. Фомин, – Роспись слов и речений, из остатков древнего российского языка в Двинской стране собранных и по нынешнему образованию изъясненных («Новые Ежемесячные Сочинения», 1787 г., XI, май, стр. 83–84. – Перепечатано в «Живой Старине», год 10, вып. III, 1900, Смесь, стр. 448). – См. также Miklosich. id., S. 105, «jes-», ist, istov, istovbn – qui verus est, verus.
Georg Curtius, – Grundzüge der griechischen Etymologie. Vierter Auflage, Lpz., 1873, S. 373, № 564.
Walther Prellwitz, – Wörterbuch der Griechischen Sprache. Göttingen, 1892, S. 85.
E. Bоisaсq, – Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Heidelberg-Paris, 1909, pp. 226–227.
H. B. Горяев, – id., стр. 104.
Georg Curtius, – Grundzüge der griechischen Etymologie, SS. 378–379, № 564.
Так же – и Д. Н. Овсяннико-Куликовский, – Очерки науки о языке («Русская Мысль», 1896, XII, отд. 2-е, стр. 21).
E. Renan, –l’Origine du language, 4-me éd., p. 129; рус. перев., Ренан. Происхождение языка (в «Собрании сочинений» его, под ред. Михайлова, Т. VI), стр. 43.
Такое же объяснение давал этим словам уже Гезений (Gv. Cesenius, – Thesavrus philologicvs criticvs lingvae hebraeae et chaldaeae veteris Testamenti. Lipsiae 1835, T. I 2, p. 370: הָוָה; pp. 372–375: הָיָה; 362–363: הָבַל) –
Гезений полагает, что начальные звуки глагола הָול, равно как и הָבַל., а именно הב, הו, או, חב, אב заключают звукоподражание дыханию, почему и можно установить параллелизм семитских корней с некоторыми индоевропейскими (подробности см. y Гезения, – id., р. 303). Замечательно, что этот корень дыхания получает также значение воздыхания, желания и любви.
G. Curtius, – id., S. 379.
Об этом общем характере русской философии см.:
И. В. Киреевский, – Полное собрание сочинений, под ред. М. Гершензона. Изд. «Путь». M., 1911.
А-ей И. Введенский, – О задачах современной философии в связи с вопросом о возможности и направлении философии самобытно-русской. («Вопросы фил. и психол.», XX, стр. 125–157).
Вл. Ф. Эрн, – Нечто о Логосе, русской философии и научности. (Вл. Эрн, – (Борьба за Логос. М. 1911. Стр. 72–119).
Мысль о возможности и необходимости в России самобытной философии была высказана впервые едва ли не В. H. Карповым, в его «Введении в философию» (1840 г, стр. 117–120). (Цит. заимствую).
Впрочем, не входя в подробности, достаточно припомнить имена хотя бы Гр. C. Сковороды, гр. M. М. Сперанского, И. Ф. Федорова, Вл. С. Соловьева, архим. Серапиона Машкина, кн. C. H. Трубецкого, A. A. Козлова, И. В. Киреевского, A. С. Хомякова, Ю. Ф. Самарина, прот. Ф. А. Голубинского, В. Д. Кудрявцева, архиеп. Иннокентия Борисова, С. С. Гогоцкого, О. M. Новицкого, В. Н. Карпова, гр. Л. Н. Толстого, П. Д. Юркевича, архиеп. Никанора, H. H. Страхова, и т. д. и т. д., чтобы убедиться в коренном онтологизме русской философии, и притом, y большинства, в онтологизме теистическом.
На почве этой особенности, онтологизма, возникает y русских мыслителей тяготение к реализации своих идей, жажда осуществления высшей правды. Эта характерная черта подмечалась даже людьми весьма нечуткими к религиозному духу нашей философии. Так, по И. Мечникову, перенесение западных идей на русскую почву совершается с неизбежным субъективным оттенком, «выражающимся главным образом в стремлении провести теоретические принципы на практике» («Вестник Европы», 1891, сентября стр. 928).
О русской философии, из числа сочинений общего содержания, упомянем. (см. также к стр. 5):
Архим. Гавриил, – История философии, Казань, 1839, Т. 6.
Ибервег-Гейнце, – История новой философии, пер. Колубовского. СПб., 1890.
А-р И. Введенский, – Философские очерки, СПб., 1901. «Судьба русской философии». ( = «Вопр. филос. и псих.» XLII).
Е. Бобров, – Философия в России. Матеріалы, исследования и заметки. Казань, 1900.
Е. Бобров, – Литература и просвещение России XIX в. Казань, 1902.
Я. Н. Колубовский, – Материалы для истории философии в России. («Вопр. филос. и псих.», кнн. IV, V, VI, VII, VIII, XLIV).
M. [M.] Филиппов, – Судьба русской философии («Русское Богатство», 1894, январь).
В. В. Розанов, – Заметки о важнейших течениях русской философской мысли в связи с нашей переводной литературой по философии. («Вопр. филос. и псих.», III, стр. 1–36. = В. Розанов, – Природа и история. Изд. 2-е, СПб., 1902.
Ossip-Lourié, – La philosophie russe conntemporaine. 2-е éd., Paris, 1905. (Bibliothèque de philosophie contemporaine).
A. B. Даниловский, – История преподавания философских наук в духовно-учебных заведениях России. 1912 (рукописный труд, хранящийся в Архиве Моск. Дух. Акад.).
Э. Л. Радлов, – Bericht über die Arbeiten auf dem Gebiete der Geschichte der Philosophie in Russland (Archiv für Geschichte der Philosophie, Bd. III, 1890).
Э. Л. Радлов, – Очерк истории русской философии (в «Общая история философии», T. II, СПб., 1912).
W. Prellwitz, – Etymologisches Wörterbuch der Griechischen Sprache. Göttingen, 1892, S. 181: λήθω, λήθαργος: S. 14 ἀληθής.
Е. Воisасq, – Dictionnaire etymologique de la langue Grecque. Heidelberg-Paris, 1907, 1-e livraison, p. 43: ἀληθής.
H. Cremer, – Biblisch-theologisches Wörterbuch der Neutestamentlichen Gräcität, 8-te Auflage, Gotha 1895, SS. 109 ff.
Rud. Hirzel – Rede gehalten zur Feier der akademischen Preisverteilung am 24. Juni 1905. Jena. 1905. Тема ее – «Was die Wahrheit war für die Griechen?». 24 SS. Особенно см. §§, 8, 15.
См. к стр. 5.
Curtius. id., S. 574. – По этимологии vereor см.:
Alois Vanicek, – Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache. Lpz., 1874, pp. 153–154.
А-др Суворов, – Vocabularium etymologicum linguae Latinae. Латино-русский словарь, расположенный по корням. Варшава, 1908, стр. 663–664.
Curtius, – id.. SS. 99, 349, 574.
Al. Waldе, – Lateinisches etymologisches Wörterbuch, 2-е umgearbeitete Auflage. Heidelberg, 1910. (Indogermanische Bibliothek, 1, II, 1), S. 820.
R. Hirzel, – id., SS. 57–58.
Относительно того, что слово понималось в древности и понимается по сию пору народом как некоторая мистическая реальность, и, в частности, что смысл речения «εἰς ὄνομὰ» в Священном Писании – мистический и метафизический, а вовсе не номиналистический, не вербальный, – доказательства см. в исследованиях:
Julius Boehmer, – Das biblische «Im Namen». Eine sprachwissenschaftliche Untersuchung über das hebräische בֽשֵׁם und seine griechische Äquivalente (in besonderen Hinblick auf den Taufbefehl. Math. 28, 19). Giessen, 1898.
Wilh. Heitmüller, – «Im Namen Jesu». Eine sprach- und religion-geschichtliche Untersuchung zum Neuen Testament, speziell zur altchristlishen Taufe. Göttingen, 1903.
W. Brandt, – Ὄνομα en de doopsformule in het nieuwe testament. Theolog. Tijdschrift, 1891, pp. 565–610. – Мне известно лишь в изложении.
В. Jacob (Babbiner), – Im Namen Gottes. Eine sprachliche und religionsgeschichtliche Untersuchung zum Alten und Neuen Testament. Berlin, 1903.
Fr. Giesebrecht, – Die alttestamentliche Schätzung des Gottes-namens und ihre religionsgeschichtliche Grundlage. Königsberg, 1901. Тут же даются извлечения из работ Ниропа, Адриана и Крелля, практически почти недоступных для читателя вследствие того, что они помещены в малораспространенных изданиях; кроме того, на стр. 45–54 вкратце излагаются (с указанием источников) ономатологические теории Густава Бaypa, Герм. Шульца, Рима, Дилльмана, Кремера, Штаде, Сменда, Виттихена и Бёмера.
J. Buxtorfius, – Lexicon Chaldaicum, Talmudicum et Rabbinicum – Denuo edidit et annotatis auxit Bernardus Fischerus. Lipsiae 1859. 2 vols. שם pp. 1204–1214, особенно примеч. Фишера.
Em. Ferrière, – Paganisme des Hébreux jusqu’à la captivité de Babylone. Paris, 1884, pp. 133–161.
П. Флоренский, – Священное переименование. 1907 (суммирующая работа; готовится к печати).
П. Флоренский, – Общечеловеческие корни идеализма. Сергиев Посад, 1909 (=«Богословский Вестник», 1909, №№ 2 и 3).
Остальной, более дробной литературы, как указываемой в уже упомянутой работе о «священном переименовании», приводить не стану. (См. также).
Теренций, – Девушка с о-ва Андроса (Andria), I, 1, v. 41: «Obséquium amicos, véritas odium parit». ( P. Terentii Afri Comoediae ex rec. Bentleii, nova editio stereotipa, Lipsiae 1829, p. 29) в издании с примечаниями Иоанна Минеллия, Lpz., 1738, р. 64, интересующий нас стих – 40-й). – Комедия Теренция была поставлена на римской сцене в период времени с 166 по 160 гг. до Р. X., умер же Теренций в 159 году. Похвалу Теренцию читаем у Цицерона, и потому весьма вероятным должно признать, что он заимствовал слово «veritas» именно от названного автора.
См.: Н. Merguet, – Lexicon zu den Reden des Cicero mit Angange sämmtlicher Stellen. Bd. IV, Jena: 1884. SS. 856–857. Тут приводится приблизительно всего 64 случая словоупотребления veritas.
Carolus du Fresne, Dominus du Cange, – Glossarium ad Scriptores mediae et infimae Latinitatis. Editio nova. T. VI, Parisiis, 1738, coll. 1492–1493.
Guilielmus Gesenius, – Thesaurus philologicus criticus linguae hebraeae et chaldaeae Veteris Testamenti. Editio altera. Lipsiae, 1829. T. I 1, pp. 113–114, 114–118.
Wilhelm Gesenius, – Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament, in Verbindung mit A. Soсin und H. Zimmern bearbeitet von Frants Buhl. 12-te Aufl. Lpz. 1895. S. 51, 55.
Подробности относительно употребления слова « аминь» в Ветхом и Новом Завете, в богослужении, в написях и в папирусах и о таинственном сигле

см. в статье Ф. Каброля « Amen» (Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de Liturgie publié par Le R. P. dom Fernand Cabrol, T. I 1, Paris, 1907, coll. 1554–1573). Тут же (col. 1573) даются и библиографические сведения. – По мнению, высказанному Луи Гинзбергом, слово «аминь», – быть может, наиболее распространенное в человечестве, ибо оно принадлежит одновременно евреям, христианам и мусульманам (id. col. 1554). Сигль же
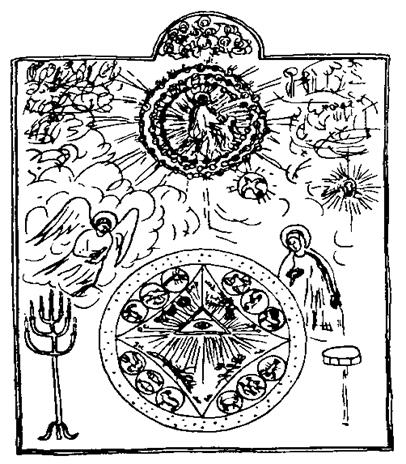
есть ничто иное, как число 99, т. е. число слова «ἄμην» или amen. В самом деле (id. coll. 1571–1572):
α μ η ν a m e n
1 + 40 + 8 + 50 = 99, 1 + 40 + 8 + 50 = 99,
Слово «аминь», употребляемое как утверждение известного, только что высказанного содержания мысли, указывает на веру в силу слова, в творчество словом, в реальность слова. Подобное же «аминь» значение обнаруживают заключительные формулы заговоров, с тою только разницею, что здесь непреложность словесного творчества характеризуются образно и во многих словах. Вот несколько примеров этого заговорного «аминя»: «Слово мое крепко!»; «Слово мое не прейдет во век!»; «Будьте слова мои крепки и лепки, тверже камня, лепче клею и серы, сольчей соли, вострей меча-самосека, крепче булата; что задумано, то исполнится!»; «Сие слово есть утверждение и укрепление, им же утверждается и укрепляется и замыкается.., и ничем – ни воздухом, ни бурею, ни водою дело сие не отмыкается». «Тем моим словам губы да зубы – замок, язык мой – ключ; и брошу я ключ в море, останься замок мой в роте»; «Ключ моим словам в небесной высоте, a замок в морской глубине – на рыбе-ките, и никому эту кит-рыбу не добыть и замок не отпереть окроме меня; a кто эту рыбу добудет и замок мой отопрет, да будет яко древо, палимое молнией» и т. п. (А. Афанасьев, – Поэтические воззрения славян на природу, M., 1865, T. I., стр. 420–423). О заговорах наиболее подробные, друг друга дополняющие исследования: Л. H. Майков, – Великорусские заклинания. (Сборник). («Записки Импер. русс. географич. об-ства – по определению этнографии», Т. ІІ, СПб., 1869).
A. [В.] Ветухов, – Заговоры, заклинания, обереги и другие виды народного врачевания, основанные на вере в силу слова. (Из истории мысли). Варшава, 1907. Вып. І-ІІ, 522+VII стр. – Тут же – обширный библиографический указатель о заговорах, впрочем нуждающийся в кое-каких дополнениях.
Моисей Базилевский, – Влияние монотеизма на развитие знаний. Киев, 1883, ч. III, гл. I, стр. 168, прим. 2.
Не могу не выразить своей радости, что большую часть мыслей письма второго и, отчасти, третьего с четвертым я могу опереть на авторитет † архимандрита Серапиона (Машкина). В излагаемом тут виде очень многие идеи взяты из его рукописей, но какие именно – пусть читатель, интересующийся вопросами идейной собственности, сам определит, когда появятся в свет подлинные сочинения о. Серапиона. Что же до меня, то мысли покойного философа и мои оказались настолько сродными и срастающимися друг с другом, что я уже не знаю, где кончается «серапионовское», где начинается «мое», тем более, что общность наших отправных точек и знаний неизбежно вызывала однородность и дальнейших выводов.
Интерес к системе, которая начиналась бы с абсолютного скепсиса и, охватив все основные вопросы человечества, заканчивалась бы программой общественной деятельности, до самой смерти о. Серапиона властно сковал его внимание. В результате упорной и смелой работы мысли явилась в высокой степени оригинальная система, которую покойный философ несколько раз брался изложить письменно. Где-то в своих бумагах он поминает, как, еще в детстве, его влекли основные вопросы о происхождении мира, о Боге и т. п., и что тогда уже он пытался выразить на бумаге свои решения их. Первою серьезною попыткой можно считать кандидатское сочинение о. Серапиона, относящееся к 1890–92 годам; тогда о. Серапиону было 39–41 год. Второю грандиозною попыткой было сочинение, поданное на магистра и помеченное 1900-м Годом, – временем настоятельства о. Серапиона в Знаменском монастыре. Эта редакция в разных местах носит разные заглавия. На обкладке ее значится:
« Архимандрит Серапион (Мaшкин). Опыт системы Христианской Философии».
Это заглавие зачеркнуто, и над ним надписано:
«Опыт системы Учения и Дела Иисуса Христа (Христианская Философия)».
Первоначальное заглавие повторяется и на первой странице с эпиграфом: «Измерил он город тростью, – мерою человеческою, какова мера и Ангела» (Откр. 21:16–17).
Как сказано, сочинение в этой редакции было подано на степень магистра в Московскую Духовную Академию. Проф. Алексей Ив. Введенский, просматривавший его, вернул обратно с предложением внести поправки, – исправить частью чисто внешние недочеты изложения, как то длинноты, повторения, неясности, частью же – и по существу. О. Серапион начал перерабатывать свое сочинение и многочисленными перечеркиваниями, надписаниями, восстановлениями старого текста, приписками и вставками целых тетрадей чрезвычайно затруднил чтение рукописи. Но он почему-то так и не подал снова этой редакции на степень магистра, a стал излагать свою систему совсем заново, по новому плану и под новым заглавием;
«(монах) Завулон Машкин. Система Философии. 1904».
и, на следующей странице,
« Архимандрит Серапион Машкин. Система Философии: Опыт научного синтеза. В двух частях, 1903–1904».
Эта последняя редакция отличается большою сжатостью и, порою, даже изяществом изложения – тем своеобразным изяществом строгости, с каким написаны «Этика» Спинозы или три «Критики» Канта. Изложенная more geometrico, гораздо более отвлеченная, чем предыдущая редакция, эта последняя редакция требует от читателя непрестанной напряженности мысли, и эта напряженность повышается от множества символических формул, подобных математическим, концентрированно воплощающих в себе целые метафизические теории и образующих базис для дальнейших умозрений. К сожалению, однако, эта 2-я редакция окончательно написана не вся, и 2-я часть ее осталась в виде отдельных фрагментов или даже просто едва читаемых, по неразборчивости почерка, набросков. Таким образом, является большое сомнение, возможно ли восстановить эту 2-ю часть 2-й редакции.
Оптиной пустыни достались после смерти о. Серапиона все его бумаги, среди которых имеются два последних изложения его системы, черновики писем и кое-какие отдельные заметки, но в очень небольшом числе имеются также многочисленные предварительные наброски, заметки и фрагменты окончательно отделанного сочинения y родственников покойного о. Архимандрита, Машкиных. Наиболее ценное автор настоящей книги имеет в виду опубликовать, но и внешние условия издательства, и обработка текста для печати представляют немалые затруднения. До того же времени я надеюсь выпустить в свет монографию об о. Серапионе, т. е. систематическое изложение его воззрений и его биографию. Впрочем, такая монография и необходима, потому что непосредственное чтение сочинений о. Серапиона едва ли окажется под силу многим из тех, кто мог бы живо заинтересоваться его взглядами.
В заключение мне хотелось бы указать что-нибудь из литературы об о. Серапионе, но вся она, к сожалению, ограничивается небольшой статьей моей «К почести вышнего звания», помещенной в 1-м выпуске «Вопросов религии» (М, 1906 г, стр. 143–173). Должен однако предупредить читателя, что она написана до того времени, когда автор мог более основательно вникнуть в жизнь и личность о. Серапиона, и потому многое в характеристике о. Серапиона теперь было бы представлено иначе.
Формальная логика, основанная Аристотелем, начинает, как известно, с понятий, и из них построены, далее, суждения. Напротив, гносеологическая логика, особенно в трудах Г. Риккерта, начинает с суждений и, при помощи них, устанавливает понятия (Г. Риккерт. Введение в трансцендентальную философию. Предметы познания. Пер. Шпетта. 1904. – Г. Риккерт. Границы естественнонаучного образования понятий. Пер. Водена. СПб., 1903). В первом случае понятия – первичные элементы, а суждения – вторичные; во втором – наоборот, но и та и другая логика сходятся между собою в монистическом понимании логических элементов. Символическая же логика, основываясь на соотносительности и неразделимости суждений и понятий, существенно дуалистична. Как дается понятие? – Чрез суждение. Как дается суждение? – Из понятий. Следовательно, не бывает ни суждений без понятий, ни понятий – без суждений; те и другие полярно-сопряжены. Понятия и суждения суть такие элементы мышления, которые, будучи всегда вместе, различаются не безотносительно, а лишь соотносительно, и, вне своего соотношения, они не могут быть рассматриваемы как различные. Отсюда вытекает весьма интересное следствие: Когда мы устанавливаем то или иное формальное соотношение понятий и суждений, то, подставляя в соотношении на место первых последние и на место последних – первые, мы опять получим истинное соотношение, которое будет теоремою, двойственно-сопряженною с первою. И, значит, при алгоритмических выкладках вам нет ни малейшей надобности знать, имеем ли мы дело с суждениями, или с понятиями; полученная формула будет равно справедлива и при той, и при другой интерпретации, так что каждая формула представляет собою две теоремы, – одну из исчисления классов, а другую – из исчисления предложений. Об этом см.:
L. Conturat, – L’Algèbre de la Logique, 1905, § 2, pp. 3–4 и рус. пер.: Л. Кутюра, – Алгебра Логики, пер. с добавлением проф. П. Слешинского, Одесса, 1909, § 2, стр. 2–3, и приложение 1-е, стр. I-IV. – Дальнейшие указания – в.
В виду сказанного, наиболее основательно было бы не ограничивать себя выбором того или другого основного термина, как это сделано нами в тексте, но писать просто символ, без интерпретации его. Однако, эта, самая безопасная позиция, сделала бы язык нашего сочинения столь варварским и чтение книги столь затруднительным, что мы оказались бы вынужденными выйти из равновесия и отдать предпочтение либо той, либо другой интерпретации. На логико-алгебраический алгоритм мы посмотрели под углом зрения именно гносеологической логики, т. е. сочли, – по крайней мере на словах, – основным актом познания – суждения. Но, хотя этим размах мысли и сужен вдвое, однако мысль от этого не делается неверною и всегда может быть восполнена «переводом» текста на язык формальной логики. В сущности говоря, текст следовало бы печатать сразу на языках обеих логик, в два столбца, но это хлопотливое новшество было бы и утомительным и мало целесообразным, хотя иногда и применяется в алгебре логики.
Этот принцип познания, в различных формулировках, единодушно высказывался мистиками всех времен и всех стран, причем мною имеется в виду, конечно, мистика естественная, без-или вне-благодатная. Индусская философия вообще и, в особенности, система йоги; неоплатонизм; персидская мистика; современная теософия и другие оккультические течения; бесчисленные мистические течения на почве христианства; наконец философия разных направлений, и, в частности, новейшая, например, мистический интуитивизм и т. д. и т. д. – все они, более или менее ясно, высказываются именно в таком смысле.
Укажем кое-какие книги для ознакомления с общим характером мистического познавания; впрочем, литературы по суфизму, по неоплатонизму и др. течениям, кроме индусской мистики, приводить не будем, как по ее специальности, так и имея в виду кое-что из нее указать в других местах.
В. Джемс, – Многообразие Религиозного Опыта. Пер. с англ. Вып. V. Малахиевой-Мирович и M. В. Шик под ред. С. B. Лурье. M., 1900.
Г. Геффдинг, – Философия религии. СПб., 1903.
Вл. С. Соловьев, – Критика отвлеченных начал, XL–XLVI. («Собрание сочинений», T. 2); Философские начала цельного знания (id., T. I), многие статьи из «Энциклопедического Словаря» Брокгауза и Эфрона, (id., Т. 9) и др.
П. Д. Успенский, – Tertium Organum. Ключ к загадкам мира. СПб., 1911.
M. B. Лoдыженский, – Сверхсознание и пути к его достижению. Индусская Раджа-Йога и христианское подвижничество. СПб., 1911.
П. M. Минин, – Мистицизм и его природа («Богословский Вестник», г. 20-й, 1911 г., апрель, стр. 795–817 и май, стр. 85–112).
П. M. Минин, – Главные направления церковной мистики (id., г. 20, 1911, декабрь, стр. 823–838 и далее).
И. Лапшин, Мистическое познание и вселенское чувство («Сборн. статей, посвящ. почитателями акад. и засл. проф. В. И. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности, СПб., 1907, T. I, стр.. 549–641, и отд. изд.).
Ф. Степпун, – Трагедия мистического сознания («Логос», 1911–12, кнн. 2–3, стр. 115–140).
Delacroiх, – Etudes d’histoire et de psychologie du mysticisme, Les grands mystiques chretiens. Paris, 1908.
Leuba, – Les tendences fondamentales des mystiques chretiens («Revue Philosophique», T. 44, 1902).
Réçéjac, – Essai sur les fondaments de la connaissance mystique, Paris, 1897.
Murisier, – Les maladies du sentiment religieux, Paris, 1901.
Ekstatische Konfessionen gesammelt von Martin Buber. Jena, 1909.
A. Godfernaux, – Sur la psychologie du mysticisme («Revue Philosophique», 1902, Férvier).
Boutroux, – Le mysticisme («Bulletin de l’Institut général psychologique», 1902, Janvier-Février).
J- v. Görres, – Die christliche Mystik. Regensburg, 1836–1842 Bde.
Caro, – Essai sur le Mysticisme au XVII siecle.
Paulhan, – Le nouveau mysticisme («Revue Philosophique, 1890 № 11).
A. A. Козлов, – Очерки из истории философии. Понятие философии и истории философии. Философия восточная. Киев, 1887.
M. Мюллер, – Шесть систем индейской философии. Пер. с англ. И. Николаева, M., 1901.
Архим. Хрисанф (Ретивцев), – Религии древнего мира в их отношении к христианству. СПб., 1873–1876. 3 Т.
Paмaчаpaкa, – Хатха-йога. Пер. под ред. B. Силина, СПб., 1909.
«Свет на пути». Пер. И. Батюшкова. («Свободная Совесть», кн. 1-ая, M., 1906, стр. 140–152); то же – пер. Е. П., изд. «Посредник».
Е. П. Блаватская, – Голос безмолвия. Пер. с англ. Е. П. Калуга.
Брамана Чаттерджи, – Сокровенная религиозная философия Индии. Пер. с 3-го фр. изд. Е. П. Калуга, 1906.
«Основы Упанишад» (Дух Упанишад). Изд. «Магнетизм Личности».
Ал-ей [И.] Введенский, – Религиозное сознание язычества. T. I, M., 1902.
Седир, – Факиризм в Индии или школа упражнений для развития психических способностей. Пер. A. В. Трояновского. СПб. 1908.
Беттани и Дуглас, – Великие религии Востока. Пер. с англ. Л. Б. Хавкиной. M., 1899, приложены библиограф. и предметн. указатели.
Rich. Sсhmidt, – Fakire und Fakirtum in alten und modernen Indien. Berlin., 1908, с 87 цветными рис., Представляющими различные положения тела при мистическом созерцании.
I. Campbell Oman, – The Mystics, Ascetics and Saints of India. London, 1905. XV+291 pp. – Отчет об этой книге см. в «Revue de l’histoire des religions», 1906, № 3 (159), p. 425.
Paul Deussen, – Allgemeine Geschichte der Philosophie. Bd. I. Lpz.,1824.
C. J. H. Windischmann, – Die Philosophie im Fortgang der Weltgeschichte. Erster Theil. Die Grundlagen der Philosophie im Morgenland. Bonn, 1827.
A. Барт, – Религии Индии. M., 1897. – Тут же указана литература.
Суоми Вивеканда, – Философия Йога. Лекции, читанные в Нью-Йорке зимою 1895–1896 г. о Раджа Йоге. Пер. с англ. Попова, Сосница, 1896.
Журнал «Вестник Теософии»; сборники «Вопросы Теософии».
А. Безaнт, – Древняя мудрость. Пер. Е. П.
А. Безaнт, – Теософия и Новая Психология. Пер. Е. П.
Руд. Штейнер, – ΘΕΟΣΟΦΙΑ. Пер. со 2-го нем. изд. Минцловой. СПб., 1910.
См. также .
По Платону, есть три вида бытия. Первый их них «тождественный, нерождающийся и неразрушающийся, не принимающий в себя ниоткуда иного и сам нигде не входящий в иное», – одним словом, безусловно подчиняющийся закону тождества; – он – достояние «мышления». Второй – вид «рожденный, всегда подвижный, являющийся в каком-либо месте и опять оттуда исчезающий»; воспринимается он «мнением в связи с чувством». Третий же род представляет всегда род пространства, не принимающий разрушения, дающий место всему, что имеет рождение, сам же уловляемый без посредства чувства, путем некоторого поддельного суждения, – род, едва вероятный. Взирая на него, мы точно грезим… αὐτὸ δὲ μετ’ ἀναισθηςἴας ἁπτὸν λογισμῷ τινὶ νόθῳ, μόγις πιστόν πρὸς ὅ δὲ καὶ ὀνειροπόλοῦμεν βλέποντες – ( Платон, – Тимей 52a, b. Piatonis Opera ex rec. Schneideri. Vol. II, Parisiis, 1846, p. 219).
Подобная же мысль развивается и в другом творении «τρία δὲ ὄντα, τρισὶ γνωρίζεσθαι τὰν μὲν εἰδέαν, νόῳ κατ’ ἐπιστἀμαν τὰν δ’ ὕλαν, λογισμῷ νόθῳ τῷ μήπη κατ’ εύθυωρίαν νοεῖσθαι, ἀλλὰ κατ’ ἀναλογίαν τὰ δ’ ἀπογεννάματα αἰσθήσει καὶ δόξα, – Quum haec tria sint, tribus quoque modis cognoscendi: Formam quidem, mente et scientia: Materiam adulterina quadam ratiocinatione (quod videlicet non recta quadam et aequam rei animadversione sed ex proportione quadam et collatione intelligitur) Foetus vero qui ex illis nascuntur, sensu et opinione» (псевдо-Тимей Локрский, – O душе мира, 94Ь. – Divini Platonis Opera omnia quae exstant. Marsilio Ficino interprete. Lvgdv., 1590, p. 553 B.). – Хотя старинные издатели и помещали это произведение среди Платоновских, как первоисточник «Тимея», но в настоящее время подлинность его безусловно отвергается и его вовсе не печатают в «Творениях» Платона. Но Мейнерс, Тидеман, Теннеман и др. признали его за компиляцию из Платона; вот в этом-то смысле представляет для нас некоторый интерес, как своего рода перифраз какого-то из позднейших платоников.
Гете, – Фауст.
Доказать – это значит диалектически породить доказываемое (см. Herrn. Cohen. Logik der reinen Erkenntniss. Berlin, 1902). Рационализм и есть выражение этого стремления, – будь то рационализм Фихте, Шеллинга, Гегеля, современных марбуржцев или, наконец, логистиков; в сущности, все они заняты одною задачею, – изгнать из области мысли все то, что не воспостроено чисто-логически, т. е. рационализировать все мышление. Но все же наиболее последовательно и строго эта «логизация» науки, чрез посредствующее звено «арифметизации», проводится в области основ математики. Однако нельзя не видеть, что интуиция, изгоняемая дверью, у всех их, а в том числе и у математиков, неизбежно влетает в окна. Но, как мужественная попытка, как опыт наглядного приведена к абсурду самого принципа рационалистического, все эти течения в высокой степени интересны и поучительны.
А. [Н.] Афанасьев, – Поэтические воззрения Славян на природу. Т. 2, М. 1868, стр. 163.
«Для объяснения данных явлений можно приводить только такие другие вещи и основания объяснения, которые связаны с данными явлениями согласно известным уже законам явлений. Поэтому трансцендентальная гипотеза, в которой была бы применена чистая идея разума для объяснения вещей природы, не служила бы объяснением, так как в таком случае то, чего мы не понимаем в достаточной степени из знакомых нам эмпирических принципов, было бы объясняемо посредством того, что вовсе непонятно нам. Принцип такой гипотезы собственно служил бы только для удовлетворения разума, а не для содействия применению рассудка к предметам. Порядок и целесообразность в природе должны в свою очередь объясняться из естественных оснований и законов природы, и здесь даже самые дикие гипотезы, если только они имеют физический характер, более выносимы, чем гиперфизические, т. е. чем ссылка на божественного Творца, предполагаемого для этой цели – hier sind selbst die wildesten Hypothesen, wenn sie nur physisch sind, erträglicher, als eine hyperphysische, d. i. die Berufung auf einen göttlichen Urheber, den man zu diesem Behuf voraussetzt. В самом деле, проходить сразу мимо всех причин, объективная реальность которых, по крайней мере в возможности, доступна нашему познанию путем продолжения опыта, и успокаиваться на чистой идее, весьма удобной для разума, это – принцип ленивого разума (ignava ratio) –» ( Кант, – Критика чистого разума, Учение о методе, гл. I секц. 3 [изд. В., SS. 800–801]. – Пер. Н. О. Лосского, СПб., 1907, стр. 426–427. – Kritik der reinen Vernunft, von Im. Kant, herausgegeben von K. Kehrbach, 2-te Aufl., Lpz., SS. 588–589).
Термины, употребляемые здесь и далее, разъяснены в:
П. Флоренский, – О символах бесконечности («Новый Путь», 1904, № 9).
П. Флоренский, – О типах возрастания («Богословский Вестник», 1906, № 7).
Платон, – Пир, 202 A (гл. XXII). – Opera Piatonis ex rec. R. В. Hirschigii. Parisiis, 1856, Vol. I, p. 680):
«Разве ты не знаешь, что правильное мнение, которое ты не можешь подтвердить доказательством, не есть ни знание ( ибо дело недоказанное как могло бы быть знанием?), ни незнание (потому что дело, касающееся существенности, как могло бы быть незнанием?). Это-то именно правильное мнение, вероятно, и есть средина между невежеством и разумностью. – Тὸ ὀρθὰ δοξἀζειν καὶ ἄνεν τοῦ ἔχειν λόγον δοῦναι οὐ οἶσθ’ ἔφη, ὅτι οὐτ’ ἐπίστασθαί ἐστιν – ἄλογον γὰρ πρᾶγμα πῶς ἄν εἴη ἐπιστήμη; – οὔτ’ ἀμαθία τὸ γὰρ τοῦ ὄντος τυγχάνον πῶς ἄν εἴη ἀμαθία; ἔστι δε δήπον τοιοῦτόν (τι) ἡ ὀρθὴ δόξα, μεταξὺ φρονήεως καὶ ἀμαθίας».
Аристотель, – Этика к Никомаху, VI (Ζ), 3 (Aristotelis Operated. Acad. Borussica, vol. 2, p. 1139b 31): «ἡ μὲν ἄρα ἐπιστήμη ἐστὶν ἕξις ἀποδεικτική». Слово ἔξις происходит от глагола ἔχω – имею – и означает обладание, владение. – Понятие аподиктического суждения весьма определенно содержится у Аристотеля в его Первой Аналитике, I 1,24 a 30, ср. De gener. II 6, 333 b 25.
Слово ἀπορία образовано из ἀ privativum и √πορ; происходящие от этого последнего слова: πορεῖν – доставлять, давать; πορίζω – доставлять, изготовлять и т. д.; πέπρωται – дано, решено, назначено судьбой; πεπρομένος – назначенный; ἡ πεπρομένη – участь, судьба, – эти слова определяют и значение нашего корня. Однако сродство его с латинским √par, входящим в слова parāre – приготовлять и parĕre – рождать (W. Prellwitz, – Etymologisches Wörterbuch, SS. 259–260, πορεῖν. – Бензелер, – Греческо-русский словарь, Киев, 1881, стр. 626–627) заставляет думать, что первоначально в√πορ содержалось понятие доставления именно чрез рождение, но рождение, как деятельность, производящую некий плод. Отсюда понятно, что у Платона идея полноты производительной силы, полноты божественного творчества идеального мира представлена под видом божества Πόρος (Платон, – Пир, 203, В, С, ХXIII. – Platonis Opera ex rec. R. В. Hirschigii, Parisiis 1856, vol. I, p. 681); Поэтому, далее, ἀπορέω – быть без средств, находиться в безвыходном, беспомощном состоянии, терпеть нужду, недостаток – и ἀπορία – безвыходное положение, недоумение, уныние, недостаток, нужда и т. п. (Бензелер, – id., стр. 93), в сущности, выражают идею бесплодия, производительного слабо- и бессилия, отсутствие мощи рождения. Философские же термины «άπορεῖν» и «ἀπορία», при сравнительно внешнем их понимании, означают затруднительное положение ума, умственное недоумение, интеллектуальную безвыходность, а, для более глубокого разумения, должны означать бессилие творческой мысли, неспособность рождать мысли, умственное бесплодие. Это обнаруживается в неспособности ума употреблять внешние органы интеллектуального рождения, – голосовые, т. е. в невозможности высказать суждение, в ἀφασία. В истории мысли неотъемлемо от Сократа и Платона у них повторяющееся бесчисленное множество раз сравнение философствования с деторождением; однако, оно не есть простая аналогия. Нет, органы рождения и органы речи – гомотипичны друг другу (стр. 588), и плоды их деятельности, ребенок и воплощенная мысль, – эти завершения полюсов нижнего и верхнего, – находятся в каком-то трудно-показуемом, но несомненном, глубоком соответствии между собою. Вот почему, древние скептики, для обозначения философской неспособности производить мысли, опять-таки выбрали слово столь специфического оттенка.
Слово ἐποχὴ происходит от глагола ἐπ-έχω – имею что над чем, держу что над чем, держу что пред чем, имею кого против себя, стою против кого, направляюсь, устремляюсь на кого; а затем еще: удерживаю, сдерживаю, останавливаю, сдерживаюсь, медлю, жду и т. д. (Бензелер, – id., стр. 270), Позднейшее слово ἐποχὴ означает остановку, задержку (id., стр. 293). В философии, по определению Пиррона, «ἐποχὴ ἐστί στάσις διανοίας, δι’ ἢν οὔτε αἴρομέν τι οὔτε τίθεμεν – ἐποχὴ есть остановка мышления, вследствие которой мы ни отбрасываем что-нибудь, ни устанавливаем его» (Секст Эмпирик, – Пирроновские основоположения. 1 10, – Sextus Empiricus, ex recensione Imm. Bekkeri, Berolini, 1842; p. 5 1–2). По мнению Эд. Целлера (Ed. Zeller, – Die Philosophie der Griechen, 4-te Aufl. herausg. von. Ed. Welbmann, T. 3, Abth. 1, Lpz., 1909, S. 505, Anm. 1) этот термин ἐποχὴ выражает совершенно то же, что и ἀφασία, ἀκαταληψία и еще, присоединенные сюда впоследствии, ἀρρεψία, ἀγνωσία τῆς ἀληθείας и т. д. Но едва ли основательно уничтожать те оттенки мысли, которые связываются с различиями этих терминов. Однако для нас, в настоящую минуту, историческая сторона дела мало занимательна, и мы смело можем пренебречь тонкостями, разъяснение которых читатель найдет в специальной литературе по греческому скептицизму.
Библиографию по древнему и отчасти новому скептицизму см. в:
Fr. Ueberwegs, – Grundriss der Geschichte der Philosophie. Achte – Auflage, bearbeitet und herausgegeben von Max Heinze. Berlin, 894. Erster Theil, das Alterthum. §§ 60, 61, SS. 291–299.
J. [М]. Baldwin, – Dictionary of Philosophy and Psychology. New-York, London, 1905. Vol. III, Part. I, pp. 431–432: Pyrrho; 475–476: Sextus Empiricus; 63: Aenesidemus и т. д.
Rud. Klussmann, – Bibliotheca scriptorum classicorum et graecorum et latinorum. Die Literatur von 1878 bis 1896 einschliesslich umfassend, Erster Band: scriptores graeci. Lpz., 1909 u. f. См. соответствующие имена в указателе.
Состав термина ἀταραξία (ἀ privativum и ταράσσω – потрясаю, волную, смущаю, расстраиваю, беспокою и т. д.) понятен. По определению Пиррона «ἀταραξία ἐστι ψυχῆς ἀοχλησία καὶ γαληνὀτης – ἀταραξία есть без-беспокойность души и затишье» или «нестесненность души и ясность, веселость» (Секст Эмпирик, – Пирроновские основоположения, 1 10». – Sexti Empirici Opera, id. p. 52–3).
«Пиррон был основателем греческого скептицизма. Он не только высказал основные принципы этого учения, но и всю свою жизнь, представляющую высокий образец чистоты и благородства, построил согласно этим принципам; это один из возвышеннейших представителей типа греческого мыслителя: сверхчеловек, поскольку никакие человеческие тревоги и заботы не имели над ним власти. Это обстоятельство… привело к тому, что скептики всех времен видели в Пирроне как бы своего святого, что он стал патроном скептической секты… Он… сопровождал Анаксарха, когда тот отправился в азиатский поход в войске Александра… В Азии Пиррон встретился с индийскими гимнософистами – отрекшимися от мира мудрецами, которые, голые, жили в лесах – с индийскими магами, аскетами и святыми; эти бездеятельные и равнодушные, отвергающие жизнь люди должны были произвести впечатление чарующей загадки на нашего грека, сына жаждущей избавления эпохи. «Мы, греки, изнемогаем в погоне за счастьем, – а здесь, по эту сторону моря, оно осуществляется на деле; только умерев для жизни, только отринув беспокойную волю, может человек наслаждаться миром. Какой же путь должна избрать наша душа, чтобы достигнуть своего идеала?». В форме такого рода вопросов должны были обрисоваться пред погруженным в раздумье Пирроном основные черты скепсиса, как решения мировой и человеческой загадки. По окончании азиатского похода Пиррон возвратился на родину, в Элиду; он вел здесь очень скромную жизнь, и пользовался всеобщим уважением. Ради него философы были освобождены от налогов. Афиняне преподнесли ему право гражданства. На рыночной площади родного города была воздвигнута его статуя; он был назначен верховным жрецом… Новый нравственный идеал жизни, полной резиньяции, был движущим мотивом всего его учения… Все, что мы знаем о характере и образе жизни Пиррона, доказывает, что он был всецело проникнут глубоко, изнутри обоснованным равнодушием к жизни и миру. Ни следа фанатизма в этом человеке; он не отчаивается, хотя чужд всяких определенных чаяний, «его ничто не поддерживает, и тем не менее он стоит непоколебимо» (Brochard, – Les sceptique Grecs, Paris, 1887, p. 73); он религиозный скептик и в то же время верховный жрец. Сомнение его не есть скептицизм ярого просветителя, который еще полон надежд; это скептицизм консерватора, утратившего всякую надежду. Тихо и одиноко жил он со своей сестрой, акушеркой Филистой; он избегал всяких почестей, никогда не забывая слов одного индийца, что Анаксарх не может учить истине, т. к. вращается во дворцах королей. Во время опасной бури на море, в момент всеобщей паники, он указал на свинью, спокойно пожиравшую свой корм, как на достойный подражания образчик наивной атараксии. Если во время его речи собеседник внезапно покидал его, он, нисколько не сердясь и не обращая внимания на ушедшего, спокойно договаривал до конца свою мысль. Мучительнейшие операции выносил он без малейшей гримасы» (Р. Рихтер, – Скептицизм в философии. Пер. с нем. В. Базарова и Б. Столпнера, Т. I, 1910, стр. 62–65. Кн. 1, гл. 1, II1). – Такова, для примера, новейшая попытка реконструировать «житие» скептика. (Еще характеристики личности Пиррона см. у Брошара и у Фр. Ницше). Не смея отрицать этого светлого образа, хотя историческая достоверность его и весьма невелика, мы однако не можем не припомнить иные образы, свидетельствующие о внутреннем неспокойствии и смуте духовной на почве ἐποχὴ. Таков жадный до насмешек и, в то же время, любящий вкусно поесть, хорошо выпить, копить деньги и язвить врагов своих многописавший Тимон (Рихтер, id., стр. 68). Таков же и вечнозанятый Карнеад, громогласные речи которого производили впечатление почти демоническое (Диод. IV, 62 – Рихтер, – id., стр. 81). Оба они обосновали скептическое ἐποχὴ лучше Пиррона, но это ничуть не помогло им стяжать истинное «затишье – γαλήνη» духа. Не значит ли это, что Пирронову умиренность, – если только она достоверна, – что ее объясняет тоже вовсе не ἐποχὴ, а что-то иное?
Положение, высказанное в тексте, можно обосновывать множеством данных. Но для меня лично эта мысль стала очевидною после одного сновидения. Позволю себе привести современную ему запись, от 9-го сентября 1902 года.
«Я видел, – читаю я в старой своей тетради, – видел во сне, как схожу с ума. Что-то чуждое моему «Я», какая-то чужая воля закрадывается в психический организм. По временам он раздваивается на два активных «Я». Мое «Я», настоящее, тогда пытается сопротивляться «Я» чуждому и иногда достигает своей цели. Но это – редкими мгновениями, – когда, как молния, как вспышка, появляется мысль: «Ведь я схожу с ума!». А, в общем, настоящее «Я» как-то бездеятельно, безразлично созерцает другое «Я» (пример раздвоения сознания во сне, не объективируемого на иную личность). Меня во сне лечил, скорее присматривал за мною, доктор К*.
Даже органы перестают повиноваться моему желанию. Я иду и как-то странно размахиваю руками, как будто в плечах они были на вращающихся, весьма ослабших шарнирах. Ноги дергают во все стороны, и все тело напоминает развинтившийся механизм.
Наконец, я чувствую, что сейчас потухнет последняя вспышка самосознания настоящего «Я», последний проблеск сознания о начинающемся психическом расстройстве.
Тут я просыпаюсь, и сперва механически, потом, начиная сознавать и понимать смысл, говорю стих Бальмонта:
«Я видел ныне сон – не все в нем было сном».
(Стих Бальмонта, на деле, читается так:
«Я видел сон, не все в нем было сном,
«воскликнул Байрон в черное мгновенье)»».
Архимандрит, [ныне епископ] Серафим (Чичагов), – Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря, СПб., 1903, стр. 114.
Подобный сему ответ о праве выхождения из границ опыта дает Гербарт: Herbart, – Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, 5-te Aufl. § 157, S. 192.
См. стр. 493–499. – Различные определения бесконечности, расположенные в хронологическом порядке, можно обозреть в: Rud. Eisler. Wörterbuch der Philosophischen Begriffe. 3-te Aufl., Berlin, 1910, Bd. 3, SS. 1566–1583, 1973; – история понятия о бесконечности в древней философии представлена в книге:
H. Guуot, – L’infinité divine depuis Philon le Juif jusqu’a Plotin. Tèse. Paris, 1906. XII+260 pp.
См. также:
Д. H. Овсянников-Куликовский, – Идея бесконечности в положительной науке и в реальном искусстве («Вопросы теории и психологии творчества». Издатель-составитель Б. А. Лезинов. Харьков, 1907, стр. 50–78).
Д. Н. Овсянников-Куликовский, – Несколько мыслей о происхождении и развитии чувства бесконечности в чистой лирике (id., стр. 83–117).
H. F. Th. Вeуdа, – Das Unendliche, was es den Philosophen und was es den Mathematikern bisher gewesen und wie es sich mathematische dargestellt nach einer neuen Erfindung. Bonn, 1880.
Alex. Véronnet, – L’ Infini. Catégorie et réalité. Paris. 1903.
Намек на III Esdrae 3 10–12: «Uhus scripsit, Forte est vinum. Alius scripsiti, Fortior est rex. Tertius scripsit, Fortiores sunt mulieres, super omnia autem vincit veritas».
Развиваемая в тексте мысль о преодолении абсолютного сомнения бесконечностью истины находит себе подтверждение у о. Иоанна Сергиева: «Бог, – говорит он, – есть Дух бесконечный. В чем эта бесконечность заключается? – Везде и во всем Бог, сущий превыше всего, не содержимый никакою тварью, и ни одна мысль, как бы быстра и смела она ни была, ни в чем опередить Его не может, всегда кружась только в Нем» (о. Иоанн Кронштадтский, – Моя жизнь во Христе. Приложение к журналу «Русский Паломник» за 1903 г., кн. III, стр. 692–693).
Im. Kant, – Metaphysicae cum geometria iunctae usus in philosophia naturali, cuius specimeni continet Monadologiam physicam (Supplement-Band zu Kant’s Werken, Abth. II. Herausg von J. H. v. Kirchman, Lpz., 1878, p. 25. – Philosophische Bibliothek von Kirchmann, Bd. 76, Abth. II.
И. Kант, – Физическая монадология. Предварительные замечания. Пер. П. Флоренского, Сергиев Посад, 1905, стр. 7 (=«Богословский Вестник», 1905 г. № 9).
Ансельм Кентерберийский, – Monol. I. Он же указывает и на идеальную самообосновываемость Бога: Бог – «summa veritas per se subsistens».
Фома Аквинат, – Contr. gent. I, 80.
Georgius Reeb, S. J., – Thesaurus Philosophicus seu Distinctiones et axiomata philosophica, – proposita a J.-M. Cornoldi Ed. nova, Parisiis, 1891, p. 111, n° 53 VII, cf. cetera.
Spinoza, – Ethices pars prima, Defin. III (Benedicti de Spinoza Opera… recognoverunt Van Vlotenet J. P. N. Land. Vol. I, – Hagae Comitum, 1882, p. 39).
См. стр. 619–721,.
Ради графического упрощения в дальнейшем мы пишем нередко эту и аналогичные формулы с малых букв. Но читатель, вникший в суть дела, и сам увидит, где требовались бы прописные литеры.
Преп. Фалассий Ливийский и Африканский. О любви, воздержании и духовной жизни к пресвитеру Павлу четвертое сто глав, 81, 84, 91, 93, 95, 97, 98 («Творения», 2-е изд. Козельской Введенской Оптиной Пустыни, М., 1894, стр. 64–67).
