15-е число
† Свят. Исаии, епископа Ростовского

Св. Исаия родился в Киевском крае. С молодых лет возлюбив Господа, принял он иночество в Печерской обители преподобных Антония и Феодосия. Подвизаясь здесь с твёрдостью, он помощью благодати превзошёл многих в посте, молитве и других добродетелях. «Крепость в человеке, говорил древний старец, зависит не от природы человека, которая подвержена переменам, но от решительного намерения, укреплённого помощью Божией»223. Так стал известен великими подвигами иноческими блаженный Исаия! Когда блаженный Варлаам, игумен Димитриева монастыря, скончался на пути из Константинополя, «христолюбивый князь Изяслав избрал из братии великого монастыря Феодосиева Исаию, просиявшего иноческим житием, и назначил в игумена монастыря св. Димитрия». Это было в 1065 году224. 1078 году преподобный Исаия принимал участие в молитве Печерских отцов за прельщённого Никиту и в том же году «за высокую жизнь свою» поставлен в епископа городу Ростову225.
В Ростовской епархии ожидали св. Исаию тяжёлые подвиги. Вот что происходило в Ростовской области за 4 года до прибытия его на кафедру! «Случился, говорит летопись, голод в Ростовской области. Из Ярославля поднялись два волхва. Мы знаем, говорили они, кто удерживает обилие. Они отправились по Волге и куда придут в погост, указывают на лучших жён и говорят: эти удерживают хлеб, те – мёд, те – рыбу. К ним приводили своих сестёр, матерей и жён; а они обманом будто прорезывали за плечами и вынимали то жито, то рыбу. И убивали многих жён, а имение их забирали себе. Пришли они на Белоозеро – и с ними было до 300 человек. В то же время пришлось прийти от Святослава Яну, сыну Вашатину, для сбора дани. Белозерцы рассказали ему, что два кудесника избили множество жён по Волге и Шексне и пришли сюда. Ян, спросив, чьи они подданные, и узнав, что они – его князя, послал сказать бывшим с ними: выдайте мне волхвов, они – подданные моего князя. Те не послушались. Ян пошёл сам и без оружия. Отроки сказали ему: не ходи без оружия, – обесчестят тебя. Он велел отрокам вооружиться и они, в числе 12-ти, пошли с ним по лесу. Те также вышли против Яна. Когда Ян шёл с топором, трое из них подошли к Яну и сказали: ты идёшь на явную смерть, не ходи. Он велел их бить, а сам шёл далее. Они сунулись на Яна и один поднял топор на Яна, но промахнулся. Ян, оборотя топор, ударил обухом и приказал отрокам рубить их. Те убежали в лес. Тут убили Янова священника. Ян, войдя в город Белозерцев, сказал: если не поймаете мне этих волхвов, то остаюсь у вас на всё лето. Белозерцы пошли, поймали и привели их к Яну. «За что погубили вы столько людей?» спросил Ян. «Они удерживают обилие», отвечали волхвы: «если истребим их, будет изобилие хлеба; если угодно, мы в глазах твоих вынем жито, либо рыбу, или другое что!» Ян сказал: «Лжёте вы, Бог сотворил человека из земли, составленного из костей, жил и крови; другого ничего нет в нём». Они отвечали: «Мы знаем, как сотворён человек». – «Как же?» просил Ян. Они сказали: «Бог, мывшись в бане и вспотев, отёрся ветошью и бросил с неба на землю; сатана вступил в спор с Богом, кому творить из того человека? Диавол сотворил тело, а Бог вложил душу». – Ян сказал: «истинно прельстил вас бес; какому Богу вы веруете?» Они отвечали; «Тому, что в бездне... Боги говорят нам, что не сделаешь ты нам ничего худого; – мы должны явиться пред Святослава». Ян приказал их бить и вырвать бороды. Когда их били, Ян спросил: «что ж говорят вам боги?» – «Мы должны стать перед Святослава», отвечали они... Ян спросил возчиков: «убит ли ими кто из ваших родственников?» – У одного убита мать, говорили они, у того сестра, у третьего дети. «Мстите же им», сказал Ян. Те схватив убили и повесили их на дубе226.
Вот с какими людьми надлежало иметь дело святителю Исаии! Вот каких людей обширной Ростовской епархии, заключавшей тогда и Белозерскую и Суздальскую страну, надлежало учить св. вере и благочестию227.
К сожалению, древнее известие о святителе не передаёт нам подробных сведений об Апостольской деятельности его. «Блаженный святитель, говорит оно, найдя в Ростове людей новокрещённых, ещё не утвердившихся в вере, усердно напоил их учением своим. Потом обходил поселения Ростовской и Суздальской областей, увещевал неверных веровать в Св. Троицу и просвещал св. крещением; где находил идолов, истреблял их огнём; верных убеждал быть неподвижными и непоколебимыми в вере»228. Вот всё, что говорит древнее житие св. Исаии о его трудах для св. веры! Сколько лет проведено им в таких подвигах? И по житию его, в борьбе с суеверием прожил он до половины 1089 г. и след. около 11-ти лет. В церковной службе св. Исаии видим ещё две черты проповеди св. Исаии: одну ту, что св. Исаия на местах суеверия строил святые храмы, другую ту, что он окончательно низложил язычество в Ростовско-Суздальской стороне229. Прекрасно выражен в одной стихире дух служения св. Исаии. Она поёт: «как назовём тебя, святитель? Ты – ангел, потому что бесплотно жил ты на земле; ты – Апостол, потому что научил благоверию Русские пределы; ты – мученик, потому что для Христа подвизался ты до смерти, обращая людей от тьмы нечестия и приводя на пажить благоведения»230. Утешением св. Исаии служило участие князя Владимира Мономаха в его служении. Набожный князь построил на свой счёт храм в Ростове и прислал для него одну из чудесных икон пр. Алипия231. В августе 1089 г. вместе с митрополитом Иоанном св. Исаия освящал великую Печерскую церковь, приглашённый, как говорит повесть о ней, ангелом Божиим232. Возвращаясь из Киева, он утешен был той любовью, с какой встретила его паства его. Блаженная кончина его последовала «на второе лето» по возвращении из Киева и след. в 1090 году233.
Когда в 1164 г. рыли рвы для нового Ростовского собора, которым заменялся сгоревший, тогда, говорит древнее известие, «нашли гроб блаженного Исаии; открывши его, увидели одежду и тело святителя нетленными и прославили Бога, Который благоволил прославить угодника Своего не только в жизни, но и по смерти; сколько лет прошло, а одежда и тело блаженного остались неприкосновенными для тления»234. Мощи святителя поставили тогда в церкви св. Иоанна, и так как каменный храм едва был окончен, как обрушился, то они перенесены в собор уже в 1231 году235. Между тем тогда же, как в первый раз обретены были св. мощи, они прославились чудесами и тогда же установлено праздновать память св. Исаии236.
«Приими, святитель Исаия, хвалу рабов недостойных и даруй нам безбедно переплыть неверное море сей жизни; вознеси за нас молитву к Богу и избавь от бед, гнетущих и ожидающих нас, да всегда величаем тебя»237.
† Память о преподобном Исаии Печерском

Жизнь пр. Исаии Печерского, нетленно почивающего в Антониевой пещере, не описана в патерике. У Кальнофойского он так обозначен: «преподобный старец Исаия трудолюбивый». Это даёт видеть, что подвигом жизни, которым препод. Исаия угодил Господу, был неутомимый труд, продолжавшийся и в старости. Он блаженно почил мая 15-го 1115 г. Память его совершается в обители 15-го мая по общей минее238.
† Преставление преподобного Евфросина Псковского

Родители преп. Евфросина, в мире Елеазара, были простые поселяне Псковского края239. Они желали, чтобы вступил он в брак, но он скрылся из дома их и на Снятной горе, что близ Пскова, принял монашество. Здесь он служил братии в поварне и пекарне и усердно молился Богу. Потом, по любви к безмолвию, удалился он на реку Толву и в 30-ти верстах от Пскова, построив себе келью, стал подвизаться в молитве и посте; это было в 1425 году240. Первым сожителем его в пустыни был инок Серапион; пробыв несколько времени у преподобного, он вздумал, без его благословения, строить себе келью на другом берегу Толвы, но наученный несчастием (повреждением ноги) остался навсегда послушником его241. Приходивших в пустыню Евфросин благословлял жить скитски. Когда число пустынников умножилось, по их просьбе Евфросин построил храм молитвы в честь трёх святителей, с тёплым приделом во имя преп. Онуфрия. Вместе с построением храма устроено было и общежитие. Преподобный был строг к себе, отказывал себе и в естественных утешениях. Раз пришла к нему мать, желая взглянуть на давно утраченного сына; Евфросин не отворил ей двери кельи своей, а упросил постричься где-либо в обители. По той же строгости к себе, не принял он на себя звания игумена, а предоставил его одному из учеников своих, сам же продолжал он жить уединённо. Благоговейные ученики почтили места уединённой молитвы его памятниками. Каменный крест сохраняет память о молитвах его в лесу, близ озера; деревянный столб на восточной стороне, за оградой обители, говорит о том же242.
Мысли подвижника об общежитии, а частью и жизнь его видим в завещании его. Здесь писал он:
«Вот я, раб Божий, инок Евфросин, ещё при жизни моей установляю о монастырской жизни, об усадьбах и постройках и о всём вообще. Поручаю всё это духовному отцу моему, игумену Харлампию, служителю Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого и преп. Онуфрия, а вместе и всей братии о Христе. Ни игумену, ни братии моей, ни келарю, ни живущим в поселении, ни служащим в обители, не следует пользоваться тем для себя, а всё употреблять на общую пользу. Если придёт брат и станет просить игумена и братию (о принятии его), то принимать его, как заведено. Если чернец или белец даёт что-нибудь в обитель по своей воле, для спасения души своей, то пусть даёт как милостыню, а не в складчину («а не вскуп»); складчины нет в монастыре; данного не искать на игумене и чернецах, поскольку дано то св. церкви, а не игумену и братии; пусть чернец или белец не ищут того на св. церкви. Правила св. отцов подвергают проклятию тех, которые отнимают приношение у св. церкви, и они умирают внезапной смертью. Надобно помнить, как Анания и Сапфира обещали дар свой Богу и потом солгали перед Господом и вдруг поражены были жестокой болезнью. Надобно страшиться такого дела: подобную обиду Себе отмщает Бог и здесь, и в будущей жизни. По правилам св. отцов, чернецы не должны вкушать пищу по кельям, кроме разве праздника, или особого угощения. Жёнам не бывать в монастыре, бани не иметь; немецких одежд не носить монахам, ни шуб с пухом. Если брат умрёт в монастыре, то отправлять по нём сорокоуст. Если мирянин послужит обители года два или три, то и по нём отправлять (сорокоуст). Кто будет обижать дом святителей и преп. отца Онуфрия, да будет под тяжестью святой Церкви. Свидетель всему тому игумен Харлампий, служитель святителей и преп. отца Онуфрия. Если умрёт игумен Харлампий, то кого возлюбят святители и преп. Онуфрий, кого по благословению игумена Харлампия изберут братия, тот пусть и будет игуменом. Да будет Бог помощником нам»243. Это завещание в кратком виде предлагает правила устава Евфросинова, сохранившегося до нашего времени. Вот замечательные мысли устава: настоятель не должен иметь ничего лишнего против братии, «ни ризы более нарядной и мягкой, ни пищи более вкусной» (гл. 3). Братия должна слушаться настоятеля со всей покорностью. «Послушание – лествица на небо; оно выше поста и пустынного подвига. Ангел Господний ходит за послушливым, считает шаги послушания и представляет их лицу Божию, как благовоние приятное; если же видит капли пота его, то приносит как кровь мученическую» (гл. 5). Куда бы настоятель ни послал на службу, должно идти без всяких отговорок и ослушания; «без благословения же настоятеля и особенно по своим каким-либо личным надобностям никуда не следует отлучаться» (гл. 16). Если кто начнёт противоречить настоятелю и заведёт спор и смуту, то запереть его в тёмное место, пока не покается; непокорного же и после вразумления высылать из монастыря, как гнилой член, и из внесённого им в монастырь ничего назад не отдавать (гл. 17). Странников питать в обители 3 дня, не требуя от них работы или платы (гл. 23)244.
В то время часто переходили из одной обители в другую, считая это духовной свободой, и то отдавали Богу в дар имущество, то хотели располагать им как собственностью. Один инок, отдав преп. Евфросину серебро на устроение обители, после стал жалеть о том. Преподобный велел отдать ему серебро. Инок удалился в другую обитель, но здесь скоро ослеп. Приведённый к Евфросину в раскаянии, по молитве его, исцелился душевно и телесно, прозрел245.
Преподобный Евфросин воспитал между учениками своими усердных подвижников благочестия. Таков был преп. Серапион, предваривший учителя кончиной за 8 месяцев; одежды его не хотел взять никто, даже из нищих; так она была ветха и плоха246. Таков был Досифей, составивший пустынное общежитие на великом озере, в честь святых Апостолов247. Игнатий был первым игуменом обители Евфросиновой и с ревностью совершал подвиги иноческие; родной брат его Харлампий был преемником его; другой брат Памфил также был игуменом и известен посланием об Иванове дне или против языческих суеверий сего дня248.
Подвижник Божий почил от трудов на 95 году жизни своей, 15 мая 1481 года. Он был роста среднего, сухой телом, с лицом кротким и очами приветливыми249.
† Страдание святого Димитрия царевича

Св. Димитрий царевич, сын царя Иоанна Грозного и Марии Феодоровны из роду Нагих, родился в 1582 году 19 октября250. Близкий к смерти царь Иоанн назначил в удел царевичу с его материю Углич, а воспитание его вверил царскому советнику Бельскому251. Царь Феодор вскоре по восшествии на престол, по настоянию сильных бояр, опасавшихся соперничества Нагих, отправил царицу Марию с её сыном в Углич. Добрый царь горько плакал, прощаясь с единственным братом; он назначил царевичу пышный штат двора, но скорбел, что удаление брата в Углич не более, как заточение; воспитатель Бельский остался в Москве252. Годунов вскоре после того стал полновластным правителем России: добрый Феодор остался почти при одном имени царя, а всё делалось, как хотел Борис; иностранные дворы присылали Годунову дары наравне с царём. Между тем Борису известно было, что все в государстве, начиная с царя Феодора, признают Димитрия наследником престола и имя его поминалось в церквах. Сам Борис в разных делах Феодорова времени признавал Димитрия наследником престола. Когда в 1586 г. совет вельможей с выбранными народа предложил царю Феодору развестись с неплодной женой, сестрой Годунова, по её бесчадию, Годунов отвечал, что есть законный наследник престола, Димитрий253. В следующем году, когда Русские послы отправлялись на Варшавский сейм хлопотать о том, чтобы Польша признала Феодора царём своим, Годунов в наказе послам писал: «если паны начнут просить, чтобы государь назначил им на государство брата своего, то отвечать, что это невозможно, – царевич ещё молод, всего четырёх лет»254. Так Борис видел в Димитрии наследника престола. Но как с страстью к власти, как привыкшему распоряжаться всем с мощью самодержавного царя, отказаться от всяких надежд на продолжение власти? К несчастью, льстецы говорили Борису, что при Димитрии ждёт его не власть царского советника, а плаха, и что родственники царевича Нагие готовы отмстить ему за своё заточение255. Тревожимый опасениями за свою будущность и обольщаемый мечтами о власти, Борис стал действовать против царевича, как против личного врага своего. Сперва запретил он поминать имя его в церквах, давая знать России, что сын седьмой жены Иоанновой – не наследник престола. Поскольку же Борису известно было, что много было таких, которые по тому самому, что оскорбительное распоряжение о царевиче принадлежало Борису, готовы всеми мерами действовать за царевича; то Борису смерть царевича казалась необходимой. Люди, поставившие судьбу свою в зависимость от судьбы Годунова, довели в нём эту мысль до убеждения256. Вследствие того дьяк Михаил Битяговский послан в Углич править земскими делами и хозяйством вдовой царицы. Вместе с ним явились в Углич сын Битяговского Даниил, племянник Никита Качалов и Осип Михайлов, сын мамки Димитриевой. И вот 15 мая «царевича в Угличе не стало»257. Как это случилось? Посланные из Москвы князь Василий Шуйский, окольничий Клешнин и дьяк Вылузгин доставили царю Феодору следственное дело, которым уверяли, что царевич, играя ножом с детьми в тычку, вдруг от падучей болезни упал и закололся258. Но это была только клевета, которой вновь оскорбляли имя св. царевича. Следствие, рассмотренное перед судом беспристрастия, оказывается жалким усилием закрыть правду в глазах царя Феодора. В нём не записали общего голоса Угличан, уверявшего следователей, что царевич убит. В нём старались не о том, чтобы открыть правду, а о том только, чтобы выставить царевича больным. Например, самый первый допрос был следующий: «которым обычаем царевича не стало? И что его болезнь?» В продолжение всего следствия вся заботливость следователей устремлена к тому, чтобы набрать как можно более голосов о болезни царевича. Напротив, если кто из допрашиваемых упоминает о насильственной смерти царевича, такое показание остаётся без всякого внимания, – не спрашивают: при ком это было? Кто убийцы? Как и когда убит царевич? Нежелание следователей открыть истину и желание закрыть её видно по показанию почти каждого ответчика259. Современники, за исключением услужливых слуг Бориса, и свои260, и чужие261 единогласно говорят, что царевича закололи убийцы, по желанию Годунова. Сам Шуйский в 1606 г. свидетельствовал перед целой Россией, что «царевич князь Димитрий Иванович, по зависти Бориса Годунова, яко ягня незлобиво, заклася, убит как невинный агнец»262. Ложь, которою хотели закрыть убийц и которой оскорбляли мученика, ясно открылась тогда, как в 1606 г. открыли гроб царевича; тогда нашли, что «в левой руке царевич держал полотенце, шитое золотом, а в другой орехи», в каком виде постигла его и смерть263. Если же правая рука его занята была орехами, то как мог он в той же руке держать нож? К тому же, в падучей болезни невозможны произвольные движения рукой, чтобы заколоть себя; если же царевич упал прямо гортанью на нож, гортань его была бы проколота, а не перерезана, как видят это теперь. Так царевич, невинный и чистый, был умерщвлён злодейски. По летописям и частью по самому следственному делу, злодейство совершилось так: 15 мая, в полдень, когда во дворце не было Нагих, мамка Волохова вынесла царевича на двор; сюда же сошла и кормилица, напрасно уговаривавшая мамку не носить царевича264. Убийцы уже дожидались жертвы. Осип Волохов, взяв царевича за руку, спросил: это у тебя, государь, новое ожерельице?» Ребёнок поднял голову и отвечал: «нет, старое». В эту минуту сверкнул нож, но убийца не захватил гортани и убежал. Димитрий упал. Кормилица пала на него, чтобы защищать его собой, и стала кричать. Битяговский и Качалов отняли у неё царевича и дорезали. Выбежала мать и стала кричать265. Соборный пономарь, видевший убийство, зазвонил в колокол, чтобы собрать народ. Михаил Битяговский бросился к колокольне остановить тревогу, но пономарь заперся в колокольне и продолжал тревогу266. Сбежавшийся народ, узнав о преступлении, по внушению Нагих, убил убийц – Михаила Битяговского и ещё 12 человек: несчастное самоуправство облегчило следователям средства закрыть главное преступление. Царевича погребли в Угличе.
Годунов вошёл на престол, но не долго усидел на нём. Явилась тень св. Димитрия – первый Лжедимитрий, и Борис погиб. Убит и самозванец. Шуйский взошёл на престол. Но Ляхи на место одного приготовили другого Лжедимитрия и волновали Россию. Царь Василий Шуйский решился выставить в Москве тело истинного царевича, чтобы рассеять обманы в глазах народа легковерного. С такими намерениями отправлены были в конце мая 1606 года митрополит Филарет, епископ Феодосий и четыре боярина в Углич за телом царевича. «Когда открыт был гроб царевича, так доносили от 28-го мая посланные царю, мощи оказались целы и невредимы, за исключением некоторых частей; лицо, волосы на голове, на костях плоть – невредимы; в левой руке тафтяная ширинка, саван, камчатый кафтанчик, сапожки, орехи в пригоршне – всё цело»; тогда же разные больные получали исцеление при гробе царевича Димитрия, о чём имеются письменные свидетельства267. Июня 3-го царь со всем двором и духовенством встретили св. мощи за городом; июня 5-го поставили их в Архангельском соборе, чтобы на другой день опустить в землю, но на другой день совершилось 13-ть чудесных исцелений, а 6-го числа 12-ть больных выздоровели при мощах царевича и – они оставлены навсегда открытыми в соборе. Тогда определили праздновать царевичу 19-го октября, 15-го мая и 3-го июня268.
Преподобного Пахомия Великого
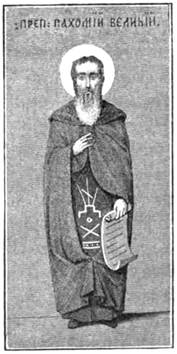
Пахомий, за высоту своей жизни получивший наименование Великого, был истинно достойно-избранным сосудом Божией благодати. Обращение его ко Христу совершилось таким образом: родом Египтянин, родившийся в семействе язычников, на 18-м году поступил Пахомий в военную службу – во время войны, бывшей между Константином Великим и Максимином (312 г.). Терпя различные тяготы, сопряжённые с передвижением войск в военное время, новобранец Пахомий был отрадно удивлён, когда встретил необычайно-приветливое обращение со стороны жителей одного Фиваидского города, через который случилось войску проходить.
– Что за жители этого города, которые снабдили нас и пищей, и одеждой, и утешили всяким добрым словом? – спросил молодой воин.
– «Это – христиане, – отвечали ему, – это такие люди, которые всегда милостивы, гостеприимны, не мстительны даже ко врагам своим и всегда служат безвозмездно, ожидая воздаяния только от Единого Бога, Живущего на небесах».
Сильное впечатление произвели на язычника такая встреча и такие отзывы о христианах, совершенно неизвестных ему до того времени... В глубине души своей он решил, что если сохранит его Бог, то по окончании войны он непременно присоединится к христианскому обществу. И действительно, как только он был отпущен, то, возвратясь в своё отечество, он поспешил обратиться к одному священнику в селении Хиновоскии, в Верхней Фиваиде и, получив от него наставление в христианской вере, принял святое крещение и причастился Таин Христовых. В ту же ночь он увидел во сне росу, падающую с неба и наполнившую ладонь правой руки его, и услышал при этом: «Уразумей, Пахомий, что это – знамение благодати, которую ниспосылает тебе Христос» ...
С сердцем, преисполненным новых, неземных чувствований, Пахомий пожелал удалиться от мира. Он отошёл в Фиваидскую пустыню и здесь, под руководством известного по строгости подвижничества отшельника Паламона в продолжение нескольких лет утвердился на иноческом пути. Тогда преуспевшему в духовной жизни Пахомию Господь указал самому быть начальником и руководителем пустынножителей.
Близ горы, где жили Паламон с Пахомием, находилась пустыня, поросшая терновником и дикими травами. Сюда часто приходил Пахомий собирать топливо и среди работы в пустынной глуши, в полном уединении, он особенно любил предаваться молитве. И во время молитвы наполняла сердце его беспредельная любовь к людям, разгорался священный порыв служить для спасения других. Такими чувствами и внушениями подготовлял его Господь для деятельности, предстоящей ему...
Ходя однажды по пустыне, Пахомий отошёл дальше обыкновенного и достиг Тавенны, места, лежащего на берегу Нила, в округе Тентирском. Здесь он остановился и предался молитве; продолжительна и усердна была молитва его и в это время осенило его вдохновение поселиться на этом месте и устроить здесь монастырь... Ангел явился ему в виде схимника и вручил уставы и правила постнического жития.
Пахомий рассказал о своём видении Паламону. Вместе они осмотрели указанное место; старец благословил действовать сообразно бывшему откровению и Пахомий переселился в Тавенну. Не вполне однако же расстались подвижники, они ходили посещать друг друга до самой минуты кончины Паламона на руках ученика своего Пахомия.
С верой предпринял Пахомий устроение монастыря; при самом начале этого дела к нему прибыл брат его Иоанн, чтобы жить вместе, но вскоре между ними произошло разногласие. Иоанну, искавшему в пустыне безмолвия и уединения, не понравились широкие замыслы брата об обширной и многолюдной обители, и он противоречил и препятствовал ему в трудах его; Пахомий же, убеждённый, что действует по указанию Божию, не мог переносить противодейстия со стороны брата и однажды, почувствовав сильное движение гнева в душе своей, готов уже был отвечать брату взаимной укоризной, как вдруг сознал своё увлечение гневом и, затворившись с своей кельи, всю ночь провёл в слезах, скорби, что предался дурному чувству, и с сокрушением взывая к Богу: «Вижу, Господи, что мудрость плотская ещё владычествует во мне... Горе мне, в течение долгой жизни в пустыне не выучившемуся укрощать свой гнев! Как дерзну я руководить других, когда сам себя не умею побеждать?» И с того времени не стал спорить с братом, уступая ему во всём до конца его жизни. По смерти же его приступил к устроению монастыря. Мало по малу к нему стали собираться ученики; пока их было немного, Пахомий принял на себя все заботы о монастыре, чтобы ученики его, свободные от внешних забот, легче сосредоточивались и совершенствовались во внутренней жизни. Пахомий сам приготовлял всё необходимое для трапезы братии и всегда во всём был слугой своих учеников, предоставляя им только отраду делания духовного. Ученики дивились его подвигам, его любви, смирению и сохраняемой среди беспрерывной внешней деятельности собранности духа. Часто выражали они желание разделять их труды, но Пахомий возражал им: «Оставьте меня, разве следует жалеть о воле, который вертит колесо?» Таким образом, примером своим назидал Пахомий своих учеников, как совмещать внешнюю деятельность с созерцательной жизнью.
Пахомий заботился не об одних своих учениках: узнав, что многие окрестные пастухи лишены счастья слышать слово Божие и причащаться св. Таин, он с согласия епископа Тентирийского выстроил для них церковь. Сам приходил к ним, чтобы наставлять их, и делал это так применительно к их сердечному пониманию, что даже многие язычники вразумлялись его беседами и принимали крещение в веру Христову.
Слава Пахомия распространялась и привлекала к нему множество учеников. Тогда Пахомий, положивший основание монашескому общежитию269, составил строгий монастырский устав, по которому монахи должны были жить в одном монастыре под начальством настоятеля, называвшегося аввой, т. е. отцом, или архимандритом, занимаясь молитвой и работой (земледелием, плетением корзин и циновок). Этот устав сделался впоследствии образцом уставов для других монастырей. Он был написан на Египетском языке, и в 404 году переведён блаженным Иеронимом на Латинский язык по верному Греческому списку.
Главными правилами для братии по этому уставу были: безусловное послушание и нестяжательность; при этом – труд, сопровождаемый молитвой. Во время работы иноки должны были соблюдать молчание; таким образом и при общежитии каждый мог вместе с тем быть и уединённым и безрассеянно держать в уме своём молитву. Поступая в монастырь, никто не должен был делать никакого денежного взноса и должен был отречься от всякой собственности; для содержания же обители все должны были одинаково трудиться. В скором времени пожелавших подчиниться руководству Пахомия было так много, что их пришлось расселить по нескольким монастырям (некоторые из прежде основанных монастырей поступили также под его управление): в каждом из них был особый настоятель; общим же руководителем и образцом для всех был Пахомий. Всякий вечер перед молитвой на ночь он беседовал с иноками и деятельно, неуклонно вёл их по пути совершенствования.
Общество Тавеннское состояло из девяти отдельных общежитий, в которых было до 7,000 монахов.
На другом берегу Нила основал Пахомий женский монастырь; это случилось по следующему поводу. У Пахомия была в мире сестра, которая, слыша рассказы о чудной жизни своего брата, пожелала видеть и посетить его в Тавенне; узнав о прибытии её, он послал через привратника сказать ей, что он – жив и чтобы она не оскорбилась решением его уклониться от свидания с ней, но что если она хочет подражать его жизни, то он займётся построением особой кельи для неё... Поражена была сестра подвижника этим неожиданным предложением, но вместе с тем и тронуто было сердце её и загорелось желанием последовать совету брата. Тогда, избрав место для обители, называвшееся Мен, Пахомий велел братиям построить ей келью и не большую обитель вдали от мужского монастыря и постриг сестру свою в инокини. Когда собрались вокруг неё другие отшельницы, то Пахомий и им дал почти одинаковый с своим монастырём устав, и таким образом был основателем общежития и для инокинь.
В непродолжительном времени сестра его сделалась достойной духовной матерью для вверившихся ей инокинь. Слава о подвигах Тавеннских инокинь распространилась, дошла до Запада и в Риме пробудила решимость на подвиги девства даже в знатнейших женщинах, как напр. богатая вдова Маркея (о которой писал блаженный Иероним).
О монахах же Тавеннских Кассиан говорит: «хотя их было так много под руководством одного начальника, но они так покорны были ему в продолжение всей жизни, как и один здесь (на Западе) не был бы в продолжение даже немногого времени». И «эта покорность и послушание – таковы, что мы в своих монастырях не видывали никого, кто бы мог подражать им в течение только одного года».
Одним из главных занятий Тавеннских монахов было рукоделие. Между ними были всякого рода ремесленники, нужные для содержания общества. Занятия их, по словам Палладия, состояли в том, что «один возделывал землю, другой работал в саду, кто – на кузнице, на мельнице, в кожевне; иные ходили плотничать в мастерскую, иные валяли сукна, другие плели разного рода и величины корзины».
Для перевозки товаров и для привоза из Александрии у общества Тавеннского было своих два судна. – Иногда начальник водил нескольких монахов на острова Нила и на гору, чтобы собирать тростник для делания циновок и корзин, или рубить деревья, или чтобы запастись травами, которые солили для пищи иноков, и в таких трудах они проводили до 15 дней.
В Тавенне строго соблюдалось гостеприимство. Проходивших клириков или монахов принимали почтительно, обмывали им ноги, помещали в приёмных домах, устроенных близ ворот монастырских. Православным из них позволялось присутствовать и при Богослужении.
«Пахомий принимал в монастырь и детей, с той целью, чтобы дать им воспитание в духе христианского благочестия». «Мы должны иметь особенное попечение о детях, – говорил преподобный, – так повелел нам Господь: тогда можем надеяться, что Он будет милостив и к нашим душам».
Не щадил трудов своих и мудро управлял Пахомий многочисленной братией, число которых иные полагают до 10,000. Сверх того, ко дню Пасхи, как говорит блаженный Иероним, собиралось до 50,000. – Пахомий имел все качества, нужные для руководителя: высшее призвание, просвещение и чрезвычайные дары благодати. Отличительными чертами его были кротость и снисходительность. Беседа его с учениками была беседа отца с детьми. Когда беседа эта и наставления не достигали желаемой цели, то любовь его к несчастным разгоралась до высшего предела и находила исход только в молитве за них: «Господи! – взывал он всей душой, – Ты повелел любить ближнего, как самого себя; молю Тебя, помилуй этих слепцов! Воззри на них милостивым оком Твоего милосердия, помоги им проникнуться искренним раскаянием, всели в них страх оскорблять Тебя и любовь к своим обязанностям и стремление – в Тебе Одном полагать все своё счастье и надежду!»
Сам Пахомий охотно принимал наставления от кого бы то ни было. Раз в Тавенне он вместе с братией плёл циновки. Мальчик, бывший при этом, сказал, что он не так делает. «Так покажи мне, дитя, – сказал Пахомий, – как надо делать?» Тот указал и Пахомий поблагодарил его270.
При всех своих добродетелях преподобный считал себя великим грешником. На власть свою над другими он смотрел не иначе, как на обязанность служить всем271, – и не терпел никакого отличия от других для самого себя272.
Влияние такого руководителя, служившего вместе с тем и образцом святости, не могло не оказаться в высшей степени благотворным, потому и общество Тавеннских монахов представляло образец достижения духовного совершенствования, – и хотя большая часть иноков была из простых поселян, необразованных и малограмотных, все они тем не менее «были полны мудрости Божественной, которую почерпали в слушании и исполнении Священного Писания и в просвещающем влиянии на них великого Пахомия». – Из монастыря Пахомий многие иноки заняли впоследствии епископские престолы.
Руководя людей ко спасению, Пахомий старался умерять в иных порывы к особенным подвигам, побуждение к которым прозорливо объяснил он в некоторых случаях тщеславием... Так однажды не одобрил он в одном иноке желания мученичества за Христа. Но, когда этот инок, при страхе мучений, отрёкся от Христа, Пахомий не отверг его, обнадёжив его упованием на беспредельное милосердие Искупителя273.
Зорко следил опытный в духовном ведении наставник, чтобы чрезвычайные состояния облагодатствованных душ, сверхъестественные дары чудотворения и прозорливости не повредили смирению получивших дары эти, – и сам не смущался, когда исполнялась молитва его о чём-либо: «Для нас – всего полезнее то, что даёт милосердие Божие, – говорил он, – а наши просьбы, хотя и с чистым намерением приносимые, может быть, неприятны Богу»274.
Невидимое чудо исцеления души Пахомий учил предпочитать видимому чуду исцеления телесного. «Какое чудо выше, – говорил он, – исцелить ли слепого, или просветить помрачённого тьмой идолослужения? Я не знаю высшего чуда, как удержать язык от празднословия, душу от гордости, лености и всех пороков, и заставить человека по милосердию Божию переменить жизнь, исправить худые привычки».
На вопрос, сделанный однажды Пахомию одним иноком относительно видений, он отвечал: «Такому грешнику, как я, не позволено желать иметь видения. Я восстал бы этим против воли Божией и впал бы в обольщение. Но вот самое чудесное видение: если ты увидишь лицо человека, в котором отражается чистота и глубокое смирение сердца; ибо какое лучшее видение, как видеть невидимого Бога обитающим в человеке, как в своём храме?»
Велика была слава монастырей Пахомия при его жизни, и 50 лет спустя иноки Тавеннские ещё отличались строгостью жизни, но со временем исчез в них дух прежнего подвижничества, и прозорливость Пахомия предвидела это... Но когда, однажды, в сокрушении духа молился он, чтобы Господь предупредил и отвратил упадок духовной жизни в основанных им обителях, то его посетило чудное утешение: Иисус Христос явился ему в видении и сказал: «Семя твоё духовное не оскудеет до конца века. А из тех иноков, которые будут после тебя, многие явятся высшими нынешних иноков, потому что без руководителей спасутся; иные спасутся через напасти и скорби и явятся равными великим святым» ...
И действительно, хотя не осталось почти и следа обителей Пахомиевых, но духом иночества проникнутый устав его руководил и руководит поныне благочестивых последователей его пути; и семени, посеянному им, – не истощиться вовек...
Преподобный Пахомий скончался мая 9-го 348 года от заразительной язвы, открывшейся в его монастырях. За два дня до смерти он созвал начальников и строителей монастырей и сказал им: «Чувствую, что конец мой приближается. Помните, что я вам внушал. Будьте добры в молитвах и рассудительны во всех действиях. Не имейте общения с приверженцами Мелетия, Ария, Оригена. Сближайтесь только с теми, которые боятся Бога и могут принести вам пользу и душевное утешение своей беседой. Изберите между вами человека, который правил бы вами по духу Божию».
По желанию братии, он сам однако же назначил в преемники себе Петрония, а любимому своему ученику Феодору поручил попечение о ленивых из братии.
«Муж человеколюбивейший и весьма любезный Богу, так что мог предвидеть будущее и часто беседовал со святыми ангелами...» говорит о преподобном Пахомии Великом его жизнеописатель IV века, писавший со слов его учеников.
Преподобного Силуана, ученика преподобного Пахомия Великого
Не должно быть пределов той осторожности, которую следует применять к мерам, карающим человека за его преступления или проступки, – и много существует примеров, доказывающих, что снисходительность и долготерпение доводили виновного человека до полного душевного спасительного переворота. Было бы только представлено ему время раскаяться и бодрствовала бы только над ним любовь, которая «милосердствует, не раздражается, всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит, никогда не перестаёт»... (Посл. 1Кор.13:4,5,7,8).
Один из примеров благодатного обращения, произведённого терпеливой любовью и крайней терпимостью, представляется в жизни воспоминаемого сегодня преподобного Силуана. – Он принадлежал к сословию комедиантов, но впечатлительной природе его не чужды были разнообразные стремления. Слава подвижничества современных монахов пробудила в нём желание причаститься к их жизни; поэтому он пришёл к общему отцу и руководителю в иноческой жизни – Пахомию и просил принять его в число учеников. Пахомий представлял увлекающемуся юноше все трудности этого пути, но, видя его ревностную готовность посвятить себя иноческой жизни, принял его в свою обитель. Несколько времени действительно с большим усердием исполнял свои новые обязанности молодой Силуан, но затем ревность его охладела, прежние, иные расположения, подавленные временно, пробудились вновь и начали действовать с возобновлённой силой. Рассеянность его, неуместная для инока шутливость, сопряжённая с глумлением и празднословием, развлекали и других и, служа посмешищем, Силуан производил соблазн среди сосредоточенной, сурово-строгой жизни иноков. Не раз Пахомий старался возбуждать в нём подобающее монаху настроение. Юноша на-время исправлялся, но потом снова рассеявался, ослабевал и увлекался вовсе несвойственным на его новом поприще образом действий. – Наконец старшие братия стали настаивать на том, чтобы Силуан был удалён из обители, и Пахомий, обличив при всех неправильность жизни недостойного инока, объявил ему, что он должен оставить монастырь. Тогда заявило себя в душе юноши преобладающее духовное стремление. С отчаянием припал он к ногам Пахомия и умолял не выгонять его, обещая, что совершенно исправит жизнь свою. Трудно было Пахомию поверить искренности несколько раз уже не оправдавшихся обещаний... но один из его лучших учеников – Петроний не мог вынести зрелища скорби сокрушённо-раскаивающегося брата; сострадательная любовь внушила ему доверие к его порыву, и он поручился за него, и просьбами своими удержал несчастного в обители на своём попечении.
И не ошиблась чуткая, вещая любовь. Силуан как бы преобразился. Смиренное сознание своей виновности так глубоко проникло его душу, что он не смел подымать глаза на братий; вместо празднословия он почти замолк и приник до такой степени, что без позволения не дерзал срывать травку... Обильные слёзы выражали умилённое и сокрушённое состояние его духа, – и ревность его не ослабевала. Утомясь иногда в поздние часы дня, он садился на полу своей кельи и ещё трудился над плетением циновок.
– «Могу ли не плакать я, – говорил он братии, – когда святые иноки прислуживают мне, тогда как я должен лобзать сам прах, попираемый ими... Я из комедиантов принят в число подвижников, познал истину, и до того вознерадел о своём спасении, что едва не выгнали меня из монастыря... Я страшусь, чтобы не разверзлась подо мною земля и не поглотила меня. Я вижу неизмеримость моих грехов и готов отдать жизнь, только бы получить прощение» ...
Видя такое искреннее покаяние, Пахомий признал и засвидетельствовал перед всеми его высоту. И Сам Господь прославил драгоценнейшее для Него – покаяние человека... Когда через восемь лет Силуан скончался, то преподобному Пахомию было открыто в видении, как множество сил небесных сретало душу его и представило к Господу, как жертву избранную и плод победы любви над грехом.
* * *
Примечания
Луг духовный гл. 143.
Нестор в житии Феодосия; ркп. житие св. Исаии в минее Макария; в кратком и распространённом виде издано оно в правосл. собеседнике 1858 г. I, 434–450. Здесь сказано, что св. Исаия поставлен в игумена в 1062 г., но преп. Варлаам скончался в 1065 г., см. о нём 19 ноября.
Нестор – там же; Поликарп о Никите. В ркп. житии сказано, что св. Исаия посвящён в епископа в 1077 г. митр. Иоанном. Но ни то, ни другое не верно. Иоанн был митрополитом 1080–1089 г., а в 1068–1079 г. был митрополитом Георгий.
Собр. л. I, 74–77. 5, 143–145. 7, 338–340. Руднева ист. ересей и расколов Рус. Цер. 7–25. Μ. 1838 г. Летопись поставляет событие под 1070 г. Но оно рассказано здесь по связи с другим подобным. Ян, сын тысяцкого и сам тысяцкий, мог собирать дань именем Святослава на Белоозере только тогда, как Святослав 1073 г. сел в Киеве, взяв Белоозерскую и Ростовскую области взамен Черниговской, отданной Всеволоду.
Ростовско-Суздальское княжество заключало в себе губернии: Ярославскую, Владимирскую, Нижегородскую. Костромскую, Вологодскую, части Олонецкой, Тверской и Московской.
Житие св. Исаии в собеседнике стр. 439. Пролог мая 15 д.
«Разжигаемый любовью Божией, более чем огнём, ты, отче, обходил города и сёла в Ростовской и Суздальской области, разорял идольные капища, созидал церкви и научил народы петь: слава силе Твоей, Господи!» (Песн. 4). «Благодатью Св. Духа ты до конца истребил оставшееся в Русской (Ростовской) земле идольское нечестие и явился крепким поборником православия» (Пес. 3). Эта служба составлена или поправлена при ц. Иоанне, так как молятся в ней за царя. Минея на май, Μ. 1646 г.
Минея на май, Μ. 1646 г.
О пр. Алипие 17 августа.
Собр. л. I, 89. Симон о освящ. Печер. ц. и о трапезе. Житие св. Исаии.
Пролог 15 мая. Здесь сказано: «преставися в л. 6597 (1089), на второе лето по освящении церкви Печерской·. Ошибка в годе. Ркп. святцы: «преставися в л. 6597; обретены же быша мощи его в л. 6672 (1164) м. мая в 15 д.». День кончины – неизвестен.
Ркп. житие; Никои, л. II, 191. Житие св. Леонтия.
Собр. л. 1, 220. Кирилловская летоп. Синод. б. № 351.
Ркп. житие св. Исаии. В Несторовом житии пр. Феодосия после приведённых нами слов о св. Исаии, читается по спискам; «и тамо со святыми чтут его, прият бо от Бога чудотворения дар». Эти слова важны как отзыв древности о св. Исаии; но они не принадлежат пр. Нестору, жившему не далее 1115 года. Причтение Исаии к святым последовало в 1164 г. По ркп. житию: «архиепископ соборной церкви, видя, что образ св. Исаии все почитают и покланяются ему, а гроб его (в притворе собора) в небрежении, созывает 17 мая священников и касается чудоносного гроба пречудного отца, преносит оттуда в 1274 г. и полагает в новом гробе с честью, близ южных дверей, где и ныне он подаёт исцеление». Первым архиепископом Ростова был в 1390 г. Феодор; след. полное житие написано в XV в., а не в ХIII, как полагает издатель. Память св. Исаии в святцах устава XVI в. у Толстого I. № 113.
Минея на май, Μ. 1646 г. Ркп. служба св. Исаии – у Царского № 563, у Румянц. № 397.
Опис. Киевск. лавры стр. 110. 290.
Пролог 15 мая. О пр. Евфросине писал охотник до сонных грёз о. Василий; описание его написано самым высокопарным слогом, до того, что по местам не доищешься смысла в словах. Оно в ркп. XVI в. Синод. б. № 634.
«Вселися безмолвствовати наедине в л. 6933». Так сказано в списке жития Моск. дух. акад. № 205.
Стихира службы в минее на май, Μ. 1646 г.
Иер. Иосифа опис. Елеаварова монас. СПб. 1853 г., стр. 15.
А. э. I, № 108.
Устав пр. Евфросина, состоящий из 25 глав, помещён в минее м. Макария, под 15 ч. мая.
Служба пр. Евфросину на 15 мая в минее, Μ. 1646 г.
Так по ркп. святцам, сл. пр. Евфросину на 15 мая.
Ркп. святцы: «пр. Доснфей, игумен Верхнеостровский, преставился в л. 6990 окт. 8 д.». Словарь святых, СПб. 1836 г. стр. 99.
Послание, писанное в 1505 г., изд. в чт. общ. ист. 1846 г. По рук. житию Игнатий рукоположен архиеп. Иоанном, что не могло быть, а разве арх. Евфимием I (1423–1430) … Что касается до того, что будто пр. Евфросин защищал сугубое аллилуия и ходил для неё в Константинополь к патриарху, то рассказ о том Василия не стоит никакого доверия, по еретическим бредням и по противоречиям истории и хронологии. Подробно показано это в ист. Рус. Ц. 3, 180–187 и в Христ. чт. 1853 г. Святитель Димитрий писал: «Евфросин святой – свят; а аллилуия его не мню быти свято: как хотелось кому, так и бредили без ума; разве кто невежа имеет веру такой лже». Румян. муз. № 407.
Пролог мая 15. Святцы: «пр. Евфросин, игумен Тресвятительского монастыря, иже на Толве р., преставися в л. 6989 м. мая 15 д.»
Казан. л. у Карамз. 9, пр. 741.
Морозов. л. у Карамз. 10, пр. 9. Палицына сказ. об осаде стр. 3.
Степ. кн. Латухина; Никон. л. VIII, 4. 5.
Карамз. 10. пр. 147.
Польские дела у Карамз. 10. пр. 159.
Палпцын об осаде гл. 5.
Кроме летоп. о мятежах и нового летописца, Палицын: «ласкатели и великих бед замысленницы, в десятерицу лжи составляют подходят к Борису и от многия смуты ко греху низводят».
Следственное дело о смерти царевича в собр. гос. грам. 2. № 60. И здесь видим в Угличе Битяговского с его шайкой. Прямее же показывают дело летописи.
Следственное дело в собр. грам. 2. 60.
Следственное дело, подробно разобранное мной в исследовании о смерти царевича, нап. в I кн. чтен. общ. ист. Μ. 1848 г. Здесь для примера указывается на некоторые улики нечистой совести следователей. Они заставляют многих говорить, что царевич закололся ножом. Но не спросили никого: где девался этот нож? да и видел ли кто его? Григорий Нагой обедал у себя в доме и, побежав по звону колокола, застал царевича живым; а Андрей Нагой обедал во дворце и, выбежав на крик: «царевича зарезали», нашёл его уже мёртвым, на руках кормилицы. Ясные противоречия и недомолвки и их не старались объяснить, опасаясь услышать ещё что-нибудь более неприятное. См. ещё пр. 261. 262.
П. Иов в грам. 1606 г.: «прият заклание неповинно от рук изменников своих». Палицын стр. 3, п. Гермоген в сказ. об убиении царевича, сочинитель Филаретовой рукописи, новый летописец стр. 35. Μ. 1853 г. говорят то же. По словам Морозовской летоп., сами убийцы перед смертью показали, что они исполнили волю Годунова. Киссель в истории Углича указывает ещё на 5 Угличских летописей почти современных смерти царевича.
Бер: «подкупленные им (Годуновым) несколько человек зарезали царевича на том самом месте, где он обыкновенно игрывал», стр. 4. Паэрле стр. 2. Маржерет стр. 129. То же дипломатические акты Польши. См. в исследов. о смерти св. царевича стр. 6–11.
Извест. грамота в собран. грам. 2. № 147.
Извест. грам. Шуйского (пр. 259); рукопись Филарета и Карамз. 12, пр. 24. Четыре ореха, найденные в руке убиенного, нетленного царевича, доселе хранятся в Угличском храме св. царевича, что на крови, построенном ц. Михаилом. Они положены здесь в серебряном складне вместе с землёй, омоченой кровью царевича. Русская Старина I, 69.
Кроме летоп. и следств. дело показало, что кроме Андрея не было во дворце ни Михаила, ни Григория Нагих и что с царевичем была Волохова и кормилица Ирина Жданова.
По следств. делу, и именно по показанию Волоховой, царица первая произнесла имена убийц. Но она не была свидетельницей несчастия. Следов. она услыхала об этом от кого-нибудь! Кто же это такой? Следователи не показали, но показывает дело. Царица так определённо показывает трёх убийц – Давилу Битяговского, Качалова и Волохова, но не назвала Михаила Битяговского, главного врага её братьев и её самой. Итак, дело показывает, что летописи правы, говоря, что кормилица Жданова кричала о убийстве и убийцах, а в следствии это скрыто, на место же того выставлено показание о болезни царевича. Впоследствии продажную Волохову наградили имениями, а Жданову заключили в оковы.
В следственном деле несчастный пономарь, избегая бед, совсем запутался в показаниях. По его словам, соборный сторож Кузнецов первый начал звонить; его же, пономаря, заставил звонить стряпчий двора, Протопопов, и ударил в шею, сказав, что приказала звонить царица и что это приказано при Григории Нагом. Нагой показал, что Протопопов при нём не давал приказания, а сам пономарь говорил ему о приказании Протопопова и о том, что «прибегал к нему (пономарю) Михаила Битоговский и он заперся, на колокольню его не пустил». Протопопов показал, что Михайла Нагой, приехав на двор, приказал ему звонить в колокола и он приказал пономарю. Но Нагие повторяли, что они сами прибежали на звон колокола. И это вполне несомненно. К тому же, если по словам пономаря звон уже происходил, – уже звонил сторож Кузнецов, то не для чего было Протопопову толкать пономаря в шею и заставлять звонить. Следователи, не обратив внимания на путаницу в показаниях, не потребовали даже Кузнецова к ответам. Так и здесь само дело оправдывает показание летописей, что пономарь сам видел убийство и поспешил ударить в набат.
Грамота царя в собр. гос. грам. 2. № 147. Грамота царицы в собр. гр. 2. № 148. То же в рукоп. Филарета у Карамз. 12. пр. 23–25. Шапочка царевича, суконная, с жемчугом и каменьями, – в Архангельском соборе. – Древн. Росс. гос. II, 25. 26.
Те же грамоты в собр. гр. 2. № 147. 148. Рукп. Филарета у Карамз. 12. пр. 25. Новый летоп. стр. 77. Μ. 1853 г. Служба св. царевичу на 15 мая – у Толстого 2. № 190. Празднования 3 июня и 19 окт. отменены в 1768 г. Православное обозрение 1861 г. I, 299.
Положивший начало иноческой жизни Антоний Великий так говорит о введении Пахомием устава общежития – ученику его Закхею: «Вначале, как стал я монахом, не было ни одной киновии для воспитания других; но каждый из прежних монахов, после гонения, подвизался собою. После того, отец ваш устроил это благое дело при помощи Божией. Ещё прежде его хотел учредить то же другой, по имени Аот, но так как не от всего сердца старался, то и не получил желаемого. Великую же услугу оказал Пахомий, собрав такое множество братий».
Vita Расе. п. 55, 62, 17, 33, – как указыв. в «Истор. правосл. монаш. на Востоке», П. Казанского (ч. I).
Там же.
Там же.
Paralip. Pach. n. 10. 11.
Vita Pach, n. 58.
