V. Америка. Проф. д-р Конрад Геблер
1. Американские первобытные народы
А. Общий очерк
Вопрос о том, как пришли первые люди в Америку, издавна занимал ученых и неученых, давая им обильный материал для размышления. Иные не могли себе представить, чтобы мог существовать материк с бесчисленными разнообразными народностями, для которых не находилось места в таблице народов книги Бытия. И так как они не могли придумать ничего лучшего, то остановились на предположении, что речь идет здесь об исчезнувших десяти коленах Израиля. Это наивное воззрение косвенным образом оказало услуги самой науке, так как побудило некоторых интеллигентных наблюдателей заняться обстоятельно изучением нравов и обычаев американских индейцев в надежде открыть при этом аналогии, которыми можно было бы воспользоваться, как доказательствами.
Несравненно больший отпечаток научности носит другая гипотеза о происхождении американцев. Сказочный мир островов на западном океане, древнейшим свидетельством которого является легендарная Атлантида Платонова Тимея, оказал непосредственное влияние на открытие Нового Света, так как сам Колумб был проникнут этой легендой. До сих пор трудно решить, лежит ли в основании ее какой-либо исторический или доисторический факт. Но есть люди науки, которые отвечают утвердительно на этот вопрос и допускают, что первые люди проникли на американский материк, как по мосту, через цепь островов Атлантического океана. Правда, новейшая наука не относится к этому вопросу с такой наивностью, как старый испанец, который на этом основании признает кельто-иберийское происхождение индейцев. Погружение материка между Европою и Америкою в такое время, когда наша часть света была обитаема народами, следы которых еще не исчезли, во всяком случае оставило бы на побережьи обоих пограничных материков известные признаки, и эти признаки едва ли могли бы ускользнуть от усовершенствованных методов исследования земной поверхности. Попытка восстановить контуры гипотетического материка по подводным утесам и мелям Атлантического океана есть также бесплодная забава. С другой стороны, авторитетные геологи считают доказанным, что северная часть Атлантического океана не всегда была под водою, и что в те времена, когда климатические условия нашей части света представляли существенно иную картину, чем в историческую эпоху, человек проник этим путем из Старого Света в Новый.
Наконец, существует еще третья гипотеза относительно заселения Америки. Она, пожалуй, была бы самою простою, если бы та же наука, которая допускает возможность сухопутного моста на севере Атлантического океана, не исключала ее. Нигде материки Старого и Нового Света не сходятся так близко, как на северо-западе Америки, где массы суши разделяет лишь узкое водяное пространство Берингова пролива и где Алеутские острова дают возможность переправиться с одного материка на другой даже лодочнику, обладающему самыми первобытными приспособлениями. Во все времена случалось, что ветер относил суда обитателей азиатского побережья до самых берегов Аляски, и переселение в этом направлении, еще в пределах исторической эпохи, составляет почти исторический факт. Сходство первобытных обитателей Америки с монгольскими народностями, некоторые этнологические черты народов тихоокеанских штатов Америки, напоминающие такие же черты у азиатских культурных народов, долгое время давали этой гипотезе много приверженцев. В рассказах о стране Фу-шан видели прямое доказательство в пользу сношений китайцев с Америкой и на этом смело строили гипотезу, будто ацтекская культура есть лишь отпрыск китайской. Однако, подобные выводы не могли выдержать строгой критики. Во всяком случае, этот путь заселения Америки не распространяется на все то время, с какого мы сами находимся в общении с древнейшими китайцами. И если правы геологи, утверждающие, что дальний северо-запад выступил над водою лишь после ледниковой эпохи и что раньше волны Тихого океана достигали северного полюса, то первые обитатели Америки проникли туда, без сомнения, не этим путем, так как в ту пору в земле «Нового Света» покоились уже кости многих поколений.
С тех пор, как удалось доказать, что человеческий род на американской земле может быть прослежен до тех же геологических эпох, как и в Старом Свете, вопрос о том, откуда пришли туда первые люди, в значительной мере утратил прежнее значение. Без сомнения, Америка не может считаться колыбелью человечества. Одним из доводов против этого служит то, что человекообразные обезьяны, которых учение о постепенном развитии не может не признать связующим звеном между животным миром и человеком, никогда, как и ныне, не были там туземными; это подтверждается ископаемыми находками всех американских раскопок. Но как скоро первые люди перебрались в Америку в такие периоды, когда распределение суши и воды на поверхности земли было совершенно иным, чем в пределах исторических эпох, то ответа на поставленный нами вопрос можно ожидать разве когда-нибудь от геологии. Такой скорее отрицательный результат имеет, тем не менее, безусловно научное значение. Он доказывает, что неправы те, которые усматривают в нравах диких и цивилизованных народов Америки влияния определенных этнографических единиц, соответствующих нашим понятиям. Как скоро первый человек в Америке был уже обитателем ее в то время, когда товарищ его в Старом Свете, наравне с животными, обгрызал кости убитой дичи и когда единственный кров его составлял естественные пещеры в горах, то не может быть уже речи об арийском или семитическом происхождении американских культур. Наоборот, палеонтология и история Нового Света неопровержимо доказывают, что развитие этих последних от времен мамонта и вплоть до открытия Христофором Колумбом шло непрерывно и независимо от влияния внешних воздействий.
Для исследователя в области первобытной истории человеческого рода Америка представляет столь же высокий интерес, как и для геолога: памятники прошлого, оставившие в Старом Свете лишь жалкие, часто стертые следы, здесь сохранились до последующей эпохи, которая, хотя и не обладала усовершенствованными методами исследования нашего времени, тем не менее, оставила потомству, в своих описаниях и памятниках, несравненно более богатый материал, чем Старый Свет. Мы находим там разъяснения относительно явлений и состояний первобытной человеческой истории, которых напрасно будем искать у нас. Даже наиболее развитые культурные народы Америки находились в эпоху открытия только в начале медного века; большинство же обитателей Нового Света еще всецело жило в каменном веке.
Одно время американцы утверждали, будто они нашли в раскопках человеческие кости из слоев третичной эпохи; однако они также мало представили научных доказательств в пользу этого, как и те, которые говорят об аналогичных находках в Старом Свете. Но там, как и здесь, были открыты человеческие остатки, принадлежащие межледниковому периоду. Эти находки, хотя и немногочисленные, не ограничиваются узким пространством, но встречаются и в горных местностях Калифорнии, и в обширных равнинах Аргентинских пампасов. И в Америке человек был современником мамонта и других доисторических, исполинских видов животных, а позднее, но все еще в пределах доисторического периода, Новый Свет обладал населением, которое местами было даже довольно значительно. В пользу этого говорит большое количество и необычайное протяжение куч отбросов доисторического человека, известных под названием кухонных куч (Kjökkenmöddinger). Эти холмы из отбросов попадаются в Северной и Южной Америке, как на морских побережьях, так и у внутренних озер и по берегам больших рек; помимо своего научного названия, они слывут на севере под именем shell-mounds, на юге – sambaquis. Они состоят из скоплений несъедобных частей рыб и других водяных животных, особенно моллюсков, и, само собою разумеется, содержат, кроме этих отбросов, еще обломки предметов, которыми пользовались люди, жившие в этих стоянках. Несомненно, что они принадлежали преимущественно древнейшей, палеолитической человеческой культуре; но с другой стороны, не следует упускать из виду, что попадаются отбросные холмы, которые принадлежат не только неолитическому периоду – дикий индеец на востоке Южной Америки до сих пор не переступил пределов его – но, без сомнения, даже исторической эпохе.
Сколько требовалось людей и времени для того, чтобы нагромоздить эти холмы, имеющие часто сотни футов в длину и значительную вышину, – для определения этого мы пока не располагаем надежным мерилом. Едва ли, однако, можно допустить очень медленное образование их, так как в этом случае, вероятно, дело не дошло бы до образования скоплений, противостоявших стихиям целые тысячелетия, особенно на морских берегах. Это дает нам право с несомненностью заключить, что большое протяжение и далекое распространение описываемых холмов свидетельствуют о существовании на американском материке, уже в доисторическую эпоху, густого народонаселения на обширном пространстве. Этот факт особенно важен при оценке истинного значения гипотезы относительно культурных влияний народов Старого Света на обитателей Нового Света. Если Америка, в то время, когда Азия и Европа обладали еще исключительно некультурным населением, была уже совершенно одинаковым образом обитаема людьми, то, в виду географических условий материка, мы лишь в том случае имели бы право прибегнуть к внешним влияниям для объяснения культурных явлений, когда допущение независимого развития оказалось бы недостаточным для этого.
Если бросить взгляд на американский материк, во всей его совокупности, при вступлении его в историческую жизнь, то он представляет поразительное доказательство в пользу чрезвычайно сильного влияния географического положения на развитие человеческой культуры. Сравнительно узкая береговая полоса, которая тянется вдоль западной подошвы Кордильер, этого позвоночного столба Америки, как их метко назвали, вместе с террасами, по которым хребет быстро достигает значительной высоты, была почти на всем своем протяжении, начиная от Аляски и вниз до Чили, местопребыванием культурных и полукультурных народностей. По крайней мере, эти народы, по уровню своей цивилизации, значительно превосходили средний культурный уровень населения широких равнин и обширных низменностей, по которым, на восточной стороне Кордильер, величайшие реки земли несут к морю свои воды. Здесь находились оба великих культурных центра, Перу и Мексика, из которых последний пересекал американский континент, близ самого узкого места его, от одного океана до другого. В обширнейших территориях к востоку от Кордильер, составляющих целых три четверти всей площади материка, человек еще в начала XVI столетия стоял на ступени культуры, близкой в Северной Америке к первобытному состоянию, а на южном материке не замечалось следов и такой культуры. Остроумный парадокс, будто голод есть отец всякого прогресса, так как он вынуждает человека к борьбе с окружающею средою, едва ли где находит более поразительное подтверждение, чем в Южной Америке: здесь перуанец, отыскивающий средства к жизни в своей горной стране лишь при помощи упорного труда, создает одно из величайших государств всемирной истории; а восточный сосед его, утопающий в роскоши и богатстве тропической природы, бродит в таком состоянии, в каком он не сознает даже принципиального различия между человеком и животным. Правда, не одни только щедроты природы удерживали индейца на низшей культурной ступени, но и другие, менее благоприятные влияния. В обширных равнинах, сопровождающих могущественные реки до отдаленных верховьев, сама природа препятствовала оседлости человека, которая составляет одно из необходимейших условий для развития культурного прогресса. Наводнения, повторявшиеся с периодическою правильностью и затоплявшие на недели и месяцы страны на протяжении многих квадратных миль, побуждали индейца с такою же правильностью покидать и отдавать на разрушение свой шалаш, разбитый не очень далеко от ручного берега, в виду необходимости питаться рыбою. Правда, он был неутомимый пловец, энергичный гребец, искусный рыболов; но, тем не менее, тело его, как и дух, не могло тесно сростись с землею, на которой он жил, и вода, сносившая его непрочную хижину, сглаживала вместе с тем в уме его воспоминания о том, что было раньше.
Историческое исследование долгое время стояло беспомощно перед проблемою этих первобытных народов. Прежде всего оно стремилось выделить из бесконечной массы народов и народцев группы, находившиеся в более тесном родстве между собою. Однако, и здесь встречались на пути величайшие затруднения. Пробовали воспользоваться, как отличительным признаком, внешними чертами туземцев, цветом кожи, формами черепа и тела. Оказалось, однако, что народы различного цвета кожи представляли несомненные признаки родства, и в то же время один и тот же цвет и форма повторялись у совершенно различных народов. Измерения черепа обнаруживали часто среди индивидуумов одного какого-нибудь мелкого племени все градации от долихо- до брахицефалии. Не более пригодными, чем антропологические признаки, найдены были этнологические особенности. Дикий индеец оказался в гораздо большей степени продуктом окружающей среды, чем сыном своей расы. То же племя, которое в гористой стране особенными образом одевалось, строило свои дома и хоронило мертвых, в другом месте и при иных условиях заимствовало у своих новых соседей более приспособленные к ним нравы и обычаи. Таким образом, и эти признаки, не лишенные значения в единичных случаях, оказались недостаточными для установления научного подразделения в хаосе народных племен.
Единственным, сколько-нибудь надежным руководителем является до сих пор одна лишь лингвистика. На данных, добытых при помощи ее, зиждется, для южной Америки почти исключительно, то немногое, что нам известно об исторических явлениях (лучше сказать, фактах) у этих народов. Нецивилизованный индеец ничего не знает об истории своего племени. Ему редко знакомы более, чем имена и, быть может, жилища его отца и деда в местах, не подверженных наводнениям. Уже через несколько поколений воспоминание о дальних странствованиях превращается в неясное предание, и точные исторические факты подавляются в этих сказаниях чрезмерным вымыслом мифологического характера. По этому индеец так легко менял свои жизненные привычки под влиянием новой среды. Один лишь язык сравнительно медленно поддавался этому процессу преобразования и заключал в себе элементы стойкости, прочно сохранявшиеся при всех изменениях. Однако, и язык остался не совсем неприкосновенным. Иначе едва ли возможно было бы понять, каким образом Новый Свет сам по себе выработал почти столько же наречий, как все прочие части Света, вместе взятые. Два момента имели особенно видоизменяющее влияние на язык: обособленность и смешение. Индеец обладает в замечательно резкой степени духом независимости. Даже семейные узы у большинства индейских племен слабее, чем где-либо. Нецивилизованные индейцы, за немногими исключениями, никогда не шли дальше рода и вообще самого тесного племенного родства, не создавали более крупной общественной единицы. Отчасти это зависит от образа жизни их: бродячая жизнь, питание тем, что добровольно дает природа, не благоприятствует единению большого числа людей и требует, наоборот, отыскивания все новых мест, которых еще не посещали другие люди. Народы, говорящие одним языком, дробятся вследствие того на мелкие группы, которые в течение многих поколений живут замкнуто или имеют сношения только с племенами, говорящими на чужом языке. Отсюда все большее и большее отчуждение между отдельными наречиями.
Гораздо более существенное влияние оказало смешение на языки индейцев. Оно редко являлось следствием мирного общения. Первобытный индеец, смотревший на лесных животных почти как на равных себе, в то же время видел в чужом человеке лишь дикого зверя; чужим был для него всякий, кто не принадлежал к его ближайшим родственникам по племени. Этим объясняется война всех против всех, господствовавшая среди большинства индейских племен. Служило ли подобное воззрение основанием для антропофагии, которая по временам охватывала, с одного конца до другого, весь американский материк, в этом можно, пожалуй, усомниться. Во всяком случае, индеец преследовал враждебных ему людей с такою же жестокостью, с какою относился к своим злейшим врагам из мира животных. Войны, по скольку идет речь о мужской части враждебного племени, сводились к истреблению. Отношение к женщинам было иное. Среди тревожной жизни индейского бродячего охотника значительная часть повседневного труда и забот выпадала на долю женского пола, и эту помощь и верность своих жен индеец умел ценить. Если ему удавалось, в борьбе с враждебным племенем, захватить женщин, то лишь в исключительных случаях он вымещал и на них свою ярость. Гораздо чаще он смотрел на них как на увеличение рабочих сил, которые предназначены заботиться о физическом благосостоянии его. Ясно, что эти чужие женщины, принятые племенем, должны были, при известных условиях, оказывать изменяющее влияние, особенно, если это случалось часто и в больших размерах. Нередко племя, при благоприятных внешних условиях жизни, увеличивалось в численности с такою быстротою, что не оставалось более места для всех членов его. Тогда должны были выселяться самые молодые мужчины в первом периоде возмужалости: за ними редко или совсем не шли женщины на неизвестное; рабочие руки были скорее нужны в доме, чем лишние воины. Чтобы основать новый очаг, им оставалось только похищать женщин. Производилось нападение на ближайшую деревню, где можно было расчитывать на успех. Мужчины, которым не удавалось убежать, избивались; с женщинами же воины соединялись для образования нового племени, в котором смешение разнородных элементов должно было отражаться во всех отношениях. Такое образование новых народов не только является логическим требованием: оно подтверждается и отдельными историческими примерами из жизни народов Южной Америки.
В. Первобытные народы Южной Америки
Скудная историческая картина, которую мы в состоянии восстановить при помощи лингвистики, этнологии и антропологии, дает пока возможность нарисовать лишь в общих чертах прошлое главнейших племен Южной Америки. Самое древнее племя из известных нам представляют тапуйи или тапуйясы. Это не собственное имя, но на языке туписов означает вообще чужого, врага. Карл фон ден-Штейнен называет эту группу народами Жес; другие употребляют для нее название кренов, что означает «древние». Наиболее популярно название ботокудов от слова botoque (палочка в нижней губе), хотя это украшение носят не одни ботокуды, но и большинство других народов Южной Америки: даже воины чибчасов, которые уже безусловно должны быть причислены к культурным народам, обыкновенно продевали столько палочек сквозь нижнюю губу, сколько врагов они убили в сражении. Название тапуйев наиболее целесообразно, так как в истории оно преимущественно применялось к племенам Жес, а не к отдельной небольшой части племен, как прочие названия. За древность этих народов говорит то, что соседи, постепенно вытеснявшие их из прежних владений, называли их старыми. Самое веское доказательство в пользу пребывания их в пределах Бразилии с древнейших, отдаленных доисторических времен заключается в том, что палеозойские черепа, открытые Лундом в пещерах Лагоа Санта, имеют все характеристические признаки, свойственные форме головы тапуйясов. Сомнительно, наоборот, чтобы им принадлежали отбросные кучи Бразилии (sambaquis), так как тапуйясы были во все времена, как и теперь, бродячим охотничьим народом, но не рыболовным; а между тем, только лодочники и рыбаки, и притом оседлые, могли потребить такую массу моллюсков, которые дали бы холмы, подобные самбакисам.
Историческая роль тапуйясов чисто пассивная. Некогда они одни занимали всю Бразилию от водораздела до Амазонской реки вниз к Паране. Но, быть может, еще в доисторическую эпоху они были стеснены со всех сторон, так что ко времени испанского завоевания в их руках осталась почти одна возвышенная часть внутренней Бразилии. Некоторые племена их были увлечены великим переселением народов, которое, за несколько веков до открытия, устремилось против более культурных народов, занимавших горные страны Анд. Но семигаесы, которые добрались при этом движении до области верхних притоков Амазонской реки, утратили особенности своего племени и настолько слились с окружавшими их племенами туписов и караибов, что только имя и язык их указывают еще на старую связь.
На северной стороне Амазонской реки раньше, вероятно, никогда не жили народы из племени тапуйев. Здесь, за несколько веков до Колумба, неограниченно господствовал один из самых распространенных народов Нового Света, ароваки. Они точно также бесспорно принадлежат к древнейшим нациям Америки. Первоначальное местообитание их можно указать лишь приблизительно. Ароваки также представляют тип континентального народа. Хотя в последние эпохи многие племена их освоились с водяной стихией, как мореходы и рыбаки, но первобытная культура их безусловно доказывает, что родина их находилась внутри материка. Впоследствии они господствовали на необъятных пространствах к северу от Амазонки, от Анд до морского побережья; но первоначальное местопребывание их не могло находиться в богатых тропических низменностях системы больших рек Южной Америки. Общие элементы первоначальной культуры, встречаемые во всех многочисленных разветвлениях этого народа, свидетельствуют о родине, находившейся вне области периодических наводнений, но все еще в тропических поясах. И так как мы встречаем их теперь на пространстве от полуострова Гоахира на севере до границы Чили на восточных предгорьях Кордильер и в виде особенно густого населения в восточной Боливии, то должны искать именно здесь первоначальную родину всех этих народов.
Народы группы ароваков, к которым следует также отнести племена Ну, по Карлу фон-ден Штейнену, занимали несравненно высшее культурное положение, чем тапуйясы. Если впоследствии туписы и караибы вполне сравнялись с ними, то все-таки культура ароваков возникла гораздо раньше, чем культура названных народных групп. Многое доказывает, что ароваки были учителями своих позднейших победителей. С какого времени группа ароваков начала распространяться с холмов восточной Боливии к северо-востоку, востоку и юго-востоку, и застала ли она в своем поступательном движении речные области Ориноко и Амазонки с их притоками, не заселенными или занятыми другими расами, этого мы не можем установить даже приблизительно. Первое не невероятно, так как аровакские народности образовали сплошное коренное население на обширных пространствах севера Южной Америки, которое выступает всюду, где только оставалось пространство, не заполненное позднейшими завоевателями. Судя по значительному распространению этой группы и по резким уклонениям в языке различных главных и побочных ветвей ее, нужно думать, что странствования ее измеряются не столетиями, а целыми тысячелетиями.
И однако, ароваки не могут быть названы грубым первобытным народом в ту эпоху, к которой относится начало этого процесса: уже тогда способы обработки земли были у них далеко не примитивные. Земледельческие индейцы южной Америки питаются на обширных пространствах, еще в большей мере, чем кукурузой, распространенной по всей Америке, клубневидным корнем одного вида молочайных, мандиоком (Manihot Plum.), маниоком или кассавой. В сыром виде эти корни безусловно ядовиты, так как содержат синильную кислоту, но вообще они очень богаты питательными веществами. В древние времена какое-то неизвестное индейское племя сделало открытие, что маниок утрачивает свои ядовитые свойства, если выжать сок из корня и обработать последний надлежащим образом. Значение этого открытия громадно, если взвесить, что впоследствии маниоком почти исключительно питались сотни тысяч индейцев. Так как куст маниока не произрастает в тропических низменностях, подверженных наводнениям, то изобретателями этого способа не могли быть ни туписы, ни караибы, питавшиеся, вероятно, в начале исключительно рыбою, и еще менее тапуйясы, которые вообще не знали земледелия. Отсюда, конечно, еще не следует, что эта заслуга принадлежит аровакам, хотя вероятное местообитание их и соответствует особым климатическим условиям, необходимым для маниока. Возможно, что и они научились искусству приготовления маниока у еще более культурного народа. Несомненно, однако, что это произошло на первоначальной родине их и что при своем постепенном расселении они распространяли все дальше возделывание маниока, так что, наконец, и другие индейцы переняли у них это искусство.
Другая отличительная особенность аровакских народов заключается в их искусстве изготовления глиняных сосудов. Эта черта до сих пор настолько характерна, что Карл фон-ден Штейнен выделяет из народов центральной Бразилии группу аруаканского происхождения под общим названием племен горшечников. Без сомнения, это не случайность, что по мере удаления от восточного берега материка в направлении к горным странам, гончарные изделия становятся все совершеннее и тоньше. Все народы, живущие на восточных склонах Кордильер, сравнительно далеко подвинулись в обработке глины. Произведения их промышленности отличаются разнообразием форм и целей, а также изяществом отделки, от простого линейного орнамента до пластического изображения живых существ. Это различие не ограничивается, впрочем, одними аровакскими народностями. То же явление замечается и к югу от них, среди народов Гран Чако, которые до сих пор еще причисляются к другим первичным племенам; гончарные изделия, добытые из развалин древне-индейских поселений в Катамарке, соперничают с произведениями некоторых культурных народов. Едва ли можно сомневаться, что в этом случае мы имеем дело у ароваков не с самостоятельным развитием, но с влиянием, которое оказали древнейшие культурные народы Перуанской возвышенности на своих восточных соседей. Но и здесь речь идет, во всяком случае, об эпохе, необычайно отдаленной, так как даже аровакские народы являются поставщиками и учителями своих соседей в области гончарного дела, хотя они никогда не поднимались до более высокой степени культуры, и теперь еще, оттесненные на сотни миль от старой родины, продолжают жить в состоянии почти нетронутых первобытных народов.
Аровакские народы имеют право считаться сравнительно культурными, главным образом, потому, что среди них антропофагия давно исчезла, между тем как вокруг она продолжала существовать, по крайней мере, как религиозный обычай, даже у народов с несомненно высшей образованностью (см. ниже стр. 194 и след.). Замечательно, что обширная группа аровакских народов, племена которых жили в течение многих поколений в самом тесном соприкосновении с племенами другого происхождения, где убитые враги или военнопленные обязательно съедались, никогда не усвоивали себе этого варварского обычая.
Однако, и этот культурный прогресс должен быть отнесен к периоду, предшествовавшему переселениям аровакских народов, так как он распространяется на все племена. Если взвесить, что этот древний коренной народ был знаком с земледелием, умел делать глиняную посуду и питал отвращение к антропофагии, то невольно возникает мысль – не находятся ли предки ароваков среди культурных наций, населявших горные долины Кордильер уже за много веков до основания царства инков. Этому противоречит, однако, одно важное обстоятельство. В историческую эпоху ароваки нигде не шли далее той культуры, которой, как мы видели, вероятно, достигли их древнейшие предки. Отсюда следует, что это племя достигло уже высшей точки своего развития раньше, чем началось расселение нации по всему северу южно-американского материка. Здесь кроется противоречие. Нация, которая перешла кульминационную точку своего развития, уже не в состоянии создать из себя силу расширения, которая проявилась в распространении племени ароваков. Все, что мы знаем об истории индейских переселений, показывает, что речь идет лишь о сравнительно молодых, развивающихся народах. Поэтому мы должны представить себе в данном случае исторический процесс в таком виде: в эпоху, когда коренное племя ароваков, жившее в горных равнинах Боливии, вступало в период наивысшего расцвета, эти народы, под влиянием высшей культуры более цивилизованных западных наций поднялись из грубого первобытного состояния, – и это способствовало еще большему развитию распускавшейся народной мощи. На старой родине не находилось достаточного простора для такого избытка сил, и поэтому началось выселение. Совершалось ли оно одновременно и в южном, и в северном направлении – трудно сказать. Ветви этого семейства одинаково разбросаны и на юге и далеко на востоке от прежней родины, но они не дают нам никакой точки опоры для определения времени и направления их переселений. Так как ароваки начали обработывать землю, находясь еще на родине, то переселения их подвигались гораздо медленнее, чем у других народов, еще совсем незнакомых с искусственным добыванием пищевых средств. С другой стороны, нужно думать, что они шли прежде всего в том направлении, которое не вынуждало их приспособляться к иным жизненным условиям. Это могло быть только в том случае, если они двигались от предгорий Кордильер к северу. Мы находим их в XVI столетии в горах между Санта-Мартой и Венесуэлой, а теперь еще на полуострове Гоахира, самом северном продолжении их. Точно также кариосы в окружности Коро, когда они были открыты на территории Венесуэлы, жили оседло и немного занимались земледелием. У Кабо де ла Вела природа поставила преграду дальнейшему движению их на север; но переселение продолжалось в восточном направлении и достигло, еще за несколько веков до открытия Америки, устьев Ориноко.
Между тем, в одной части племени совершилось превращение. Народности ароваков освоились с водяной стихией и сделались лодочниками и рыбаками. Началось ли это превращение с побережных племен или с тех, которые проникли из старой родины в затопляемые области верхних притоков Ориноко, – трудно сказать; последнее более вероятно, так как море ставит слишком большие преграды зарождающемуся судоходству. К тому же рассеянные группы ароваков часто попадаются в бассейне Ориноко. Во всяком случае, нужно думать, что народ этот все еще таил в себе значительную силу расширения, так как он не остановился даже тогда, когда дошел до океана на восточном берегу. Аровакские лодочники смело пускались из устьев Ориноко в открытое море и мало-по-малу образовали таким путем первое население всех островов Антильского моря. Немногого недоставало, чтобы они добрались с островов на северо-американский материк и установили сообщение между северной и южной половинами этой части света, повидимому, никогда не происходившее. В то же время другая ветвь их двигалась вдоль морского побережья в ином направлении. Пройдя Гвайяну, они снова повернули на юг, и даже Амазонская река не составила для них непреодолимой преграды. Существуют несомненные признаки движения ароваков с севера до водораздела между притоками Амазонки и Парагвая.
Переселения ароваков были остановлены лишь встречным течением других народов, обладавших такой же энергией. Быть может, это произошло в сравнительно раннюю эпоху, когда племена ароваков, подвигаясь к юго-востоку, встретились с народами туписов. В более поздний период произошла встреча их с караибами. В битвах, длившихся столетиями, караибы уничтожили, в конце концов, бо̀льшую часть северных ароваков.
Несмотря на то, что туписы, со времени первого открытия Бразилии и до наших дней, находились в непрерывном общении с белыми, методическое изучение этой группы значительно слабее в сравнении с другими. В этом виновны судьбы этого народа после завоевания страны европейцами. Уже очень рано миссионеры выработали из одного наречия языка туписов так называемый lingua geral, на котором составлен ряд грамматик, переводов и проч. Но именно благодаря этому, исследование диких наречий туписов – если можно так назвать их в противоположность lingua geral, созданному под европейским влиянием – оставалось в полном пренебрежении, и это лишило нас одного из лучших вспомогательных средств для изучения древней истории племени туписов. То же обстоятельство, т. е. давнее близкое знакомство с туписами, отдаляло путешественников от более тщательного этнологического изучения их, а между тем особенности этого племени все более и более стушевывались под влиянием культуры. Благодаря всему этому, мы располагаем в отношении наиболее известного племени южно-американских индейцев недостаточным этнографическим и историческим материалом.
Первичной родиной туписов также признавали плоские возвышенности внутри страны; но такое мнение опирается на весьма шаткие данные и противоречит тому, что мы знаем об особенностях этого племени в исторические времена. По всей вероятности, первоначальная родина туписов находится недалеко от того места, где впервые встретились с ними европейцы, хотя в то время они уже много столетий назад распространялись и странствовали в различных направлениях. Во всяком случае, первичная родина их лежала в области северных притоков реки Ла Платы, но едва ли по ту сторону водораздела, от которого реки направляются к северу, к Амазонке. В противоположность аровакам, туписы представляют настоящий водяной народ. Правда, большинство племен их, хотя и не все, занималось в скромных размерах обработкою земли; тем не менее, главный источник их пропитания еще в XVI столетии составляли рыболовство и охота. Лодки их смело шныряли и в мирное, и в военное время по Парагваю и его притокам и по рекам тех областей, которые были впоследствии заняты бродячими ордами туписов. Они рано заселили немногие острова, лежащие на близком расстоянии от берегов; и на море они, очевидно, были как у себя дома, поскольку это допускали их маленькие суда. Даже те племена туписов, которые в своих переселениях далеко зашли вглубь страны, все еще остались лодочниками и рыбаками.
Карта народов Южной Америки наглядно изображает направление, в котором совершалось распространение туписов (см. «Карту народов Америки»). Оно следовало притокам Ла Платы в южном направлении до океана и в начале, пока потребность в расселении была сравнительно не велика, имело ограниченные размеры. Наоборот, вдоль побережья Атлантического океана, в северном направлении, движение туписов, повидимому, шло гораздо быстрее. Вплоть до устьев Амазонки они никогда не занимали широкого пространства земли, но всегда довольствовались тем, что вытесняли живших там тапуйясов с узкой полосы побережья, где и селились, обращая свой взор всегда к воде. Во время завоевания они занимали область, весьма узкую по отношению к длине, но нигде не прерывавшуюся обратным движением вытесненных враждебных наций. Это доказывает, что вторжение туписов шло быстро и имело место не в очень отдаленном прошлом.
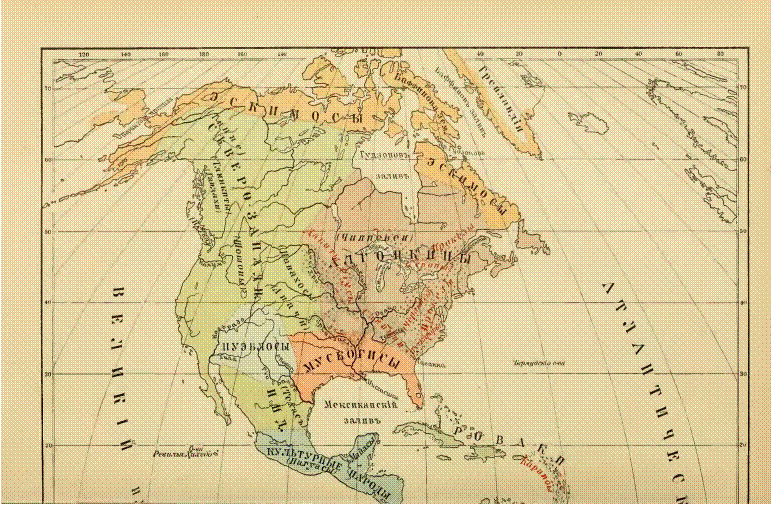
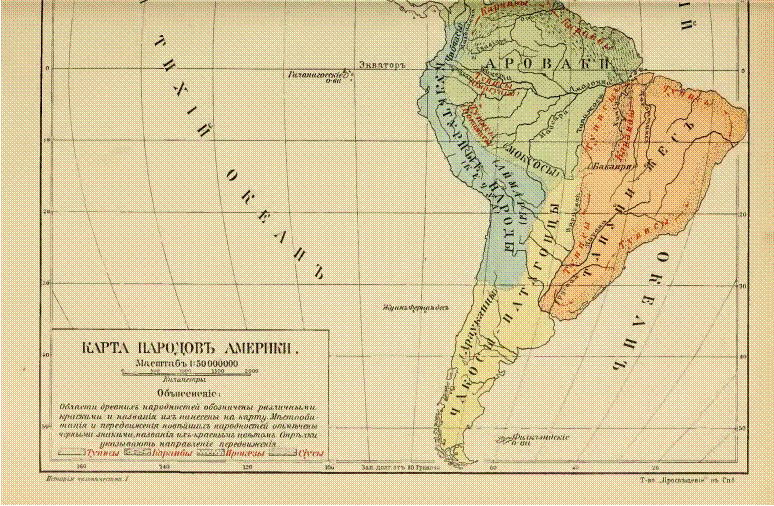
Переселения туписов должны были иметь совершенно иной характер, чем переселения ароваков. Между тем, как последние, очевидно, подвигались медленно и не встречая серьезного сопротивления (в области ароваков мы почти не встречаем ясных следов чуждого, нерастворившегося путем ассимиляции населения), переселения туписов носят, наоборот, отпечаток насильственного процесса. Самое название тапуйясов, т. е. чужих, врагов, которое они давали всем народам, соприкасавшимся с ними, является историческим свидетельством в этом смысле. В сношениях с европейцами туписы отнюдь не выказали себя особенно дикой и жестокой нацией. Они благосклонно отнеслись к первым переселенцам и впоследствии были довольно уступчивым материалом в руках иезуитских миссионеров. Но в отношении своих соседей индейцев они, большею частью, играли роль нападающих, враждебных, и южные туписы с гордым самосознанием именовали себя гуаранисами, т. е. «воинами».
Не следует также забывать, что племена туписов, за немногими исключениями, которые объясняются особыми условиями, предавались людоедству. Правда, не одно грубое удовлетворение голода делало их людоедами, но, с другой стороны, людоедство не было и священной церемонией, вытекающей из религиозных воззрений, как мы видим это у некоторых культурных народов древней Америки. Гуаранисы пожирали доставшихся в битве пленных в знак победы над врагами. Обычай, который при этом соблюдался, составляет почти характерный признак, по которому можно узнать туписов. Пленные не убивались тотчас по возвращении с войны, но сперва их долгое время держали в плену, и плен был вовсе не суровый. И чем дальше дело подвигалось к концу, тем больше давалось им свободы и льгот. Под конец, заключенных не только обильно кормили изысканными блюдами и напитками, но они даже вступали в брак с дочерьми туписов. А между тем тайком от пленного делались приготовления к празднеству, которое должно было увенчаться его смертью. Среди церемониальных танцев его врагов, он падал сраженный внезапным смертельным ударом. И тотчас вслед за тем труп рассекался согласно установленным предписаниям, и отдельные члены его делились между участвующими. Женщины и даже больные, которые не могли участвовать на самом празднестве, получали свою долю. В этой форме людоедства, очевидно, сталкиваются моменты различных ступеней культуры. С одной стороны, мы видим отголоски того времени, когда мясо убитого врага служило для утоления голода наравне с убитою дичью. Но еще в большей мере здесь отражается гордое торжество над побежденным врагом, так как весь характер празднества – веселый, победный. Наконец, церемониальная сторона принимает такие размеры, что переход от людоедства туписов к человеческим жертвам ацтеков представляется не совсем далеким.
В той или иной форме антропофагия составляет общую черту почти всех племен туписов, и поэтому происхождение ее должно быть отнесено к первоначальной родине племени. Это – лишний аргумент против происхождения туписов из горных стран Боливии. Именно те племена туписов, которые живут ближе всего к этим местам и, следовательно, должны были бы сохранить наиболее архаические формы, – единственные, которые совершенно отказались от людоедства и вообще из всех членов племени достигли наивысшей степени культуры: это – омагуасы между Путумайо и Какета и кокамасы при слиянии Мараньона и Укайяли. Не трудно объяснить, каким образом эти народы племени туписов могли быть отброшены так далеко от своих родичей. На большом водном пути Амазонки ароваки, идя с севера, остановились приблизительно в то же время, когда туписы достигли противоположного берега с юга. Таким образом, кроме природных препятствий, дальнейшее движение было остановлено враждебным столкновением с новыми, полными сил племенами. Река с ее бесчисленными, вяло текущими рукавами не могла служить для народа, привычного к судоходству, такой серьезной преградою, как встреча с врагом. Поэтому главная масса ароваков остановилась на северном берегу, а туписы не двинулись с южного. Впрочем, попытки в этом направлении бывали, что доказывают мелкие группы обеих народностей, рассеянные на враждебном берегу. Но в общем, разграничение происходит внезапно и резко. Для ароваков это было пределом их движения вперед. Они имели достаточно сил, чтобы оказать непреодолимое сопротивление туписам, но этих сил не достало, чтобы идти вперед в ином направлении.
Не то было с туписами. Предания их указывают, что они двинулись вверх по течению Амазонки и ее притоков. Для индейцев путешествие вверх по Амазонке не представляло ничего невозможного; это они доказали не далее, как в 1641 году, когда явились проводниками португальцев в их первом предприятии в этом направлении. Обширное протяжение бассейна Амазонки не дает возможности проследить движение туписов в этой речной области кверху. Но, по всей вероятности, и племена на Хингу и Тапахосе не спустились от водораздела к Парагваю, но поднялись от Амазонки вверх по побочным притокам. Дело в том, что, в противоположность аровакам и тапуйясам, следы племен туписов встречаются только там, где есть достаточно воды для того, чтобы они могли остаться верными своим основным привычкам. Возможно, что многочисленные орды туписов раздробились и были затерты в речной сети Амазонки, и мы теперь не в состоянии выяснить, в силу какого обстоятельства родоначальники омагуасов и кокамасов в состоянии были пробиться сквозь центральную массу ну-ароваков и почти достигнуть подошвы Кордильер. Быть может, слух о богатой возделанной стране увлекал их вверх по течению Амазонки и ее притоков, подобно тому, как позднее легенда об омагуасах и вечно ускользающем Дорадо (см. ниже стр. 291) увлекла испанцев вниз по тому же пути. Согласно преданиям испанских хроникеров, воспоминание о нашествии враждебного населения низменностей не совсем изгладилось даже у индейцев культурных государств. Между занятием омагуасами их позднейших местообитаний и открытием Америки лежит, во всяком случае, значительный период времени. Под влиянием народов с высшею культурою омагуасы не только значительно поднялись над средним культурным уровнем туписов, отрешились от людоедства, возделывали землю, перешли к прочной оседлости и даже основали обширные поселения, но вести обо всех этих успехах имели достаточно времени, чтобы распространиться среди менее цивилизованных соседей их; эти последние и представили испанцам омагуасов как народ, баснословно богатый и чрезвычайно могущественный.
Самую молодую из этнических групп Южной Америки составляет племя караибов. Это обстоятельство, на ряду с счастливыми случайностями в области этнографического исследования, было причиною того, что мы несколько лучше знаем их историю, чем историю других народных групп. Первоначальные места жительства племени караибов находились, вероятно, по близости первичной родины туписов. В то время, как туписы населяли верхние притоки Парагвая, караибы занимали верхний бассейн Тапахоса и рек, которые в одном направлении с ними вливались в нижнее течение Амазонки. Степень культуры, до которой достигли здесь караибы, должна быть названа чрезвычайно низкою: язык их не знал счета дальше трех, собственно даже только до двух, и прочие условия жизни соответствовали этой бедности представлений. Нужно думать, что уже здесь происходили взаимодействия между ними и туписами, которые должны были оказать продолжительное влияние на оба племени. Развитие их было в такой степени сходно, что один из первых исследователей в этой области Карл-Фридрих-Филипп фон Марциус считал туписов и караибов братскими племенами, происшедшими от одного общего первичного народа. В настоящее время склоняются больше к тому воззрению, что туписы и караибы произошли от разных первичных племен, но уже рано вступили в тесные взаимные соотношения.
Караибы были также преимущественно рыболовным народом, и связь их с водою и с водяными животными раньше всего достигла высокой степени развития. Подобно туписам, они спускались вниз по течению рек своей родины, по мере того, как старая родина становилась тесною для них. Мало-по-малу они дошли таким образом до самой Амазонки и, наконец, проникли в открытое море. Следы движения их в этом направлении сильно изглажены. Возможно, что они добрались до устьев Амазонки раньше появления туписов. Но в таком случае, первыми, кто остановил движение ароваков, были караибы, а не туписы. И действительно, вражда между караибами и ароваками оставила следы на большом протяжении тогда как соприкосновения между ароваками и туписами имели место лишь в немногих пунктах.
Что̀ собственно послужило толчком к переселениям караибов, – для нас столь же неясно, как и причины всех прочих великих народных движений на американском материке. Но характер их переселений известен нам более точно, благодаря тому, что воспоминание о них еще живо сохранялось у поколения туземцев, которое застали испанцы при открытии Америки. Караибы более всех других индейских племен внушали страх. Даже европейцам эти неустрашимые сыны дебрей оказали упорное сопротивление. В кровавых стычках с первыми толпами завоевателей они нередко выходили победителями; но, конечно, с течением времени европейцы при помощи сильнейших средств и настойчивости побеждали их. Способ ведения войны караибами не только с европейцами, но, еще до появления их, с индейским населением отличался чрезвычайной жестокостью. Невозможно, конечно, выяснить, когда именно совершилось превращение сравнительно безобидного рыбачьего народа, с которым Карл фон ден Штейнен еще недавно встретился на первоначальной родине этого племени на верхнем Хингу, в нацию смелых и диких пиратов, внушавших страх далеко вокруг, какими мы видим караибов в XV столетии. Но тот факт, что караибы сделали свой язык господствующим почти во всей области к северу от Амазонки, включая и значительную часть Антильских островов, и при том, насколько гласит предание, исключительно насильственным путем, говорит в пользу необычайного могущества этого племени.
Когда караибы начали свои переселения, они стояли еще на такой ступени, что мясо убитых врагов было для них желанным кушаньем. Выше этой довольно грубой ступени антропофагии они, повидимому, никогда не поднимались. Пожирание врагов составляло настолько характерную черту караибов, что название этого народа было у испанцев тождественно с названием людоедов и в несколько искаженном слове «каннибалы» до сих пор сохранило это значение у всех цивилизованных народов. Это обстоятельство оказало пагубное влияние на историческое исследование, так как обычай антропофагии существовал и у народов другого происхождения. Открывателям XVI столетия, большею частью, достаточно было узнать, что данное племя предается людоедству, чтобы без дальнейшего расследования причислить его к караибам. Только позднее, частью лишь в самое последнее время, снова удалось внести свет в эту путаницу. Антропофагия караибов не представляет даже начала того более утонченного воззрения, какое мы видели у туписов. Правда, они в редких случаях руководились исключительно голодом: как рыболовы и охотники, они могли найти достаточно средств к поддержанию жизни среди богатой природы. Кроме того, жены их, когда они начали заселять область ароваков, продолжали, хотя и в ограниченных размерах, земледелие, существовавшее у этих племен. Но во всяком случае, людоедство их, главным образом, служило выражением военного триумфа. Войны их против всех враждебных племен имели истребительный характер, при чем все захваченные взрослые мужчины убивались. Мирные, робкие ароваки едва ли признавались ими за опасных противников. Даже европейцев они встретили, при первом появлении последних, лишь с почтительною робостью, которая только тогда перешла в страх и обратила караибов в бегство, когда они, годами горького опыта, убедились, чего стоят им сношения с белыми людьми. Раньше этого небольшим отрядам караибских воинов нередко удавалось побеждать гораздо более значительные силы врагов.
Если караиб жестоко обращался в своих военных походах с мужского частью враждебных племен, то женщин и он щадил. Женщины не могли сопровождать воинов в этих военных тревогах, в тесном челноке, часто на далекие расстояния; здесь они еще гораздо больше стесняли бы их, чем в сухопутных походах. Но так как, по крайней мере, дальние переходы не всегда предпринимались исключительно с целью грабежа и хищения (во многих случаях мы можем ясно отличить военные походы от переселений), но имели также в виду основание новых поселений, то смешение караибов с этническими элементами другого происхождения, вероятно, происходило в широких размерах. Если смешение не приняло еще более разнообразного характера, то это объясняется тем, что завоевательные походы караибов почти исключительно ограничивались областью, обитаемою аровакскими народами.
Хронологические границы караибских переселений могут быть точнее установлены, чем границы всякого другого однородного процесса. Было уже указано на то, что движение караибов к устью Амазонки по времени, повидимому, предшествовало достижению этой реки туписами (ср. выше стр. 197). Однако, в то время и туписы были довольно близки к той же цели. Иначе почти невозможно объяснить, почему караибы расширяли свои завоевания исключительно в одном направлении, в котором они все дальше уходили от оставшихся на месте племен, так что, в конце концов, утратилась всякая связь между ними. В действительности мы обязаны только счастливому случаю открытием этих сделавшихся почти редкостью остатков населения на Хингу, стоявшего на самой первобытной ступени развития. Дальше до самой Амазонки тянется сплошной массою совершенно замкнутое население туписов, среди которых уже нигде нельзя открыть рассеянных групп караибского происхождения. Нужно полагать, следовательно, что северное направление, принятое караибским движением, зависело от поступательного движения туписов. Слабое сопротивление со стороны ароваков манило все дальше и дальше, и в силу того караибы распространялись на севере Южной Америки с большей быстротою сравнительно с переселением ароваков и даже туписов. Тем не менее, потребовались, конечно, века, для того, чтобы племя караибов сделалось господствующим от устьев Амазонки до Маракаибской лагуны. Крайние форпосты их прорвали пояс Кордильер, вероятно, не очень далеко от северного морского побережья: даже в бассейне реки Магдалены живет еще племя несомненно караибского происхождения, хотя это – не более, как орда, рассеянная среди наций иного происхождения. В общем, однако, движению их вперед оказали непреодолимое противодействие народности с высшею культурою в горных странах Анд. В бассейне Ориноко, притоки которого они объездили на своих лодках до отдаленных верховьев у подошвы гор, нагоняя страх и ужас на обитателей речных берегов, караибские племена, повидимому, мало селились; но устья заселены ими почти исключительно и в большом числе. Несомненно, что и здесь они основали свое господство на слое аровакских народностей хотя мы не можем этого доказать с такою ясностью, как для других областей.
Последнее завоевание караибов, которое еще не было закончено ко времени открытия Америки, составляют Антильские острова. В течение веков стремление все в новые и новые страны стало насущною потребностью для караиба, и, когда Кордильеры заградили от него запад, он начал искать новые объекты. Одни направили свои хищнические набеги вверх по течению Ориноко, тогда как другие избрали целью мелкие острова, часто видимые с берега Венесуэлы: по всей вероятности, племена, жившие на побережье материка, доставляли им сведения об аровакском населении этих островов. Нужно думать, что здесь они и сделали шаг вперед в искусстве плавания, имевший значение для судеб Америки: они научились пользоваться парусом, чего, кроме них, не знал никто из туземцев Нового Света, за исключением майясов, которые владели им еще в более совершенной степени. То обстоятельство, что завоевание островов произошло в столь раннюю эпоху, имеет особенное значение для суждения о характере переселений индейцев. Первые испанские переселенцы застали на Больших Антильских островах еще почти чистое племя ароваков – мирный, приветливый и добродушный народец, живший в довольстве от своего земледелия и только побочно занимавшийся охотой и рыбной ловлей. Но и эти ароваки находились уже в постоянном страхе перед караибами, которые появлялись у берега то там, то сям на своих быстрых парусных лодках, грабили и превращали в пепел одно поселение ароваков за другим, убивая мужчин и уводя с собою женщин. Пример маленьких островов научил ароваков – какой будет конечный исход этой неравной борьбы. Когда после непрерывных хищнических набегов мужское население острова оказывалось достаточно ослабленным, караибы появлялись уже не в качестве случайных хищников, а большими толпами, чтобы сломить последнее сопротивление островных обитателей. Тогда из какого-нибудь укрепленного места на острове начиналась истребительная война, пока последний противник не был уничтожен или обращен в бегство. Остров превращался в новый центр распространения.
Испанцы застали еще на Малых Антильских островах почти всюду замечательное явление, что женщины говорили на другом языке, чем мужчины. В прежние времена делались на этот счет всевозможные необоснованные предположения, пока, наконец, более точные лингвистические исследования не показали, что женщины говорили на диалекте ароваков, а мужчины на караибском языке. Это открытие, в связи с рассказами островитян о нашествии караибов, ясно показало, что Антильские острова были завоеваны еще на глазах живущего поколения и что жены караибов, говорящие на ином языке, представляли не что иное, как женский элемент покоренных ароваков, доставшийся победителям в качестве жен и служанок. Для исторической оценки индейских переселений этот факт имел чрезвычайную важность. Он доказывает, во-первых, медленность процесса распространения одного народного племени в области другого. Нужен был ряд поколений, чтобы заселить небольшие Антильские острова. С другой стороны, этот процесс дает нам ключ к пониманию чрезвычайного разнообразия американских языков и почти до неузнаваемости изглаженных границ между народами одного племени с самостоятельным языком и народами другого племени. Понятно, что если не в поколении завоевателей, то, во всяком случае, в потомстве, происшедшем от помеси с чужими женщинами, должно было произойти полное смешение не только антрополого-физических, но также этнических и лингвистических элементов, и в результате получилась новая единица, новая племенная разновидность.
Часто возникал вопрос – не достигали ли вылазки караибов до материка Северной Америки, не особенно далекого от Антильских островов, и не соприкасались ли таким образом туземные населения северного и южного материка. На самом перешейке, соединяющем оба материка, нет никаких следов такого соприкосновения. Однако, то, что̀ приписывалось караибским влияниям в произведениях искусства северных индейцев, не выдержало научной критики. Правда, замечательно, что обе половины американского материка, на которых человек тысячелетиями медленно прогрессировал в развитии своих способностей, не только остались неведомыми для человечества прочих частей света и вне влияния его, но были неизвестны даже друг другу, несмотря на связь через посредство перешейка и островов. Тем не менее, так, повидимому, было. Впрочем, на мостике суши центральной Америки граница между народами северного и южного происхождения лежит не на самом узком месте, и народы южного происхождения доходят до своеобразной культурной области центральной Америки. Но граница между ними все-таки резкая, и мы не встречаем здесь наслоения племен различного происхождения, как это часто наблюдается внутри каждого материка. Нельзя также уловить сколько-нибудь существенного влияния обитателей одной половины на туземцев другой (ср. ниже, стр. 226 и след.).
С. Северо-американские первобытные народы
Как и южная половина, Северная Америка была и в доисторическую эпоху и отчасти еще в историческое время свидетелем обширных народных передвижений. Однако, исследователь, который пожелал бы идти по их следам, находится на почве Северной Америки в гораздо менее благоприятном положении, чем на юге. Почти на всем пространстве Соединенных Штатов культура, перенесенная в Новый Свет из Европы, успела наложить печать своего победоносного шествия. Этот триумф вызвал на старой родине удивление, а дочернюю культуру исполнил детски-хвастливою гордостью. Но результатом его было необычайно безжалостное и недружелюбное уничтожение следов старой культуры туземных населений. На юге мы еще встречаем на обширных пространствах индейца, живущего в жизненных условиях, достаточно сходных с той своеобразной культурой, которую застали первые европейцы. В Северной Америке индеец был в течение столетий систематически и насильственно вытесняем белым человеком из области своих поселений. Лишь в единичных случаях мы видим и на севере людей, которые уже в эту раннюю эпоху относились к индейцу с интересом и доброжелательностью, которые старались примирить его с новою культурою и приучить к новым условиям. Эти попытки были гораздо менее плодотворны, чем на юге, где и теперь еще существует довольно многочисленное население подвинувшихся в образовании туземцев.
Только в самые последние десятилетия северо-американцы поняли, что ими едва не упущен был единственный и последний случай к изучению древнейшей истории своей родины. Тогда с несколько тщеславной щедростью, которая так часто встречается в Америке, предприняты были в широком масштабе работы, отчасти уже приведенные к благополучному концу, цель которых состояла в исследовании исторического значения этнографических остатков в области Соединенных Штатов. Для обширных пространств этой территории сами индейцы, конечно, не играют уже никакой роли. Они или вообще искоренены, или поглощены культурою, или же сохранили малоценные предания, хотя и не такие скудные, как у индейцев юга. На ряду с воспоминанием о схватках многих поколений с белыми и о притеснениях последних, почти совершенно изгладились смутные отголоски того времени, когда индеец был еще единственным властелином над лесом и прерией. Самую ценную часть источников представляет и здесь, с одной стороны, язык, а с другой, то, что̀ первые собиратели сведений могли узнать при расспросах индейцев. К этому присоединяются результаты раскопок, производившихся, впрочем, в большем размере, чем в Южной Америке. Странно, однако, что северо-американец, вплоть до наших дней, имел самые фантастические и ошибочные представления о наиболее важных памятниках древнейшей истории своей страны, – об искусственных холмах до-Колумбовой эпохи, получивших всемирную известность под названием курганы (mounds). На севере несравненно бо́льшая пропасть, чем на юге, отделяет историю нового времени от древней.
Северо-американский материк распадается, в отношении географического и исторического исследования, на три группы, не всегда строго разграниченные, но довольно ясно очерченные.
Первую группу составляют обширные пространства суши на крайнем севере материка, от Аляски до Гренландии, прорезанный многочисленными реками и озерами, которые, однако, в течение значительной части года скованы крепким льдом. Существует мнение, что эти места не во все времена отличались негостеприимным характером, который накладывает на них, в нашу эпоху, продолжительный холод и мрачная полярная зима. Но если это предположение в общем и верно, то, быть может, для времен, которые отделены от нас не историческими, а геологическими промежутками. Если первый человек и проник некогда в Америку через эти северные окраины, то, во всяком случае, за этим событием последовали тысячелетия, в течение которых этот путь был окончательно забыт. Только в период, который был скорее после, чем до падения Римской Империи, здесь происходит новое переселение народов, не имеющее почти никакого значения для всемирной истории человечества, но все-таки оставившее слабые следы.
Эскимосы или, как они сами себя называют, иннуиты, часто признавались за американское племя, за потомков индейцев, развитие которых шло другим путем под влиянием полярной природы. Если мы не будем объяснять известные сходные черты в наружной форме и образе жизни между ними и самыми северными индейскими племенами тихо-океанского побережья, гайдахами и тлинкитами, взаимным влиянием, то, конечно, приходится остановиться на таком выводе. Принимая, однако, во внимание резко монголоидный характер иннуитов и еще более тесное родство, соединяющее их с племенами северной Азии, следует признать более вероятным, что родина их находится в Азии. Индейцы всегда относились к ним враждебно и преследовали их, как пришельцев. Вследствие индейского обычая, далеко не ограничивавшегося одним югом, истреблять в войнах только мужчин, а женщин присоединять к своему племени, должны были образоваться смешанные народы там, где различные расы тесно соприкасались между собой в течение продолжительных периодов времени. В таком именно положении находился северо-западный берег Аляски, расположенный против азиатского материка, но в более благоприятном климате. Он служил первым местопребыванием для большого числа постепенно переселявшихся племен иннуитов. Помимо того, имели место взаимные влияния, которые объясняют сходство в нравах и обычаях у иннуитов и индейцев северо-западной Америки.
Во всяком случае, иннуиты застали уже американский материк заселенным индейцами вверх до широты Берингова пролива; иначе они едва ли направили бы свои передвижения к негостеприимному северу, на далеких протяжениях которого тянутся следы их в виде скудных остатков жилищ и утвари. Эти находки не дают возможности определить – не делали ли иннуиты в других местах попыток пробиться к югу. Без сомнения, они и там встретили бы такой же враждебный прием со стороны народов индейского происхождения, как на северо-западе. Долгое время это соприкосновение не могло продолжаться, так как иначе обнаружились бы этнографические доказательства и на крайнем западе, и дальше. Тот, кто принимает иннуитов за племя индейцев, постепенно оттесненное к полюсу, может увидеть подтверждение своего взгляда в том, что северные саги, которые рассказывают о путешествиях Эрика Рауда в Винланд, приписывают истребление тамошних поселений «скрелингам»: так называют северные пришельцы эскимосов Гренландии. Действительно, путешествия викингов к северо-восточному побережью Америки, предпринятые около 1000 года, составляют несомненный исторический факт. Но легендарный характер, в который облечены немногие дошедшие до нас сведения об этом, не дает возможности точно определить ни места этих поселений, ни характера найденного там населения. Для викинга, который привык к одежде и нравам северно-европейской культуры, легко могли остаться незаметными различия между скрелингом, его врагом в Гренландии, и одетым в шкуры северным индейцем, с которым он сражался в Винландии при аналогичных условиях. И тот, и другой сливались в один образ в песнях саги, в которых бард воспевал подвиги викинга.
Тем не менее, саги дают нам точку опоры для определения эпохи переселений иннуитов. В Гренландию они, без сомнения, проникли с американского побережья или с островов, окружающих его с северной стороны. Так как иннуиты воевали с северянами в Гренландии около 1200 года и в течение двухвековой, все более возраставшей вражды, наконец, вытеснили их с острова, то мы вправе с известною положительностью утверждать, что приблизительно к этому времени окончилось расселение иннуитов на северо-американском материке.
Переселения эскимосов не находятся ни в какой связи с историей остальной Америки, но в общем индейские народы севера имеют много точек соприкосновения между собою, так же, как и индейцы юга. И на северной половине материка горная цепь Кордильер образует своим восточным склоном несомненную культурную границу. Здесь, как и там, на тихоокеанской стороне хребта лежит область сравнительно высшей культуры, чем на атлантической. Но мы не имеем основания идти дальше и допускать связь между северной и южной культурой, так же, как и между северными и южными первобытными народами. Если индеец обширного бассейна Миссисипи находится в более близком этнографическом родстве с индейцами бассейна Амазонки или Ориноко, чем с своими западными соседями по ту сторону Кордильер, то это находит себе достаточное объяснение в одинаковых условиях жизни. Везде в Старом, как и в Новом Свете, человек на низшей ступени культуры в высокой степени зависит от окружающей его природы: при одинаковых условиях аналогичны и пути развития человека.
Индейское население Северной Америки к востоку от Кордильер, взятое в совокупности, представляет несомненно большее единство расы, чем на юге. Хотя с помощью лингвистики и удается различить ряд коренных племен, развивавшихся отдельно в течение столетий, если не тысячелетий, но все-таки дробление народов Северной Америки – более позднего происхождения, чем на юге. Это вытекает уже из того, что из 1000 приблизительно различных языков и наречий Нового Света, которые Бринтон перечисляет в своей «Истории американской расы», около 750 принадлежат области к югу от Панамского перешейка и только 250 Центральной и Северной Америке. Тем не менее, и здесь разнообразие все еще так велико, что для происхождения его должны были потребоваться необычайно продолжительные периоды.
Самая важная задача в изучении истории Северной Америки до Колумба заключается в вопросе о строителях так называемых курганов (mounds) (см. выше стр. 169). Эти земляные (реже каменные) холмы, воздвигнутые рукою человека, часто с значительной затратой рабочей силы, рассеяны в более или менее большом числе на большей части территории Соединенных Штатов. Мы встречаем их на севере, в области Великих озер, и далеко вглубь территории Канады. К югу от слияния Миссисипи и Арканзаса они начинают, правда, попадаться реже, но все-таки остатки их можно проследить не только до устьев матери рек, но даже вплоть до самых южных частей полуострова Флориды. С западной стороны южная граница области курганов (mounds) еще с положительностью не установлена. Но и здесь она простирается до Техаса и Мексики, соприкасаясь с культурным поясом индейцев пуэблосов и культурных народов центральной Америки. Не менее обширны границы в восточно-западном направлении тогда как на востоке, в штате Мэн, эти курганы достигают почти 70° д., западные форпосты их на севере находятся еще по ту сторону 101°. На этом обширном протяжении курганы не везде многочисленны и распределяются неравномерно. Главное местообитание строителей курганов находилось, повидимому, в бассейне среднего и верхнего Миссисипи и восточных притоков его, и особенно в Огайо, тогда как группы этих сооружений, лежащие вне указанной области, характеризуются более или менее лишь как разветвления, идущие от этого центрального пункта.
Когда в первую треть настоящего столетия начали обращать более тщательное внимание на земляные сооружения в штатах Огайо, Иллинойсе и Висконсине, то были очень поражены значительным числом этих сооружений, огромными размерами, которых достигали некоторые из них, и оригинальными формами иных курганов, напоминавшими подчас правильные математические фигуры. Удивление росло по мере того, как, по мере возбуждения интереса, открывали все в новых и новых местах земляные сооружения такого же или сходного характера. Раскопки, предпринятые сперва лишь в немногих пунктах, дали необъяснимые результаты. Но мало по малу у исследователей, ученых и неученых, сложилось убеждение, что эти курганы – остатки давно исчезнувшей нации. Некоторые, при содействии значительной доли фантазии, не колеблясь, признали прямую связь народа Mound-builders, строителей курганов, с толтеками, которые долгое время считались носителями всякой культуры, открываемой на почве Средней и Северной Америки. Но и более осторожные исследователи держались убеждения, что эти постройки свидетельствовали о существовании высоко развитой культуры в эпоху, отделенную от нас тысячелетиями. Не подлежит сомнению, что искусственные холмы были делом оседлого народа. Индеец, бродящий в состоянии кочевника, не мог иметь ни времени, ни силы, ни повода, чтобы воздвигать даже самые малые из этих сооружений, не говоря уже о таких, правда, немногочисленных, но поражающих своими размерами сооружениях, как в Этовахе, Кахокии и мн. др.; самые большие из них обладаюют объемом в 3–4 миллиона кубических футов. Чтобы возвести подобные постройки не только требовалось население, несравненно более густое, чем какое когда-либо встречалось на всем протяжении северо-американского материка, но это население должно было вместе с тем представлять выдающуюся организацию, необходимую для того, чтобы подчинить огромные рабочие силы, возводившие эти гигантские сооружения, единой воле. Что же это был за народ или государство, которое не только ограничилось одною или несколькими постройками этого рода, но усеяло берега главных рек на протяжении многих миль обширными укреплениями; последние в прежнее время составляли, повидимому, почти непрерывную цепь вдоль Миссисипи от устьев Арканзаса вверх до Иллинойса. Если мы примем во внимание не только область, более густо покрытую ими, но вообще все протяжение, на котором попадаются эти земляные постройки, то должны будем представить себе государство почти с необъятными границами.
Очевидно, оседлое население такой плотности должно было искать искусственных средств к пропитанию. И действительно, результаты раскопок в области курганов показывают, что строители курганов были земледельцы. Найдены не только колосья и зерна маиса вместе с сосудами и орудиями, необходимыми для обработки его, но доказано также, частью непосредственными находками, частью путем умозаключений, что в распоряжении строителей земляных сооружений имелись и другие семена и плоды. Земледелие их должно было стоять уже на высокой ступени развития: тщательными расследованиями установлено существование способов орошения и водопроводов, которые имели местами значительные размеры. Мало того, в низменностях больших рек открыты были обработанные площади, на которых искусственным поднятием возделываемой в виде гряд почвы противодействовали чрезмерной влажности. В ремеслах строители курганов также должны были обладать большим опытом. Гончарные изделия их не только отличались весьма разнообразной формой, приспособленной к самым различным целям, но представляли вместе с тем, в лучших своих экземплярах, высокую техническую законченность. Правда, употребление гончарного круга здесь не могло быть доказано, но некоторые сосуды были, повидимому, покрыты довольно толстою глазурью. Относительно успехов, достигнутых в ткачестве, раскопки не могли дать, конечно, таких же верных точек опоры в виду большей разрушаемости подобного рода произведений. Там и сям, однако, попадаются то грубые, то более тонкие образцы этого искусства. Особенно важным доказательством высшей культуры считались пробы медных предметов украшения, открытых в земляных сооружениях. Вся Америка, когда Колумб открыл ее, пребывала еще в каменном веке. И если здесь найдена была обработанная медь, хотя бы и не в значительных количествах, то это безусловно говорит о народе с высшей культурой. Должен был пройти большой период времени после исчезновения этого народа для того, чтобы такая культура снова окончательно утратилась для потомства.
Этот народ обладал также особенной архитектоникою, что̀ подтверждается почти невероятным количеством возведенных ими земляных сооружений, поразительным обилием больших курганов, а главное, разнообразием форм, которые они сумели придать этим постройкам. Часто, правда, мы видим лишь земляные насыпи в форме усеченных конусов, продолговато-овальные или прямоугольные земляные курганы или террасы, но в других местах являются поразительные формы. Так, некоторые постройки в своих основных контурах ясно напоминают фигуры живых существ. Очертания этих курганов воспроизводят не только змей, рыб, птиц и млекопитающих, но даже человеческие формы. Если это свидетельствует о художественном вкусе древнего народа, то другой род земляных сооружений еще в большей мере способен внушить уважение к культурным успехам его. Были открыты земляные сооружения, которые с такою точностью воспроизводили математические фигуры круга, прямоугольника, квадрата, многоугольника, что, по мнению некоторых исследователей, выполнение их прямо немыслимо без применения инструментов.
Подобный народ должен был и по своим религиозным представлениям высоко подниматься над натурализмом и анимизмом нецивилизованных народов. И в пользу этого мы находим доказательства в сохранившихся остатках. Кроме множества земляных сооружений, которые служили укреплениями, жилищами, или для целей земледелия, встречаются бесчисленные другие, непригодные для этого ни по своему положению, ни по форме. Многие из них оказались могилами частью для отдельных лиц, частью для целых семейств; есть, наконец, и массовые могилы и целые могильные поля вроде кладбищ. Мертвые почти всегда хоронились вместе с вещами, напоминавшими о деятельности их на этом свете. Не подлежит, следовательно, сомнению, что народ строителей курганов верил в загробную жизнь. Нужно думать даже, что религия играла у них чрезвычайно важную роль, охватывала все стороны жизни. Почти везде, где только находились в большом числе земляные сооружения, попадаются также курганы определенного характера, значение которых непонятно с первого взгляда. На основании этих курганов, представлявших, большею частью, коническую форму, или же в более высоких слоях их, находился горизонтальный пласт плотно утоптанной глины или глинистого грунта. По снятии масс земли, покрывающих этот пласт, нам представляется тщательно выравненная поверхность, напоминающая ток с небольшим наклоном к средине, в центре которой можно часто заметить следы огня. Открывшие эту форму курганов считали себя вправе заключить, что здесь находились жертвенные места и что остатки огня суть следы жертвоприношений. И так как в золе были неоднократно находимы человеческие кости, то, по всей вероятности, и у строителей курганов, как и на всем обширном протяжении Нового Света вообще, человеческие жертвы являются существенным элементом религиозных обрядов. На этом основании такие земляные сооружения названы «алтарными курганами»; многочисленность их заставляет думать, что это древнее культурное государство имело большую и влиятельную касту жрецов, которой, вероятно, обязаны также своим происхождением самые величественные из крупных земляных сооружений – ступенеобразные пирамиды, посвященные наиболее чтимым святыням.
Народ, строивший курганы, является перед нами отныне далеко не в туманном свете. На основании находок и по аналогии с культурами, которые были открыты первыми европейцами на американской почве, сложилась довольно определенная картина. Думали, однако, что этот народ должен быть необычайно древним: во-первых, потому, что ко времени открытия Америки исчезло всякое воспоминание о нем; так как он стоял на высокой ступени культуры, то, казалось, требовались значительные периоды времени для постепенного упадка и исчезновения всяких преданий о нем. Во-вторых, в силу одного, особенно замечательного открытия: вблизи Блумингтона (Висконсин) был открыт курган, изображавший животное. Первым исследователям показалось, что формы его напоминают слона или другое какое-нибудь животное с хоботом. С другой стороны, при раскопках в области строителей курганов, среди найденных в большом числе трубок с изображениями животных попадаются фигуры с настоящим хоботом (в отличие от тапира с хоботообразной мордой, почитаемого в Чиапасе как священное животное). На этом основании были убеждены, что строители упомянутого кургана имели представление о слоне или мастодонте, по крайней мере, в форме традиционного воспоминания. А так как хоботные животные вымерли на американской земле задолго до исторической эпохи, то культурная традиция строителей курганов должна быть отнесена к временам, которым принадлежат скелеты мастодонта в долине Миссури. Судя по найденным наконечникам стрел, полагали, что эти животные были убиты человеком.
Хотя только что изложенное мнение о строителях курганов было прежде преобладающим, но, с другой стороны, уже с давних пор многие ученые сомневались в существовании доисторического культурного народа на земле Северной Америки. Они держались того взгляда, что предки тех же индейцев, которые и теперь еще живут в Соединенных Штатах, соорудили описанные курганы в сравнительно новейшие времена. И чем более древняя история Нового Света подвергалась методической разработке, тем больше росло число приверженцев этого мнения. В последние годы северо-американским этнологическим Бюро в Вашингтоне были предприняты в самых широких размерах систематические исследования курганов в самых различных частях Союза. Они доказали неопровержимо, что курганы совсем не так древни, как полагали раньше, и отнюдь не обладают всеми приписанными им особенностями, что они составляют остатки не одного, а различных индейских племен, которые обитали на территории Соединенных Штатов до и после открытия Америки Христофором Колумбом.
Заключения о древности курганов по кургану-слону не были признаны даже многими из тех, которые вообще не сомневались, что строители этого кургана имели в виду изобразить животное, обладающее хоботом. Однако, после новейших исследований возникло сомнение и в этом отношении. Хотя почва этого кургана уже в течение многих лет подвергалась обработке, тем не менее, форма его, если и не так отчетливо, то все-таки сохранилась. Оказывается, что почва эта состоит из очень легкого песку, – и, следовательно, возможно, что хобот образовался только под влиянием продолжительного воздействия стихий, особенно ветров, на головном конце. По всей вероятности, курган первоначально должен был изображать медведя – животное, во многих случаях играющее роль тотема. Новейшие исследования рассеяли и другие старые воззрения, как ошибочные. Так, нельзя, напр., отрицать, что многие курганы в долине Огайо, особенно из так наз. группы Ньюарка, отличаются почти математическою правильностью форм. Однако, то обстоятельство, что из всех кругообразных курганов только один или два почти безошибочно круглы, а огромное большинство их только приближается к кругу, говорит скорее за эмпирические приемы, нежели за употребление, при постройках, точных инструментов. Точно также оказалось большой ошибкою мнение, будто курганы на протяжении всей занимаемой ими области однородны и тождественны и, на этом основании, представляют остатки только одного народа. Напротив, более точные исследования формы и содержимого построек дают возможность установить ряд различных групп курганов с такою ясностью, что в некоторых районах мы в состоянии даже доказать пребывание на одном и том же месте двух различных населений, строивших курганы. Если, таким образом, гипотеза о существовании особого древнего культурного народа строителей курганов и падает, тем не менее, курганы остаются чрезвычайно важной группою памятников, которые ярче всякого другого источника освещают древнейшую историю северо-американских индейцев.
Исходя из того положения, что культурный уровень индейцев со времени открытия Америки оставался, в сущности, тем же или даже несколько повысился под влиянием сношений с белыми, все они, почти без исключения, считались бродячими охотничьими народами, которые обладали неудержимым стремлением к необузданной свободе и потому нигде и никогда не могли соединиться в большие общественные группы и создать оседлые стоянки. Такой вывод неправилен с точки зрения истории. Без сомнения, и в XVI столетии на обширных пространствах Северной Америки бродили беспокойные орды индейцев, живших почти исключительно плодами охоты, которой они отдавались с увлечением. Но рядом и в перемежку с ними и, вероятно, на большей части нынешней территории Соединенных Штатов Северной Америки жили индейские племена, которые в сравнении с первыми сделали весьма большие успехи по пути культурного развития. Правда, индейская политика англо-американских переселенцев, руководимая исключительно точкою зрения своих интересов, теснила уцелевшее потомство этих народностей и стремилась низвести их до культурной ступени, мало чем отличающейся от уровня их соплеменников, пребывающих в неприкосновенной дикости. Но они оставили нам в своих курганах и могилах свидетельства культуры, говорящие неопровержимым языком, Беспристрастная проверка древнейших рассказов о первой встрече белого и красного человека на северо-американской почве подтверждает в бесчисленных подробностях предположения, к которым приводят находки в курганах. Правда, единичные исследования в этом направлении не настолько еще созрели, чтобы возможно было утилизировать ценный материал источников во всей его полноте. Мы слишком мало знаем о переселениях древних индейцев до Колумба для того, чтобы нам возможно было всюду с положительностью установить связь между границами археологических областей и определенными племенными границами. Но там, где это теперь уже возможно, памятники древности существенно способствуют разъяснению исторических гипотез. При совместном усилии различных методов исследования область невыясненного будет суживаться из года в год.
Вся область бассейна Миссисипи, представляющая широкую полосу земли, которая начинается в стране Великих озер на севере и доходит до низменностей нижнего Миссисипи, была заселена в древнейшую эпоху племенами, которые соединяются в общую группу под именем алгонкинов. Из более известных индейских племен сюда принадлежат чиппевеи на севере, делавары, могикане и оттавы на северо-востоке и шаунисы на юго-востоке. На основании их преданий, принимают, что первоначальная родина их находится на северо-востоке и притом по ту сторону Великих озер, хотя еще до эпохи Колумба они были совершенно вытеснены оттуда нациями племени ирокезов. Переселения с севера шли, повидимому, двумя отдельными ветвями. Одна ветвь двинулась в юго-восточном направлении, главным образом, вдоль побережья океана; но она не ограничивалась, подобно туписам на юге, занятием лишь узкой полосы на морском берегу, но растянулась широко и следовала навстречу рекам, направлявшимся к морю, до самых Аллеганских гор. Несмотря на близость воды, алгонкины едва ли когда были исключительно рыболовным народом. Сомнительно, чтобы они занимались земледелием еще во время своих восточных передвижений. В более поздние периоды, во всяком случае, и восточные алгонкины обработывали землю. С другой стороны, не подлежит сомнению, что соплеменники их, которые направились к западу вдоль Великих озер и в отдаленную эпоху заселили берега их, уже тогда были земледельцами. Как и всегда, племена эти, разделившись, с течением веков становились все более чуждыми друг другу и по нравам, и по образу жизни. И если бы не родство языков, представляющих несомненные общие корни, то едва ли возможно было бы признать в чиппевеях северо-запада и шаунисах юга братьев одного и того же племени.
Обширная группа народов племени алгонкинов отличается от всех прочих индейцев Северной Америки сравнительно высоким развитием цивилизации. Несомненно, что уже в ранние периоды они усвоили оседлый образ жизни и посвятили себя земледелию. Едва ли также можно считать случайностью, что религиозные представления их сходятся во многих пунктах с воззрениями их соседей на крайнем северо-западе. По некоторым особенностям в этой области можно было бы даже заключить, что родина их скорее находится на северо-западе, чем на востоке, так как некоторые из них напоминают, с одной стороны, тинне, а с другой племена пуэблосов. Чиппевеи и ленапы обладают уже в своих разрисованных деревянных дощечках или палках системою обмена мыслей, которая поднимается за пределы чисто образного характера до высоты гиеороглифической символики, служившей, главным образом, для запоминания священных обычаев. С религиозной системой их, с поклонением солнцу и четырем странам света, как родине богов ветров, мы познакомимся ниже, в более развитой форме, у индейцев пуэблосов (см. ниже стр. 225).
Дальнейшее сходство с последними заключается в системе тотемов – знаков отличия родов, которые, кроме пуэблосов, встречаются еще у многих индейских племен тихо-океанского побережья вплоть до тлинкитов (на границах Аляски). По этой причине мы имеем, во всяком случае, право считать народы этого племени строителями тех своеобразных земляных сооружений, которые известны под названием образных курганов (effigie-mounds). Интересно, что эти курганы изображают всех животных (медведь, змея, различные птицы, рыбы и проч.), от которых происходит большая часть племенных названий и святынь (тотемов, см. выше, стр. 49). Так как эти земляные постройки не служили могилами и мало пригодны были как укрепления, то нужно думать, что они играли роль сборного пункта для совершения обрядов, подобно сборным помещениям у ирокезов или кивам индейцев пуэблосов. Трудно допустить, чтобы индейцы алгонкинского племени были также строителями курганов на среднем Миссисипи и на Иллинойсе, тем более, что в этой области встречаются курганы различных типов, которые все отличаются от курганов Висконсина. Если доверять мало надежному преданию ленапов или делаваров, то придется даже ответить совершенно отрицательно.
Не взирая на разнообразные успехи на пути цивилизации алгонкины не возвысились до постройки постоянных жилищ. Это тем более странно, что они могли видеть таковые у соседних индейцев пуэблосов, с которыми находились, повидимому, в торговых сношениях. Это не дает еще, впрочем, права ставить их ниже на лестнице культуры. Постройка каменных сооружений, которые лучше деревянных хижин, обмазанных лишь известью, и вернее защищают от разрушительного влияния времени, чем курганы, сделанные из одной земли, весьма легко может дать ошибочное представление о степени культуры народа. На низших ступенях культуры человек прежде всего зависит от окружающей природы. Богатые известняком и песчаником плоскогорья запада дали возможность индейцам пуэблосов без особого труда сделаться довольно искусными строителями; алгонкины, населявшие лесистые и холмистые страны области озер, лишены были возможности представить потомству одинаково внушительные доказательства своей культуры. Но взамен этого алгонкины могут похвалиться одним, чего не достигло никакое другое племя индейцев Атлантического севера: они были знакомы с медью и обрабатывали ее. Конечно, холмы между озером Верхним и Мичигэном давали ее в таком чистом виде, что лучшим кускам удавалось придавать форму при помощи одного молота в холодном состоянии; но, вероятно, они знали также первобытный метод плавления и ковки, при помощи которых они формировали бусы и небольшие металлические пластинки; затем, посредством дутья, они выдавливали на этих последних пластические изображения фигур.
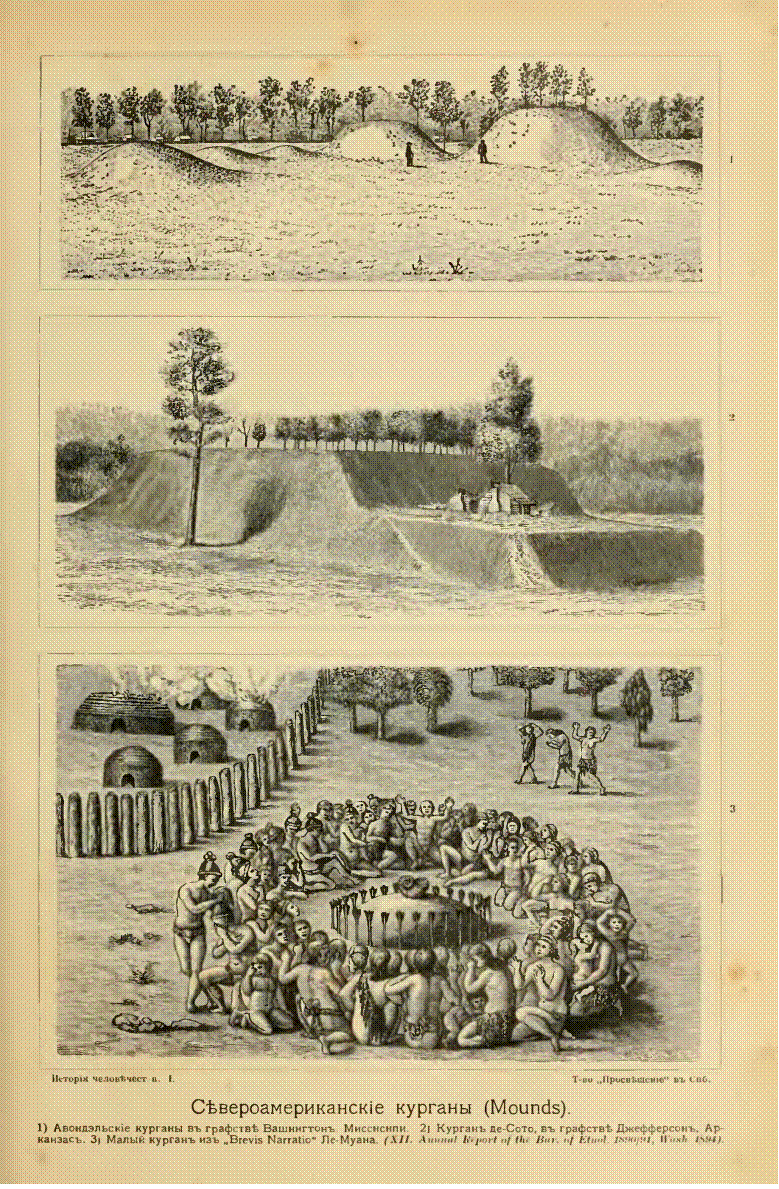
Когда толпы алгонкинов, двигавшиеся к юго-востоку, перешли реку Саванну, они натолкнулись на сплоченные массы чуждых им по племени индейцев, которые задержали движение их в прежнем направлении. В первое время это повело к остановке. Но численность алгонкинов все более росла, пространство становилось слишком тесным для них, и переселения возобновились, на этот раз в западном направлении. Индейцам, которые, двигаясь на встречу верхнему течению Саванны, перешли Аллеганы и начали расселяться в долинах реки Зеленой и Теннесси, соседи, после долгого пребывания их у Саванны, дали им название этой реки; под именем саваннисов, которое с течением времени преобразовалось в шаунисов, они сохранили воспоминание об этой стоянке во время своих переселений и перенесли его в историческую эпоху.
Шаунисы и родственные делаварские племена индейцев, очевидно, принимали существенное участие в постройке курганов, которые встречаются на нижних притоках Огайо, на протяжении Теннесси и соседних провинций. Многие подобные курганы этой области были воздвигнуты частью в отдельности, частью группами и нередко в связи с большими земляными сооружениями и окопами для целей погребения. При этом самый способ погребения был настолько характерен, что несомненно может служить отличительным признаком племени. Между тем, как в других областях курганов мертвые часто хоронились в сидячем положении, подобно мумиям Южной Америки, или же, после очищения костей от мяса, предавались погребению лишь кучи костей, здесь мы находим способ погребения, весьма сходный с европейским: дно и четыре боковых стенки ямы выкладывались плоскими каменными плитами и в нее клали умершего в лежачем положении на спине. Плоские камни служили крышкою этого каменного гроба. Если между плитами существовали промежутки, через которые могла проникнуть земля, то их закрывали вторым слоем плит меньшего размера. Такого рода могилы часто попадаются и без устроенных над ними курганов; но они особенно многочисленны внутри небольших конусообразных курганов (см. рис. 1 на таблице «Северо-американские курганы») вдоль южных притоков нижнего Огайо, в которых шаунисы и соплеменные индейские народы обитали вплоть до исторических времен. Уже отсюда можно заключить, что именно они были строителями могил и связанных с ними земляных сооружений; но мы имеем и прямые доказательства того. Таким образом, в наших руках есть важный аргумент для определения древности некоторых групп земляных сооружений, опровергающий фантастическое предположение, будто прошлое их измеряется тысячелетиями. Обычай хоронить умерших в каменных гробах, как описано выше, практиковался шаунисами не только в исторические времена, но вплоть до нашего столетия, – там, где имелись подходящие для этого камни; он был наблюдаем многими исследователями в различных местах независимо друг от друга. В более древних известиях неоднократно упоминается о сооружении кургана в несколько футов высоты и конической формы. Кроме того, раскопки обнаружили, что в могилах этого рода вместе с покойниками часто находились вещи несомненно европейского происхождения. Следовательно, могильные холмы этого типа несомненно доказывают, что временами здесь жили представители группы шаунисов алгонкинского племени, переселения которого в этой области продолжались еще в исторические эпохи и даже после Колумба.
Индейцы, остановившие движение алгонкинов в южном направлении, вероятно, принадлежали к группе мускогисов, наиболее известными представителями которых были крики и чиказавы. Хотя это были первые индейские племена, которые во времена открытия пришли в соприкосновение с европейцами – главная часть авантюристского похода де-Сотоса от Флориды до Миссисипи происходила на территории обитаемой индейцами племени мускогисов, – тем не менее, исследование пока относилось к ним более пренебрежительно, чем к северным племенам. Так как потомки этого народа оказались только по берегам рек, текущих параллельно Миссисипи к Караибскому морю, но на этом пространстве образовали плотную массу, до открытия Америки нигде не прерывавшуюся чужими племенами, то нужно думать, что они были менее охвачены стремлением к странствованиям, чем большинство других индейцев. Страна, в которой они жили в XVI веке, была, вероятно, древней родиною племени. Быть может, это – потомки древнейших обитателей востока северной Америки. К северу, по близости Миссисипи, а может быть, и далее к востоку, места обитания их занимали в древнее время гораздо большее пространство. В этом смысле, быть может, и верно предание ленапов относительно того, что они вытеснили мускогисов из более северных поселений их на Миссисипи.
Мускогисы также не стояли на той низкой культурной ступени, которая обыкновенно приписывается, на основании новейших воззрений, древнему индейскому населению материка. Они обрабатывали землю в самых широких размерах и продукты их земледелия вызывали удивление испанцев де-Сотоса. Поселения их испанцы называли городами, и некоторые из них имели большое число жителей. Мускогисы принимали также деятельное участие в устройстве искусственных холмов, и характерные признаки возведенных ими земляных сооружений свидетельствуют о достигнутых ими успехах. В стране мускогисов находится несколько из величайших курганов, какие вообще встречаются на всем пространстве строителей курганов. Эти земляные сооружения, которые служили в то же время жилищами для выдающихся членов племени и убежищем всему племени при нападениях врагов, не походят на круглые и конические формы, свойственные малым курганам, а скорее напоминают постройки в виде террас, на которых возвышались храмы и дворцы культурных народов средней Америки. Курган де-Сотоса, относительно которого, впрочем, нельзя безусловно утверждать, что он воздвигнут мускогисами, дает приблизительно картину этого типа. (См. рис. 2 картины «С. Американские курганы»). Самое величественное сооружение этого рода представляет курган Этоваха в южной Георгии. Можно с положительностью доказать, что он был обитаем племенами мускогисов еще в начале XVI столетия и служил дворцом и укреплением их начальников. Он был окружен рядом менее значительных холмов, окруженных, в свою очередь, укреплениями, частью в виде валов, частью наполненных водою рвов. Это может дать нам представление о характере древне-индейских городов и вполне согласуется с изображением Лемуана (см. рис. 3 той же картины).
Мускогисам принадлежит еще одно культурное завоевание, заставляющее думать, что они уже в очень древние времена перешли к оседлости. Несмотря на то, что земля обитаемой ими области не давала материала для массивных построек, они, единственные из индейцев востока, все-таки перешли к устройству жилищ более прочных, чем жилища из одних растительных веществ. Новейшие исследования и раскопки доказали, что часть курганов, которые принимались первыми исследователями за алтарные холмы, на основании слоев глины, похожих на ток, и найденных под ними остатков золы и костей, в действительности, несли на себе дома индейцев-мускогисов, построенные на умеренных возвышениях. Остатки домов, по которым еще местами можно узнать круглую, но большею частью четырехугольную форму, показывают, что эти индейцы строили свои жилища из деревянных свай, расположенных рамою, между которыми поперечные брусья, переплетенные прутьями и ветвями, служили остовом для обшивки стен. Снаружи эта обшивка оставалась в грубом виде, а с внутренней стороны она тщательно сглаживалась и, вероятно, покрывалась штукатуркою таким же образом, как в архаических постройках индейцев пуэбло (см. ниже, стр. 218). Слой извести покрывал только боковые стены в рост мужчины; сверху поднималась сводчатая крыша, поддерживаемая свободными концами столбов и гибкими жердями, крытая растительным материалом – воспоминание о шалаше, который был в употреблении у большинства индейских племен и в более древнее время, без сомнения, и у мускогисов. Присутствие костей и куч золы в курганах объясняется обычаем после смерти соплеменника предавать дом его пламени, как это видно и на рисунке (см. рис. 3 картины «С. Америк. курганы»). Правда, в изображении Лемуана погребение происходит, повидимому, вне черты деревни под курганом, который так мал, что его следует считать лишь ядром и первым началом будущего могильного холма. Вообще мускогисы хоронили своих усопших в самом доме и место сожигания засыпали землею, как скоро огонь настолько уничтожал стены, что здание обрушивалось. Этот своеобразный способ погребения, оставивший следы и в историческую эпоху, характеризует в свою очередь, подобно каменным могилам шаунисов, известный этнографический район и проливает некоторый свет на древнейшую историю индейских народов, окруженную почти полным мраком.
На севере, как и на юге, область алгонкинов граничила с чуждыми им по племени индейскими народами. В окружности Великих северо-американских озер и по берегам реки св. Лаврентия обитало племя ирокезов. Народы этого племени выделялись среди остальных индейцев своим сильным физическим развитием и, вероятно, как следствием его, – храбростью, задорностью и военными доблестями, отчего они считались долгое время самыми страшными врагами. Ирокезы в тесном смысле только в последние столетия перед колонизацией Северной Америки сделались важным фактором в истории этих стран. Но еще в очень отдаленное время от них отделилась ветвь, чирокисы, которая играла в древнейшей истории Америки не менее значительную роль, чем впоследствии, в эпоху владычества колоний. Предполагают, что первоначальная родина общей коренной народности ирокезов и чирокисов находилась в самой северо-восточной части области, занятой ими впоследствии. В историческое время, правда, вся область озер, со включением пространств, граничащих с юга и запада, была занята ирокезами и родственными им по племени гуронами. Но это перемещение не могло совершиться в очень отдаленное время, так как эти племена, повидимому, принимали мало участия в сооружении искусственных холмов. Мы должны заключить, поэтому, что земляные сооружения Мичигана и Висконсина сделаны алгонкинами, которые раньше жили в этой местности. И так как эти северные постройки редко носят оборонительный характер, то, по всей вероятности, они были воздвигнуты до периода войн, которыми должно было сопровождаться распространение ирокезов. Таким образом, племена, воздвигнувшие эти курганы, пережили эпоху своего расцвета и, быть может, даже переселились в другие области в то время; когда народы семьи ирокезов стояли всего выше и завоевали бо́льшую часть северной окраины Америки.
Отделение чирокисов от главного ствола принадлежит, наоборот, гораздо более ранней эпохе. Направление их переселений вполне удовлетворительно объясняется, если допустить, что первоначальная родина племени находилась на крайнем северо-востоке. Чирокисы являются тогда первой народной волною, двинувшейся в южном направлении с течением времени они достигли бассейна Огайо, где, как это доказано, жили очень долго. Без сомнения, они застали эти области уже заселенными: здесь, как и далее, к югу и западу, еще до них алгонкинские племена находились не только временно, но основали прочные поселения и обрабатывали землю. Этому обязана своим происхождением, но крайней мере, часть курганов на дальнейшем течении Огайо. Частью под влиянием соседей, частью же будучи вынуждены постоянными войнами, чирокисы также начали воздвигать искусственные холмы, которые выделяются, однако, по своим этнографическим особенностям и образуют как бы особую провинцию среди обширной области курганов. Две черты отличают их: во-первых, мертвые похоронены в лежачем положении хотя в более или менее непрочной оболочке (древесная кора, ткани), и, большею частью, в могильных холмах, заключавших одновременно много погребенных. Во-вторых, в этих могилах встречаются трубки от самых архаических и почти до современных форм, какие только употребляются индейцами.
Курение трубки встречается в области курганов далеко за пределами распространения чирокисов. Нужно думать, что возделывание табаку составляло во всей этой области существенный элемент земледелия (см. стр. 170). Долина верхнего Огайо дает не только самые многочисленные, но, судя по формам, и самые древние типы индейской трубки. Мы можем проследить последовательно все дальнейшие ступени развития трубки с такою ясностью, что должны предположить здесь местообитание народа, особенно тесно связанного с историей курительной трубки. Этим народом и были чирокисы. Курганы этой области окружены валами, которые поражают иногда своей почти математическою правильностью. Но так как они не ограничиваются верхним течением Огайо, то возможно, что большая часть их была воздвигнута прежними обитателями долины, для защиты от наступавших чирокисов, и что эти последние, после завоевания, восстановили их для той же цели. Могилы чирокисов несомненно имеют связь с некоторыми из этих групп курганов. Очевидно, завоеватели усвоили себе нравы и обычаи вытесненных племен, по крайней мере, в отношении земляных сооружений. Насколько они сами способствовали дальнейшему развитию этой первобытной архитектуры, трудно, конечно, выяснить. В общем, движение чирокисов по долине Огайо происходило в эпоху до Колумба; но оно еще не было закончено в то время, когда белые проникли в эту область. И только немного южнее, в долине небольшой реки Теннесси, сходство между сохранившимися еще группами курганов с положением так наз. (Overhill-towns) надгорных городов чирокисов, как они срисованы древнейшими очевидцами, доказывает, что эти индейцы и в дальнейшем странствовании остались верны принятому способу сооружения курганов.
Еще раз, повидимому, от главного ствола ирокезов отделилась большая ветвь, когда гуроны двинулись в западном направлении к озерам по южному берегу реки св. Лаврентия. Весьма вероятно, что это случилось в эпоху, предшествовавшую переселению ирокезских племен к атлантическому югу, хотя доказать это трудно. В то время, как сознание связи между «пятью нациями» ирокезов и наиболее отодвинутыми к югу тускарорами было настолько живо, что последние могли еще в начале XVIII столетия вернуться на север и были приняты в союз, как шестая нация, – между ирокезами и гуронами происходили с незапамятных времен столкновения, свидетелями которых были уже первые переселенцы и которые оказали известное воздействие на самый характер колонизации страны европейцами.
В культурном отношении эти ирокезские народы, большею частью, без сомнения, уступали чирокисам. Они вели оседлый образ жизни и в скромных размерах занимались земледелием. Когда первые колонисты поднялись вверх по реке св. Лаврентия, Гохелага представлял настоящий город с прочной оседлостью. Встречаются в этой области и земляные сооружения, обозначающие места поселений древних индейцев. Но в них не видно признаков высшей культуры, соответствующей более южным областям. Они носят явный характер оборонительных сооружений и, вероятно, возникли лишь в то время, когда ирокезы в тесном смысле начали насильственно захватывать и заселять территории своих соседей. Это не могло быть задолго до открытия Америки, так как войны еще продолжались в то время, когда первые белые начали проникать с побережья вглубь страны.
Ирокезами в тесном смысле называют только те племена, которые жили в самых северных Штатах Союза и пограничных областях Канады до эпохи первой колонизации. От времени до времени и они воздвигали земляные сооружения, что доказывает стремление к оседлости, хотя постоянные жилища и земледелие, эти основы культурного развития, не играли у них такой роли, как у большинства других наций. Из всех племен, которых застали первые европейские колонисты на американской земле, ирокезы наиболее приближаются к типу, ошибочно принимаемому за характерный для совокупного индейского населения Северной Америки.
По существу ирокезы представляли еще охотничий народ и притом такой, который с одинаковой беспощадностью и жестокостью преследовал добычу в виде диких животных и людей. Так как они жили внутри страны, то судоходство и рыбная ловля не играли в хозяйстве их той роли, как у туписов и караибов, хотя они строили превосходные челноки из древесной коры и умели запруживать изобиловавшие рыбою рукава рек для вылавливания рыбы с таким искусством, которое свидетельствует о долгом опыте. Главной стихией их жизни была, однако, охота и война. Своим физическим развитием ирокезы превосходили большинство соседних народов. Благодаря сравнительно дикому образу жизни, они могли развить свои физические силы в такой степени, которая немыслима даже в самых первых стадиях культурной жизни. Эта сила ирокезов и еще более их кровожадность и дикая жестокость внушали страх близким и более дальним соседям. Даже племенное родство не заглушало в них воинственных стремлений, что доказывают войны между ними и гуронами; последние, не уступая своим врагам по численности, должны были все более и более отступать в виду своего мирного характера. Набеги ирокезов не ограничивались западом, который едва ли можно считать даже главным путем их. Тяжело приходилось и южным соседям от этих вражеских вторжений. Нужно думать, что эти нападения явились причиною последнего переселения американских народов, о котором еще следует упомянуть, переселения сиусов-дакотов, имевшего место не далее, как в последние столетия перед Колумбом. Характерным признаком военного превосходства ирокезов служит то, что единственные проникшие на юг шайки были, повидимому, немногочисленны, по крайней мере, основанные ими в завоеванных областях племена не представляли значительного населения: сюда относятся конестоги и сускеганноки по берегам реки того же имени.
Особенно прославил ирокезов союз, в силу которого пять племен, оставшихся на прежней родине, соединились для совместного нападения и обороны. В этом хотели видеть доказательство способности к образованию государства и, следовательно, более высокой степени интеллектуального развития сравнительно с прочими индейцами. Однако, против такого взгляда можно привести весьма веские возражения. Прежде всего не доказано, что этот союз есть продукт самостоятельного духовного развития индейцев, без примеси постороннего влияния. До сих пор всеми принималось, что лига ирокезов образовалась уже в XV столетии около 1430 года. Но по мере более тщательной проверки фактов, лежащих в основе индейского предания, все более приходили к убеждению, что все, приписывавшееся дикарю бесконечно дальнего прошлого, не знавшему письмен и не имевшему истории, в действительности, восходит не далее нескольких поколений. Согласно новейшему вычислению, лига была, вероятно, основана только около 1560 года. Это предположение подкрепляется рассказами о междуусобиях между различными ирокезскими нациями, которые едва ли можно отнести к столь далекому прошлому, как 1430 год. Если же союз возник так поздно, то ему должны были предшествовать первые встречи с белыми. Были ли это – столкновения мирного или воинственного характера, во всяком случае, они должны были оказать существенное влияние на самое возникновение мысли о союзе, и эта мысль, без сомнения, выразилась бы иначе при чисто индейских условиях.
Точно также воззрение, которое распространяли относительно целей союза, делает слишком много чести начальникам, вступившим между собою в соглашение. Мысль, будто лига стремилась вообще уничтожить войны и водворить вечный мир между всеми индейцами, так резко противоречит всей истории ирокезского племени и до, и после заключения союза, что здесь, очевидно, кроется недоразумение. В преувеличенном способе выражения индейцев, употребленном при формулировке акта союза, можно усмотреть лишь желание уладить слишком частые столкновения, которые раньше всегда бывали между мелкими племенами ирокезов. Но даже с таким ограничением союз «пяти наций» все еще сохраняет громадное значение и обеспечивает Гайявате, начальнику онондагов, который считается душою объединения, такое же выдающееся место в истории, какое создано ему в литературе бессмертной поэмой Лонгфелло. Во всей истории американских народов, не исключая и культурных, нет другого примера, чтобы у туземцев возникала мысль прочно подчинить высшим соображениям чувство независимости, преувеличенное у них до необузданности (ср. стр. 220 и 233). Союзы между родственными по племени народами мы встречаем и среди мексиканцев; но основание их не так понятно, как лига ирокезов и, кроме того, они не отличались тою же прочностью и даже приблизительно не оказали такого влияния на судьбы нации. Для ирокезов деяние начальников племени, полное самоотвержения, имело то последствие, что они сохранили преобладание над соседними нациями до самого падения их под напором белого человека. И если в настоящее время нации ирокезов, вошедшие в состав союза, представляют наивысший процент среди туземцев, которые не только не стерты европейской культурою, а, наоборот, сумели примириться с нею и даже стать, благодаря этой культуре, достойными гражданами современного государства, то, в конце концов, они обязаны этим прозорливости своих предков: основанием союза последние положили фундамент политического строя, который дал им превосходство над туземцами и вызвал уважение и внимание со стороны новых переселенцев.
Когда народы ирокезского происхождения начали распространяться к югу, что́ случилось, как мы упоминали, лишь в последние века до открытия Америки, они пришли в столкновение и вмешались в войны не с одними только алгонкинами. Еще другое племя было вытеснено ирокезами из своего прежнего местообитания и вынуждено искать новые земли. То были народности из племени сиусов или дакотов, которые, правда, в то время для правительства Соединенных Штатов не имели еще, повидимому, такого значения, как впоследствии. Благодаря лингвистике, историческое исследование сделало открытие, что и эти индейцы, знаменитые сопротивлением, которое они оказывали на дальнем западе переселенцам в течение XIX века, жили первоначально на восток от Аллеганских гор, в Виргинии и Северной Каролине. Лингвистика открыла в языке индейцев средних штатов, долгое время остававшихся в тени, более архаические формы того же коренного языка, на новейших диалектах которого говорят к западу от Миссисипи, в обширных владениях сиусов и дакотов. Уже на востоке нации этой группы были обречены почти исключительно на занятие охотой и нужно думать, что они никогда серьезно не занимались земледелием и не имели постоянного местожительства. В виду того, мы не можем установить связи их с той или иной областью индейцев, строивших курганы. В то же время в пределах их позднейших местообитаний на западе земляные сооружения попадаются в очень скудном числе и притом на границах других племен; возможно, следовательно, что они не участвовали в сооружении этих древних культурных памятников. Народ подвижных и беспокойных охотников, слабо прикрепленный к земле, естественно скорее должен был отступать перед напором энергического врага, чем земледельческие алгонкины и чирокисы. Были ли у них стычки с последними в долине Огайо, этого не видно из темного предания, которое сохранилось у племен сиусов о переселении с востока. Во всяком случае, это переселение произошло позже отделения чирокисов от главного ствола ирокезов. По всей вероятности, однако, пути обоих народов мало соприкасались: племена сиусов, спустившись до Биг-Сэнди, достигли Огайо лишь в одном месте, которое лежало на юго-западной границе области распространения чирокисов. Движение сиусов приняло более медленный темп, как скоро они очутились вне враждебного влияния ирокезов. Названия мест и рек подтверждают предание, что эти племена делали продолжительные остановки в различных местах долины Огайо, хотя, по всей вероятности, это не были окончательный места оседлости; европейцы, следуя вниз по течению Огайо, не встречали более по берегам его наций этого племени. В названиях, которые были даны соплеменниками различным группам, отражается древнее обособление выше и ниже реки. Однако, де-Сото, пересекая поперек американский материк, встретил лишь по ту сторону Миссисипи нации племени сиусов. Это доказывает, что все переселение народов из восточных штатов до границы области, которую они занимали еще в XIX столетии, совершилось в эпоху до Колумба.
Когда первые белые вступили на американскую землю, эта обширная область была еще заселена некоторыми племенами, но о них мы знаем бесконечно мало. Даже те, добытые с величайшими усилиями сведения, какие мы имеем о великих племенах алгонкинов, мускогисов, ирокезов и сиусов, так скудны, что едва ли мы можем назвать их историей этих племен. Ревностные исследования, предпринятые только в самое последнее время на американской почве, откроют еще многие памятники, важные для истории, но едва ли когда-нибудь наука сумеет восстановить картину доисторической жизни американских индейцев более, чем в отдельных крупных чертах.
D. Индейцы северо-запада
Если подвигаться с востока, то, перейдя Скалистые горы, мы вступаем в область культурного развития, бесспорно имеющего иной склад. Это особенно бросается в глаза, когда мы переходим чрез верхнее течение Рио-Гранде и притоки Колорадо из территорий охотников за бизонами в область индейцев пуэбло. Но при более точном исследовании оказывается, что все народы Тихо-океанского побережья до границы области эскимосов в Аляске представляют глубокое сходство в развитии своих нравов и что это сходство, не взирая на лингвистические различия, ставит их в более близкие отношения между собою, чем с восточными соседями их.
Обитатели крайнего северо-запада, тлинкиты, гайдахи и нутки представляют почти исключительно рыболовные народы – явление далеко не частое на почве Северной Америки. И притом, очевидно, они сделались таковыми не под давлением окружающей природы, но с самого начала развивались в этом направлении. В пользу такого вывода говорит то обстоятельство, что, несмотря на сравнительно высокое развитие племенных особенностей, в преданиях нет указаний на какое-либо иное предшествовавшее состояние. Когда они впервые пришли в соприкосновение с европейцами, то, независимо от посторонних влияний, у них найдено было множество признаков культуры, развивавшейся постепенно в течение очень долгого периода. Они были искусными рыболовами и судостроителями, что не удивительно в виду господствовавших жизненных условий. Но для древности их культуры и достигнутых ею успехов характерны две вещи: их социальное расчленение и художественные наклонности.
Подобно некоторым восточным индейцам, северо-западные туземцы придавали главное значение не семье, а роду (gens). Поэтому они не жили в отдельных домах, а строили для всех семейств, принадлежащих к роду, один дом, но с подразделениями. Та же общность господствовала и вне дома: общая работа и результаты этой работы также общие. Особенно была развита у них система тотемов (ср. выше, стр. 50 и 208), – племенных символов, заимствованных из мира живых существ. Члены племени и только они одни поклонялись этим символам, как фетишам. Тотемы, без сомнения, имели известное влияние на развитие художественных стремлений; изображения родовых фетишей являются одними из самых частых выражений художественного вкуса. Иногда они имели гигантские размеры, как, например, деревянные изображения предков, в виде столбов, которые воздвигали гайдахи и беллакулы. При этом они пользовались самым разнообразным материалом – деревом, камнем, костью, но не глиной. Расчленения племени вели, с течением времени, к образованию более сложных общественных групп. Почти у всех индейцев северо-запада существовало рабство, и притом в наиболее резкой форме: раб признавался вещью господина, и последний был властен продавать его. Это предполагает уже более высокое развитие понятий о роде, семье и собственности по сравнению с тем, какое мы встречаем у многих других индейских народов: у этих последних рабы вербовались почти исключительно из военно-пленных, которые претерпевали мученическую смерть или сливались с племенами победителей. В пользу такого развития говорит более или менее обширная торговля, которую вели почти все эти народы (сагаптины странствовали от верхней Колумбии до Миссури); при этом они даже пользовались деньгами в виде раковин, как определенной меновой ценностью, что, повидимому, практиковалось на протяжении большей части тихоокеанского побережья вплоть до границы мексиканских культурных государств. Наконец, все тихоокеанские племена были оседлы, хотя в силу климатических условий они или совершенно не знали земледелия, или отводили ему лишь второстепенную роль. Способ их оседлости был довольно оригинален; они обладали прочными зимними жилищами, построенными из камня и земли, в которые они постоянно возвращались, а во время рыбной ловли воздвигали в различных местах временные летние жилья. Во всех этих особенностях замечается глубокое сходство между индейцами северо-американского запада (если не считать многочисленных рассеянных между ними в средней Калифорнии племен с поразительно низким развитием). Это сходство отнюдь не ограничивается береговыми племенами, живущими рыбною ловлею; бесчисленные точки соприкосновения связывают их и с земледельческими племенами, обитавшими дальше к югу и востоку. Надо думать, что здесь существовали связи, помимо влияния жизни по соседству при сходных условиях.
E. Народы пуэбло
К югу и юго-востоку от территории северо-западных индейцев, минуя ряд мелких племен, из которых некоторые стоят еще на весьма низкой ступени развития, мы снова встречаем обширную область с однородным культурным складом, которая с древнейших времен необычайно интересовала исследователей. Это – область индейцев пуэбло. Остатки этих народов уцелели до наших дней при всех превратностях колониальных войн и при таких условиях, которые и теперь еще дают возможность изучать сохранившиеся у них следы древней культуры. Самые смелые исторические гипотезы возникали в связи с этими народностями. И они, подобно строителям курганов, образовали в доисторическое время могущественное и обширное царство с высокой цивилизацией. Еще теснее, чем в долинах Огайо и Миссисипи, была предполагаемая связь их с толтеками и ацтеками, представителями культурных государств Центральной Америки. Это подтверждало замечательным образом оригинальное предание последних.
Когда испанцы, после завоевания Мексики, стали расспрашивать ацтекских жрецов и знатоков письменности о доисторической жизни их народа, те могли рассказать им следующее. В отдаленные времена они двинулись из места Ацтлан, которое находилось далеко на севере у большого озера. Во время своих дальнейших бесконечных странствований они раздробились на отдельные племена, основали в различных местах временные поселения и, наконец, остановились у Мексиканского озера, чтобы построить здесь город Тенохтитлан. Это предание в течение многих веков служило пищею для фантастических измышлений. Большое озеро, у которого лежал Ацтлан, являлось будто бы указанием на область Великих Озер Северной Америки, и один находчивый американец назвал даже фортом Ацтлан группу земляных сооружений в Висконсине. Все сооружения невыясненного культурного типа, которые встречались к северу от границы Мексиканского государства вплоть до области озер, принимались за стоянки ацтеков. Однако, весьма сомнительно, чтобы это предание имело вообще фактическое основание. Что касается направления распространения высшей культуры, то в истории народов центральной Америки мы натолкнемся на факты, которые трудно согласовать с ацтекским преданием (см. ниже стр. 252 и след.). Тем не менее, в этой легенде нельзя не видеть отражения смутного сознания доисторического родства между ацтекским культурным народом и северными соседями его, еще не достигнувшими одинаковой высоты цивилизации. Полагают, что родство языка с народами племени нагуа – из которых наиболее известны мексиканские ацтеки – можно проследить до самого центра страны пуэбло, до группы городов, названной испанцами Тусайяном и известной теперь под именем главного города Моки. Все эти племена представляют неоспоримые сходства в образе жизни, религиозных представлениях и древних преданиях. Но столь же несомненно и, пожалуй, даже еще важнее существование сходных черт характера между индейцами пуэбло и северными соседями их. Мы приходим таким образом к выводу, что вся масса народов, на протяжении от Аляски и почти до самого перешейка, состоит из членов одной большой этнической семьи. Правда, отсутствие всякого лингвистического сходства заставляет думать, что эта масса уже в очень отдаленную эпоху распалась на различные ветви.
Если принять во внимание, с каким упорством именно полуцивилизованные народности держатся всего, что имеет связь с их религиозными представлениями, даже тогда, когда условия, создавшие эти традиционные установления, давным давно исчезли, то тем более замечательно, что именно в этой области были открыты поразительно сходные черты между индейцами северо-запада и народами пуэбло. На всей территории последних существуют священные места, на которых совершается большая часть религиозных обрядов, тогда как другие церемонии там, по крайней мере, подготовляются. Индейцы пуэбло называют эти места кивами. Испанцы, не понявшие особенностей их устройства, дали им название estufa. Архитектура кивы в существенных чертах значительно отличается от всех прочих сооружений индейцев пуэбло. Кива лежит всегда более или менее в стороне от тесно скученных и громоздящихся друг над другом построек, из которых состоит пуэблос (деревня). Оригинально, что, по крайней мере, часть ее, часто даже вся она, находится ниже поверхности земли, и в нее приходится спускаться по лестнице, которая ведет от входа, сделанного по средине кровли. Для индейцев пуэблосов кива есть то же самое, что дом собраний для восточных индейцев: мужчины сходятся здесь для обсуждения общих дел и, главным образом, для подготовления и совершения своих религиозных обрядов. В пуэблосах, населенных индейцами, до сих пор еще существует целый ряд таких подземных сборных домов, и там, где миссионерам не удалось еще покончить с остатками прежних обычаев, они служат для прежних целей. Если мы будем сравнивать эти кивы с теми, которые встречаются в развалинах древних, давно разрушенных индейских городов, то оказывается, что века сношений с белыми не вызвали почти никаких изменений в кивах.
В обитаемых пуэблосах, даже таких, которые, по всей вероятности, превратились в развалины прежде, чем коснулась их нога европейца, кива представляет прямоугольное здание, но в развалинах встречаются кивы круглой формы и при том тем чаще, чем древнее развалины, хотя все жилые помещения в тех же развалинах прямоугольны, а круглые здания редко встречаются на всей территории пуэблосов, за исключением башен. Круглые кивы несомненно представляют более древний тип. Четырехугольные кивы выстроены из камня до самых балок, образующих крышу, и тщательно оштукатурены, тогда как в круглых кивах каменная стена возвышается лишь до трех четвертей общей вышины. Остальное пространство выполнено горизонтальными слоями балок, как в блокгаузах, тип которых пионеры запада позаимствовали у индейцев (ср. выше стр. 211). Во всяком случае, эта форма кив представляет воспоминание о времени, когда индейцы пуэбло не были еще такими искусными строителями, какими они сделались впоследствии. Опускание их ниже уровня земли (этим индейцы различных стран старались увеличить вышину своего жилища и вернее защитить его от стихий) и употребление балок несомненно указывают на иные условия жизни. Вместе с тем понятно, что именно в этих зданиях, служивших для религиозных обрядов и давно забытых самими индейцами, должны были сохраниться воспоминания об условиях существования, не оставивших почти никаких следов в остальных сферах жизни.
Особенного внимания заслуживает то обстоятельство, что круглые и четырехугольные дома, отчасти вкопанные в землю и выложенные каменными плитами, причем, по крайней мере, в некоторые из них доступ был возможен только через отверстие в крыше, встречаются, как жилища, у различных индейских народов Калифорнии, которые ни по языку, ни в этнографическом отношении не стояли в близкой связи с индейцами пуэбло. В то же время мы встречаем у тех же калифорнских племен, как и у индейцев пуэбло, религиозные церемонии, которые сопровождались танцами, напоминавшими почти театральные представления, и которым отводится очень видное место. Обыкновенно и у тех, и у других дело происходило в общем помещении, или же подготовление совершалось позади искусно завешанной части жилища, после чего все выходили в общее помещение. Те и другие надевали в танцах совершенно сходные маски, напр., в виде змеи, скелета и проч. Все это, вместе взятое, дает нам право предположить у обоих народов общий запас традиционных представлений, который объясняется не позднейшим позаимствованием или подражанием, а сводится к первоначальному родству.
Область индейцев пуэбло свидетельствует в своих древних памятниках об умеренном прогрессивном развитии культуры в направлении с севера на юг. Каменные постройки cliff-dwellers (обитателей утесов) в трудно доступных долинах рек, пересекающих центральное плоскогорье, представляют жилища тех же племен, последние остатки которых, суньисы и мокисы, обитают ныне в пуэблосах Циболы и Тусайяна; это не подлежит никакому сомнению. Постепенные переходы между архитектурными формами очевидны. Точно также раскопки ясно доказали связь и последование во времена между скалистыми жилищами и постройками домов на плоской возвышенности и в речных долинах. Не следует, впрочем, упускать из виду, что передвижения индейцев пуэбло совершались медленно в виду оседлости этих племен, почти исключительно живших земледелием. От времени до времени случались даже события, которые вызывали обратное движение и в таких размерах, что переселенцы снова возвращались в давно покинутые области и водворялись в жилищах, успевших отчасти превратиться в развалины. Предания нынешних индейцев пуэбло сообщают о подобных явлениях, происходивших уже после первых встреч их с испанцами, около середины XVI столетия. Но если самые северные свидетели культуры пуэбло, пещерные развалины, говорят об архитектуре, нисколько не уступающей той, которая характеризует тщательно выстроенные пуэблосы узких долин Чако и Челлея, то другие древности указывают на более древний тип у северных и затем на позднейший фазис развития у современных индейцев пуэбло, которые уже с давних пор идут назад.
Гончарное искусство проливает свет далеко вглубь доисторической жизни этих народов. Это вовсе не случайность, что племена северной Калифорнии, которые умели так искусно обрабатывать дерево и камень и вообще стояли не на самой низшей ступени культурного развития, ничего не знали о гончарных изделиях. Гончарное искусство появляется лишь с того момента, когда природа не дает более человеку необходимой воды в изобилии, и ему приходится подумать о сохранении запасов ее. Рыболовные народы довольствуются еще плетенками, которые легче сделать, и к тому же природа дает им годный для этого материал в виде камыша и ползучих водяных растений. Из этого они делали корзины, в которых могли даже варить рыбу, бросая туда раскаленные камни. Но долго вода не могла держаться в этих сосудах, и с переселением в более сухие страны родилась новая потребность, которая и была удовлетворена изобретением гончарного искусства. Своеобразный способ, при помощи которого индейцы севера и юга делали горшки из бесконечной глиняной нити, доказывает что первоначально гончарное производство развилось из пряжи и плетения корзин.
Если дальний северо-запад был общей родиною индейцев Калифорнии и пуэбло, то ясно, что превращение последних в народ горшечников последовало за распадением на группы. Этот период не разыскан еще в древностях. Народы пуэбло, даже в самых древних северных местообитаниях, являются перед нами уже не только искусными архитекторами, но и горшечниками. Дальнейший прогресс мы встречаем в срединных территориях пуэбло, Чако и Челлее, и наконец, высшую степень художественного развития представляет Сикиатки (недалеко от Моки), разоренная незадолго до прибытия испанцев. Это может быть до некоторой степени объяснено. Как уже было сказано, народы запада прерываются по ширине Калифорнского полуострова нациями с низшею культурою. Следы борьбы с ними встречаются не только на юге, в пещерных жилищах и пуэблосах горных равнин, но и на севере, вверх до области гайдахов, мы встречаем жилища, поразительно сходные с пуэблосами – доказательство того, что они старались оградить себя от напора враждебных племен. Это первое нападение племен атабасков или тинне (несмотря на слабо подтвержденное лингвистическое сродство, мы должны признать их за таковые) дало, вероятно, если не первый толчок, то во всяком случае направление будущему движению к югу племен, которые мы затем снова встречаем уже у Меса Верде и на реке Сан-Хуан.
Предположение, что вся область пуэблосов, от реки Манкоса на севере до устьев Хилы на юге, от Рио Пекоса на востоке до Колорадо на западе, составляла некогда одно государство, столь же несостоятельно, как и аналогичная гипотеза относительно области строителей курганов. Государственное искусство американских туземцев едва ли где-либо в состоянии было создать и тем более сохранить в целости одно обширное государственное образование (ср. стр. 214 и 232). По всей вероятности, в области пуэблосов, в течение всего периода культурного расцвета ее, господствовала система мелких общин, связанных на почве родовых отношений, которую испанцы застали там при открытии. Остатки ее не трудно проследить в преданиях индейцев пуэбло, хотя здесь произошли уже смешения вследствие слияния населений. Эта система коренится в почве. Первобытное земледелие, хотя оно в хороший урожай и обеспечивало на 2–3 года, все-таки при тамошних климатических условиях не допускало большого скопления людей. Правда, в прежнее время область пуэблосов была населена гуще, чем теперь; но период расцвета ее уже прошел ко времени первого вторжения испанцев. Если в древнейших описаниях и говорится о 70 или 71 больших и маленьких городах индейцев пуэбло, то все они, без исключения, принадлежат южной и восточной части области пуэблосов, которая и теперь еще отчасти населена потомками древних туземцев. Наоборот, средняя и северная области, в которых найдены наиболее совершенные в архитектурном отношении постройки, были, повидимому, уже в то время оставлены и превращены в развалины. Быть может, некоторые из южных пуэблосов не существовали еще в то время, когда были построены и обитаемы более северные. Но то обстоятельство, что последние стоят выше других и в техническом отношении, безусловно доказывает, что южные народы представляют уже начало упадка, и притом как качественного, очевидного для нас, так и количественного. Если высшее развитие культуры и продолжается иногда еще после начавшегося упадка нации, то оно никогда не предшествует высшей точке материального развития.
Недружелюбные отношения и столкновения мелких общин оказали роковое влияние на ход истории индейцев пуэбло. Поводом к этому постоянно служили внешние условия, ограниченная площадь годных к обработке земель и недостаточное количество влаги, так как только при полном утилизировании этих факторов почва дает жатву, земля становится обитаемою. Эти внешние условия имели такое же значение для развития культуры пуэблосов, как и для обитателей Перу, которым приходится бороться с такими же климатическими трудностями. Поэтому мы находим и здесь, и там замечательные по техническому совершенству и обширности сооружения для искусственного орошения и распределения воды. Кроме того, по аналогии с перуанскими условиями и принимая во внимание существующие нравы нынешних народов пуэбло, мы должны предположить, что у древних предков их было тщательно разработано и охранялось водяное право. На непрестанную борьбу с сухостью указывают не только воспоминания нынешних индейцев, не только развалины древних построек: зависимость от оплодотворяющей влаги составляет столь выдающуюся черту во всей замечательно развитой религиозной системе этих народов, что, по всей вероятности, климатические условия тогда мало чем отличались от нынешних. Правда, раскопки иногда открывали в развалинах или по близости их существование древних водопроводов; в некоторых случаях достаточно было небольших работ, чтобы с удалением песку и обломков значительно повысить продуктивность источников. Но очевидно, народ, все существование которого зависело от накопления оплодотворяющей влаги, должен был оставить следы всех работ, которые увеличивают количество ее. И это действительно подтверждается найденными искусственными водохранилищами и аналогичными сооружениями.
Тем не менее, было бы ошибочно видеть единственный повод к переселениям народов пуэбло в изменчивости запасов воды, так как эти переселения совершались не из сухих местностей в более благоприятные, а наоборот, из лесистых стран далее в глубь песчаных степей. Если было только предположением, что толчком к переселению индейцев пуэбло на юг послужило вторжение дикарей центральной Калифорнии, то едва ли можно сомневаться, что натиск враждебных народностей дал дальнейшее направление этим переселениям. Правда, величественные развалины в долинах Чако и Челлея не всегда были пригодны для продолжительной обороны; но это доказывает только, что во времена сооружения этих построек давление враждебного населения еще не достигло их. Не трудно объяснить себе это, если допустить, что названные постройки, и в числе их довольно многочисленные пещерные постройки, возникли в такое время, когда надежным оплотом от хищнических набегов дикарей являлись более северные поселения, хорошо защищенные; в особенности замечательны в этом отношении многочисленные и обширные пещерные жилища по берегам Рио-Манкоса и других северных притоков Сан-Хуана.
В силу наших европейских понятий мы весьма склонны представлять себе пещерных обитателей людьми, стоящими на самой низкой ступени культуры. Это, однако, вовсе не применимо к обитателям утесов северо-американского запада. То был оседлый народ, который жил почти только одним земледелием и дошел до приручения домашних животных; в плетении корзин, ткачестве и гончарном искусстве он превосходил почти все соседние народы. Подобно мексиканцам, он славился изготовлением художественных, украшенных перьями тканей, котирые вызывали крайнее изумление у европейцев. Гончарные работы его, по чистоте и простоте форм, а равно по украшениям, нисколько не уступали произведениям его соседей.
Но в одном искусстве индейцы пуэбло стояли выше всех народов северного материка, даже ацтеков (одни только майясы, и то лишь отчасти, составляют исключение) – в строительном искусстве. Нельзя считать грубым, первобытным народом тот, который в состоянии был воздвигать постройки в самых скалах, вроде дворца, открытого Густавом Норденшельдом в боковой долине Манкоса (см. таблицу «Скалистый дворец в Каноне этого наименования в юго-западном Колорадо»). Если и нельзя еще причислить подобный народ к культурным народам, то, во всякомъ случае, он был близок к ним. Конечно, природа с своей стороны сделала все, чтобы создать в этой полосе страны образцовых строителей. Ущелья большинства рек северо-западной плоской возвышенности окаймлены пластами песчаника различной степени плотности, которые дают туземцу в руки материал, почти сам собою принимающий любую форму. Большею частью, эта порода распадается на куски под влиянием одних атмосферных факторов, и требуется незначительная обработка, чтобы сделать их годными для постройки домов. Наиболее грубые постройки, которые можно встретить также возле скалистого дворца, производились, вероятно, путем простого наслоения камней, выбранных для этой цели; но сохранились лишь немногие следы таких более простых работ. Большею частью, материал обработан весьма тщательно: ему приданы соответственные формы, слои его скреплены при помощи мало заметного, но достаточно прочного связующего вещества, и каждая скважина так хорошо заделана мелкими камнями, что постройки снаружи не только веками сопротивлялись влияниям непогоды, но и теперь еще представляются крепкими и гладкими.
Помимо того, строительное искусство индейцев пуэбло отличается еще двумя особенностями, в которых могут сравниться с ними лишь немногие народы Нового Света: это – кладка материала в виде слоев одинаковой величины, прототипом которой, быть может, служили для них длинные пласты каменных пород в долинах их родины, и скрещивание пазов, искусство, которого не знали даже архитекторы майясов Чичен-Итцы. Это искусство предполагает, конечно, долгое упражнение; но следов развития его мы не в состоянии уловить. Нет сомнения, что развитию строительных знаний индейцев пуэбло, помимо естественных вспомогательных средств, чрезвычайно способствовали переселения. Устраивая новую колонию, они могли с самого начала воспользоваться опытом, накопившимся в течение предшествовавшего строительного периода. Но здесь не принимаются в расчет переселения с севера на юг, вероятно, происходившие в историческое время. Наоборот, постройки в северной и средней области пуэбло, как, напр., скалистый дворец и развалины Кинтиля, Пуэбло-Бонито и Нутрии в долине Чако представляют, кроме следов более глубокой древности, высшее развитие искусства пуэбло. Новейшие поселения в той же области и далее к югу построены хуже и более спешно, что едва ли может быть объяснено недостатком материала. Поэтому остается лишь предположить, что эти постройки были возведены в то время, когда наступил неблагоприятный поворот в условиях жизни индейцев пуэбло. И так как они все еще принадлежат времени, предшествовавшему открытию испанцами, то мы снова приходим к заключению, что эпоха расцвета народов пуэбло уже миновала в XVI столетии.
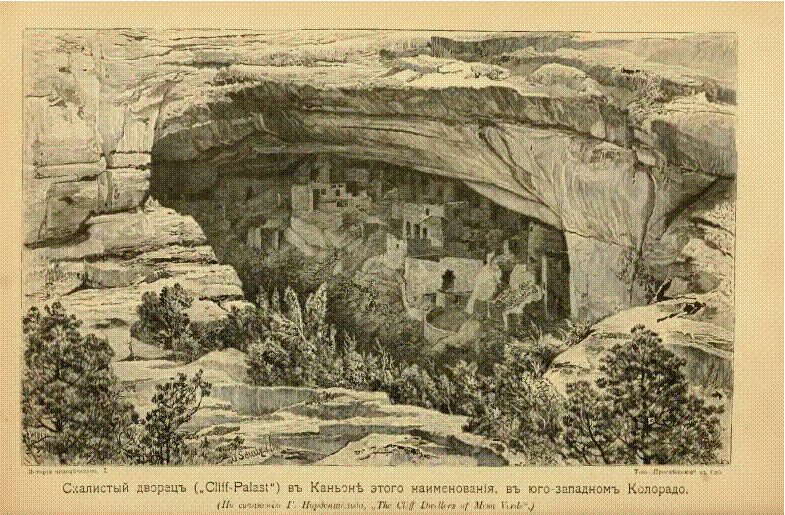
Отсюда вытекает дальнейший вывод, что переселения индейцев пуэбло не могут быть признаны добровольными. Исходя из современных понятий о способах ведения войны и применяя их к древним временам, пришли к предположению, что городские поселения пуэбло обладали слишком слабыми оборонительными средствами и даже не пытались защищаться. Однако, если взглянуть на оружие, нападения иобороны индейцев пуэбло, которое, во всяком случае, свидетельствует о высшем культурном развитии их сравнительно с противниками, то оказывается, что в то время было достаточно даже весьма примитивных оборонительных средств. Войны индейцев между собою во все времена заключались в неожиданном нападении. Здесь едва ли может быть речь о войнах, продолжавшихся хотя бы несколько дней, и тем более об искусственном отрезывании необходимых средств к жизни, особенно воды, которое сделалось опасным оружием лишь с усовершенствованием военной техники. Нападения противника довольствовались непосредственной, легко переносимой добычей и случайными пленными, преимущественно женского пола или юного возраста. Без сомнения, в этих битвах враг старался испортить и жатву индейцев пуэбло, но собирать готовую жатву было бы слишком хлопотливо при тех средствах, которыми располагали эти первобытные народы. Хищнический апач или навахос предоставлял это самим индейцам пуэбло и предпочитал брать готовый урожай в самом доме, чем собирать его с поля. Но против внезапного нападения представляли достаточную защиту даже те дома пуэбло, которые располагались не в недоступных пещерах ущелий или на краях плоскогорий, а на плоской местности речных долин или в равнинах. Массивность построек ставила всегда в опасность большое число обитателей в одно и то же время; следовательно, в каждую минуту было на лицо достаточное число их для общей защиты. Помимо того, более древние пуэбло еще в большей мере, чем нынешние, построены замкнуто: с наружной стороны возвышается сплошная стена в несколько этажей вышиною, по средине находится двор, из которого террасами поднимаются этажи. Таким образом, доступ к этому двору в большинстве случаев не трудно было заградить. Кроме того, нижний этаж не имел прямо выхода во двор, и в жилища обитателей можно было проникнуть лишь с первой площадки, на которую взбирались по лестницам. Нужно полагать, что с течением времени противники также изощрились в борьбе. И так как опасность их нападений и численность их росли, тогда как сила защитников под влиянием неблагоприятных внешних условий падала, то в конце концов более сильные и закаленные сыны пустыни должны были победить индейцев пуэбло, более слабых в физическом отношении, благодаря оседлому образу жизни. Но здесь имели решающее значение именно эти условия, а никак не бо́льшая или меньшая оборонительная готовность построек пуэбло.
Так должны мы представлять себе борьбу, которая мало по малу уничтожила культуру народов пуэбло на значительном пространстве древней территории их. Они были окружены с севера и востока индейскими народами, принадлежавшими к самым диким и хищническим на всем материке. Апачи и навахосы еще в нашем столетии наводили ужас на англо-саксонских пионеров запада, и нации того же происхождения окружали с различных сторон область пуэбло. Испанцы, еще при первом вступлении своем в эту область, слышали о непримиримой вражде между индейцами пуэбло и соседями, и побуждаемые состраданием сами втянулись в эту борьбу. Подобно тому, как в историческую эпоху миролюбивые обитатели пуэбло вели беспрерывные войны против набегов хищников прерий, также, без сомнения, и предки их боролись за существование с предками этих же хищников.
Сходство форм тела и некоторых сторон в образе жизни между современными навахосами и северными индейцами пуэбло дало повод к заключению, что первые находятся в родстве с пуэбло сами и вовсе не так враждебны им, что некогда они сами жили на территории пуэбло и только под влиянием неприятельских притеснений превратились в бродячий разбойничий народ. Но если это и верно, то культура пуэблосов была уничтожена если не навахосами, то другими враждебными соседями. С прошлого столетия, впрочем, навахосы занимаются земледелием, правда, в ограниченных размерах. Далее известно, что из всех индейцев запада они имеют самые большие стада лошадей и овец, и что их жены умели ткать из овечьей шерсти чрезвычайно красивые разноцветные ковры. Все эти завоевания, однако, принадлежат эпохе, последовавшей за встречей с белым человеком. Притом у навахосов культурные занятия находятся, главным образом, в руках их жен, тогда как у индейцев пуэбло главное бремя обработки земли лежит на мужчинах. Тем не менее, источником этого женского элемента в культуре все-таки являются индейцы пуэбло: жены их, взятые в плен во время нападений, были первыми учителями навахосов. Этим смешением объясняется также физическое родство рас и дается простое объяснение сходным признакам в языке.
Есть еще один пункт в древней истории народов пуэбло, о котором следует упомянуть: это – отношения к их южным соседям, культурным народам Мексики. Говоря выше о движении культуры пуэблосов с севера на юг, мы оставляли пока без внимания целую группу развалин пуэбло, именно самую южную. Но еще первые испанцы, которые проникли из Мексики в страну пуэбло, обратили внимание на множество развалин в бассейне Хилы, самого южного притока Колорадо. То были остатки значительных поселений, носящие несомненные признаки построек пуэбло, хотя среди них они образуют как бы самостоятельную группу. Долина Хилы не давала своим обитателям того удобного строительного материала, благодаря которому индейцы пуэбло, населявшие верхние части равнины, сделались такими превосходными строителями. Поэтому развалины по реке Хиле и прилегающим к ней долинам отличаются применявшимся материалом: это был род кирпичей из глины с примесью растительных частей и высушенных на воздухе. Этот материал, известный на большом пространстве под испанским именем adobe, был в употреблении в историческую эпоху и до сих пор часто применяется. В остальном мы имеем перед собою постройки, совершенно напоминающие племена пуэбло; это – города, состоящие из одной сплошной массы домов или собственно комнат. Поднимаясь ярусами одна над другою, эти комнаты окружают внутренний двор. И здесь точно также этажи идут с внутренней стороны террасами, тогда как снаружи возвышается, большею частью, вертикальная стена в несколько этажей. Следовательно, мы видим те же каменные города, с какими мы познакомились на севере, от пещерных сооружений Сан-Хуана до открытых местечек мокисов и суньисов. Очевидно, эти постройки были делом рук народов, родственных тем, которым принадлежат более северные сооружения.
Испанцы застали уже эти города необитаемыми и в развалинах в то время, когда многие пуэбло срединной области были еще обитаемы. Поэтому нужно думать, что они принадлежат более раннему периоду, чем некоторые из каменных пуэбло. Однако, это не есть еще возражение против северно-южного развития вообще культуры пуэблосов. Народ, которому принадлежат развалины в долине Хилы, в большинстве случаев известный под названием Casas Grandes, без сомнения, не здесь прошел школу строительного искусства. Материал, обладающий сравнительно слабой сопротивляемостью атмосферным влияниям, был вообще непригоден для возведения высоких полых построек. В развалинах по реке Хиле можно усмотреть лишь стремление перенести архитектурные формы, сделавшиеся мало-по-малу потребностью народа, и в такие страны, где условия были для этого менее благоприятны. Народ, воздвигавший эти постройки, отделился от племени индейцев пуэбло уже тогда, когда характеристическая культура последнего достигла полного развития на севере, на плоскогориях песчаниковых гор. И так как на юге мы не встречаем более следов той же культуры, то мы должны предположить, что этот народ еще в доисторическое время снова соединился с северными соплеменниками своими, побуждаемый к новой перемене местожительства враждебными народами или какими-нибудь естественными причинами.
В легендах индейцев, поселившихся с конца прошлого столетия вблизи этих развалин, эти последние почти всегда называются домами, дворцами, укреплениями Монтесумы. Едва ли мы ошибемся, допустив здесь отголосок неопределенного воспоминания о великих подвигах Монтесумы I Илуикамина. Но хронологически это предание – позднейшего происхождения и сложилось лишь в эпоху после завоевания Мексики испанцами. В пользу этого можно привести лишь то, что мексико-тенохтитланское царство никогда даже не придвигалось к этим странам, и главным образом то обстоятельство, что в пределах культурного круга среднеамериканских государств нет ничего похожего по стилю на развалины Хилы, а с другой стороны, в области пуэбло встречается построек, напоминающих стиль центральных американцев, еще гораздо меньше, чем, напр., в области строителей курганов. Следует считать исторически доказанным, что культурные круги индейцев пуэбло и народов майясов и нагуасов совершенно исключали друг друга и не имели никакого соприкосновения, по крайней мере, в тот период, когда каждый из них выработывал свою самостоятельную архитектуру.
По всей вероятности, однако, так было не всегда. Допустим, что легенды о первоначальной родине в дальнем Ацтлане севера, в той форме, как они дошли до испанцев, обнимают лишь сравнительно небольшой и не особенно древний период переселений различных наций племени нагуасов. Но этим не исключается то, что в самую древнюю эпоху вплоть до территории Мексики жили племена, находившиеся в расовом родстве со всеми прочими нациями, обитавшими на тихоокеанском побережьи Северной Америки. В пользу этого говорят не только сходные на большом протяжении лингвистические черты, но в особенности общие религиозные представления и нравы: они слишком своеобразны, для того, чтобы можно было допустить одновременное самостоятельное развитие их в различных местах.
Поклонение в одно и то же время солнцу и огню свойственно первобытным народам всех стран и всех времен и существование его у различных племен не дает еще права заключать о родстве даже в том случае, если оно не совсем одинаково применяется у других соседних племен. Но, с другой стороны, весьма замечательно, что как у индейцев пуэбло, так и у культурных народов средней Америки через определенные промежутки времени должны были гаситься огни на всей территории племени. Затем, в одном каком-нибудь месте, с сложными религиозными обрядами, известные жрецы трением двух палок добывали новый огонь, и гонцы быстро разносили его по отдельным очагам. Другое, общее тем же народам характерное религиозное представление есть представление о пернатой змее. Не говоря уже о том, что в самой природе не существовало первообраза для представления подобного рода, змея часто является в легендах американских народов одним из опаснейших врагов человеческого рода. Наоборот, в культурном круге центральных американцев пернатая змея есть воплощение богов, от которых исходят все благодеяния культуры. У индейцев пуэбло она точно также находится в тесном соотношении к божествам оплодотворяющей влаги, которая вмещает в себе понятия о добре всякого рода. Рядом с этим существует и много других точек соприкосновения. Укажем еще на одну параллель нерелигиозного характера. Перья, в особенности тропических птиц, обладающих роскошными красками, или орла, в котором видят символ силы, у всех первобытных народов играли большую роль среди украшений. Но лишь в немногих местах земли первобытное ткацкое искусство старается подражать перистому одеянию, которое украшает и защищает птицу. Народы мексиканского государства развили именно в этом направлении техническое совершенство, какое еще нигде и никем не достигалось. Тем более замечательно, что из всех американских народностей одни лишь индейцы пуэбло обладают аналогичной техникой, правда, гораздо более примитивной. Мы не можем отнести это завоевание к сравнительно позднему периоду прогрессивного развития их, так как искусство это замечено у них еще в то время, когда они были наиболее далеки от мексиканской границы и жили на северной окраине своей области, в скалистых пещерах долины Манкоса, где они впервые выступают, как изготовители характерных архаических глиняных изделий.
Возможно, что подобные явления представляют следы первобытной связи, давно уже исчезнувшей в эпоху появления отдельных народных групп на исторической сцене. Если упомянутые культурные представления и составляют специфическую особенность мексиканского народа, то первоначально они были выработаны не им, а более древним культурным народом; от последнего народы нагуасов вообще заимствовали почти все хорошее в области культуры, что прославило их на обширном пространстве. Интересно отметить, что аналогичное сочетание поклонения огню с многими нравами и представлениями, свойственными индейцам пуэбло, встречается еще у одного народа на востоке северной Америки, именно у криков, принадлежащих к племени мускогисов, переселения которых, поскольку мы можем говорить о них, указывают на западную родину.
Индейцы пуэбло завершают собою круг первобытных народов, «не имеющих истории».
2. Среднеамериканский культурный круг
А. Свойство территории центральной Америки
На Панамском перешейке Кордильеры, этот спинной хребет Американского материка, на столько опускаются ниже уровня моря, что лишь высшие точки их несколько поднимаются над волнами в виде узкой цепи холмов. Но уже на расстоянии нескольких часов к северу они снова представляют из себя мощный хребет. Область, принадлежащая ныне Северной Панаме и Костарике, представляет горную страну, высшие точки которой лежат выше 2000 м. над уровнем моря. Правда, горы там еще не тянутся к северу непрерывною цепью. Лагуны Никарагуа и перешеек Тегуантепека расположены очень низко и, повидимому, даже в большей мере, чем самое узкое место материка, составляли настоящую грань между народами северной и южной половин материка. Между ними находится единственное место, где центральная Америка делает попытку расшириться на подобие материка, как мы это видим на востоке обеих обширных половин континента. Но полуостров Юкатан, который расположен впереди плоскогорья Гватемалы, в виде холмистой страны, густо поросшей лесами, лишен системы больших рек, и только положению между Кампешской бухтою и Гондурасским заливом он обязан своим замечательно благоприятным климатом.
По ту сторону Тегуантепека северный материк начинает расширяться; но еще на протяжении почти десяти градусов широты он образуется все более и более расширяющимися Кордильерами, которые у восточной и западной подошвы сопровождаются узкой полосою побережья, а самые горы выполняют всю массу материка. На этом основан своеобразный характер мексиканского климата. Несмотря на то, что вся область старой Мексики лежит еще в пределах тропиков, собственно тропическая температура господствует только на побережьи и, на ряду с преимуществами роскошно распустившейся природы, создает и невыгоды опасного климата. Наоборот, большая масса страны образуется плоскогорьем, которое лежит достаточно высоко над морем, чтобы избежать опасностей малярии и в то же время не настолько высоко, чтобы перестать удовлетворять человека и награждать его труд с избытком: это страна почти вечной весны, которая щедрой рукою осыпает человека своими благами. Самые горы смело и гордо поднимаются в область вечного снега, который с вершин Попокатепетля и Орисабы освещает вечную весну у подошвы его.
В непосредственном соседстве этих крайних вершин Кордильеры разделяются на восточный и западный хребты. Между ними тянется возвышенность, орошаемая многочисленными озерами – мексиканская возвышенность. Пространство ее не велико, но плодородие необычайно. Здесь разыгрался драматический эпилог древне-американской культуры.
В. История древней культуры Средней Америки
Страна от озера Никарагуа до северной окраины мексиканской долины была местом одной из древнейших культур Нового Света. Определить с точностью хронологические границы ее в прошлом пока невозможно и едва ли удастся даже тогда, когда мы сумеем заставить говорить неразгаданные памятники, которые теперь молча глядят на нас сверху, точно непонятые загадки. Неправы те, кто, исходя из понятия о «новом» Свете, считают эту культуру сравнительно молодою; но столь же неправы и другие, полагающие, что расцвет ее относится к эпохе, отстоящей от нас более, чем на 11000 лет назад. Туземные писатели, которые составили историю среднеамериканских народов в первое столетие после завоевания, опираясь на древние предания и изображения, относят эту историю к последним векам до Р. X.; но указания их расходятся между собою и не внушают доверия. Ряды правителей, которые мы можем восстановить по изображениям, принадлежащим эпохе до Колумба, в согласии с испанскими описаниями и источниками Нагуатля, обнимают у многих отдельных государств эпоху лет за 700–800 до открытия. Но они вместе с тем свидетельствуют почти об однородном культурном состоянии даже в более древние времена и, во всяком случае, не достигают самой ранней границы, которую мы вправе приписать истории этих народов.
Ближе к истине приводят нас хронологические указания, которые мы в состоянии получить на основании памятников культуры майясов. Майясы вели счисление, как мы привыкли вести его от Рождества Христова, – от строго определенного момента прошлого. Вполне точно установлен не только год, но даже день, с которого начинается их летосчисление. В переводе на наш способ счисления это было 28 июня года, отстоявшего более, чем на 3750 лет от сооружения памятников, откуда заимствованы эти указания времени. К сожалению, это не дает нам верной точки опоры для определения времени. Нам неизвестен, во-первых, в переводе на наше летосчисление, период происхождения упомянутых надписей. Затем мы не в состоянии судить – был ли названный день дальнего прошлого действительным событием в истории народа, или же он – результат вычислений и предположений вроде, например, еврейского летосчисления, которое исходит от сотворения мира. Мы должны, следовательно, постараться иным путем дойти до древнейшей истории этих культурных народов. Памятники их, которые устояли против всех невзгод в течение веков, представляют, быть может, менее точный, но зато более богатый и разнообразный источник для выводов.
Под влиянием ярких описаний царства Монтесумы, оставленных нам испанскими завоевателями, культурный круг народов центральной Америки в течение многих веков называли мексиканским. В этом кроется, однако, большая историческая несправедливость. Мексиканцы или, употребляя более правильное этнографическое обозначение, ацтеки Мексико-Тенохтитлана не были ни основателями, ни даже самыми выдающимися представителями этого культурного круга. Наименование его их именем объясняется тем случайным обстоятельством, что в момент, когда испанцы проникли в эти страны, руководящую роль среди тамошних народностей с некоторого времени играли мексиканцы. Но даже сами ацтеки сознавали, что их культура досталась им в наследство от других, а не добыта самостоятельно, и то же самое следует из описаний туземных историков. Но эти описания так туманны и нередко ошибочны, что на основании одних этих указаний едва ли когда-либо удалось бы восстановить истину. Подойти к ней ближе сделалось возможным лишь после открытия остатков другого, более древнего культурного народа с высшим развитием и после того, как научились понимать язык их памятников. Это началось лишь с конца прошлого века. И теперь еще мы едва на половину ознакомились и использовали этот чрезвычайно важный исторический материал.
Главная причина этого позднего ознакомления кроется в том, что до новейшего времени историческое исследование находилось на ложном пути. Начало таких ошибок и распространение их лежит на ответственности двух великих фантазеров, испанско-индейского историка Д. Фернандо-де-Альба Иштлишошитля и французского миссионера и писателя аббата Брассера де-Бурбур. Первый из них написал в последние десятилетия XVI века целый ряд исторических трактатов о странах древней Мексики, опираясь на обширные работы, как в области туземной древне-индейской письменности, так и в сфере западной гуманистической науки его времени. В них он обстоятельно рассказывает о судьбах будто бы древнейшего культурного народа центральной Америки толтеков и сводит все элементы духовного прогресса древних народностей центральной Америки почти исключительно к цивилизаторскому влиянию этого народа. Такой взгляд получил чрезвычайно обширное распространение. Только с открытием вновь развалин древних городов явился новый материал для исследования, который необычайно воодушевил юного французского миссионера Брассера, случайно натолкнувшегося на места этих древних культур. Он ревностно стал собирать древности центральной Америки, не обладая, однако, основательной исторической и лингвистической подготовкою, и в течение короткого времени обнародовал ряд исследований. Он не удовлетворился тем, что объявил народ толтеков носителем всей древне-американской культуры, но, предполагая в нем таинственную связь с культурами Индии и Египта, поставил его на такой пьедестал мудрости, до которой едва ли доходили современные ему народы.
Американистика еще юная наука. Тем не менее, одним из первых результатов применения историко-критического метода к древней истории центральной Америки было то, что фантазии аббата Брассера де-Бурбур рассеялись и традиция о всесильном цивилизаторском влиянии народа толтеков была значительно поколеблена. Два факта установлены теперь непоколебимо. Среди многочисленных народов и государств, которые, быстро сменяя друг друга, играли роль на плоской возвышенности Анагуака, около конца первого тысячелетия после Р. X. существовали государство и ряд государей, которые получили название толтеков от главного города Толлан или Тула и упоминаются почти во всех древних туземных источниках. Отдельные исторические факты, передаваемые о них, чрезвычайно скудны; мы еще вернемся к ним в истории Анагуака (см. ниже стр. 268). Ни древность их, ни положение в среде других народов не дают нам основания видеть в этом скоропреходящем государстве и представителях его творцов или даже главных носителей культуры, которая своими памятниками справедливо вызывает изумление и уважение потомства. Маленькое государство толтеков лежало далеко от места этой культуры, и народ, получивший от нее свое имя, входил в состав многочисленных других народов, говоривших на языке нагуатль, к которым принадлежали и ацтеки Мексико-Тенохтитлана. Наоборот, произведения древнейшей и чрезвычайно высокой культуры несомненно носят признаки происхождения от другой расы.
Это приводит нас ко второму, неопровержимо установленному историческому факту. Не подлежит сомнению, что для всей центральной Америки существовала одна культурная область. Основы ее и большая часть построенного на них развития принадлежат весьма отдаленной эпохе. Та особая культура, которую мы встречаем во всей средней Америке, существовала уже, со всеми ее чертами, раньше, чем народы племени нагуасов вообще проникли с севера в область средне-американского культурного круга и, во всяком случае, раньше, чем наступило настолько тесное соприкосновение между народами этой культуры и народами племени нагуасов, чтобы могла быть речь о взаимном влиянии. Но если древняя культура создана не племенем нагуасов, то и толтеки, принадлежащие к этому племени, не могли быть творцами ее. Так рушится вся легенда о толтеках, которые так долго играли большую роль в древнейшей истории Америки.
а) Майясы
Народности, которым центральная Америка обязана высоким и вместе с тем оригинальным развитием своей культуры, принадлежат к племени майясов. В настоящее время под названием индейцев-майясов обыкновенно подразумевают лишь туземцев полуострова Юкатана, и это ограничение было принято почти с самой эпохи открытия. Вследствие того, полуостров Юкатан некоторое время действительно признавали колыбелью этой культуры. Но это ошибочно. В научном смысле под именем племен майясов понимают все народности, которые говорят на определенном языке, заметно отличающемся от языка нагуасов. Самый чистый диалект его есть наречие майя в тесном смысле, но на различных наречиях этого языка говорят на всем протяжении стран между Кордильерами и Атлантическим океаном, от перешейка Тегуантепека до Никарагуа. Если не первоначальною родиною, то, по крайней мере, местопребыванием народов майя, которые развили своеобразную культуру своего племени до высшей степени, мы должны признать богатые тропические страны, идущие от подошвы Кордильер до залива Табаско и орошаемые реками Усумасинта и Рио де ла Пасион: оио соответствует приблизительно провинции Чиапас республики Мексики и пограничным частям маленьких республик центральной Америки.
Написать историю древних народов майя пока еще совершенно невозможно. Предания об их прошлом, собранные, благодаря испанцам, слишком недостаточны и гораздо более скудны сравнительно с тем, что мы знаем об истории их северных соседей. Даже здесь и в немногих исторических текстах на языке майясов традиции народа являются в искаженном виде. Подобно тому, как в политическом отношении нагуасы не только теснили и вытесняли майясов, но до некоторой степени смешались с ними и поглотили их, так и в исторических записях имеются почти несомненные отражения преданий более могущественного соседнего народа. При том эти записи в своей исторической части идут не далее одного или двух столетий назад. Хронологические регистры агау (периодов), обнимающих более значительные промежутки времени, к сожалению, касаются лишь Юкатана, который мы должны признать, по внутренним причинам, провинцией, сравнительно поздно завоеванной культурою майясов. Таким образом, почти единственным источником древнейшей истории являются дошедшие до нас памятники культуры майясов. Правда, эти памятники чрезвычайно содержательны и потому имеют громадное значение.
При завоевании мексиканского царства испанцы были до такой степени ослеплены этой страною, которая, казалось им, еще находилась в полном расцвете сил, что вначале все внимание их было поглощено ею, тогда как пограничные государства, Тласкала и Тескуко, остались почти не замеченными. Неудивительно поэтому, что они ничего не сообщают нам о памятниках древнего царства майясов, скрытых в бесконечных лесах, хотя эти памятники по своему величию далеко превосходили все, что могло представить царство Монтесумы. В то время, как в самой стране ацтеков сохранилось почти только одно большое сооружение монументального характера (развалины Шочикалько), в древних майясских городах Чиапаса и соседних областей рассеяны сотни храмов и дворцов.
Даже позднее, когда испанцы на полуострове Юкатане пришли в более тесное соприкосновение с народами майясов и, по крайней мере, ознакомились с первоначальным назначением некоторых из их интересных сооружений, они все еще не вполне понимали значение последних. Почва Мексики заключала для них бесконечные сокровища в то время, как храмы майясов и страна, превращенная в сад их трудолюбием, не представляли ничего, что могло бы возбуждать алчность завоевателя. И лишь после того, как пронеслась опустошительная волна завоевательных полчищ и появились первые братья монашеских орденов, испанцам стало ясно, какие важные памятники прошлого скрывает в своих недрах этот народ, ныне столь незаметный. Здесь они нашли то, чего не встречали более нигде на протяжении всего вновь открытого материка – народ, который сумел увековечить свои мысли в письменах.
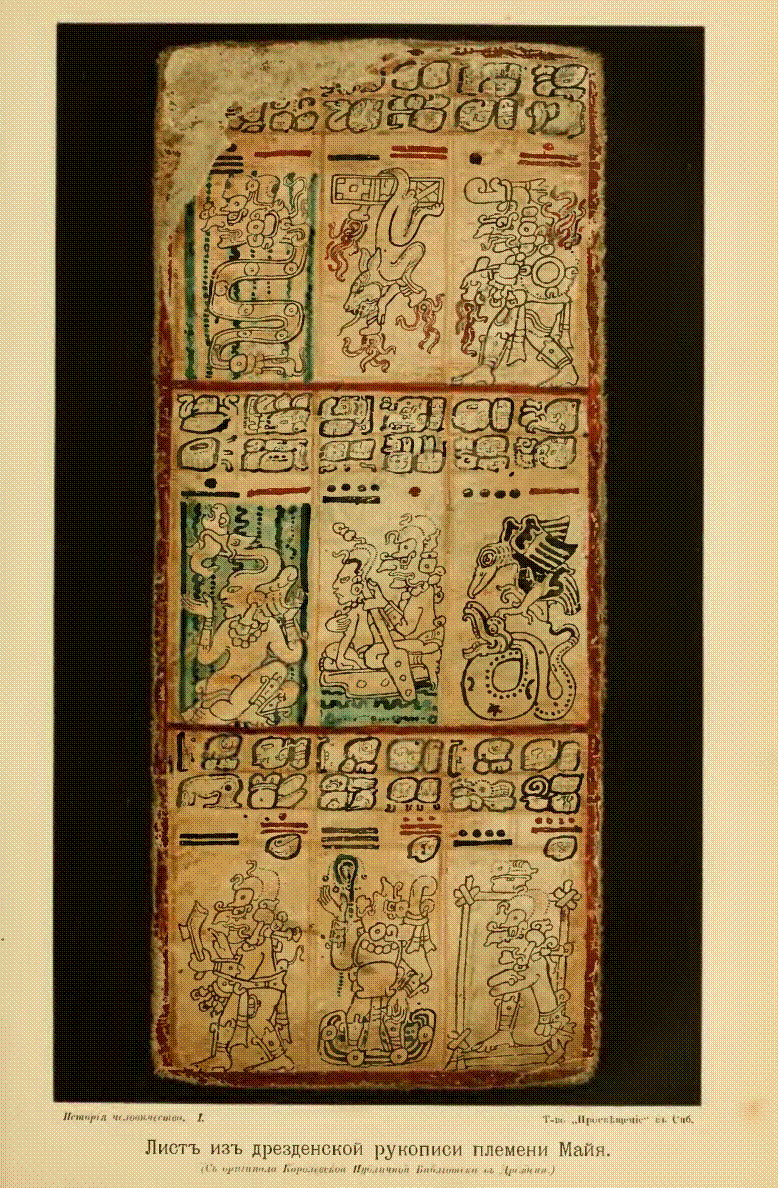
Лист из Дрезденской Майясской рукописи
Письменность майясов (см. табл. «Лист из дрезденской рукописи майясов») до сих пор еще является одною из интереснейших проблем американистского исследования. Первые испанские монахи в Юкатане настолько освоились с нею, что не только могли читать ее, но даже с некоторыми ограничениями писать ее письменами; но с течением времени знание это совершенно утратилось, и теперь даже самые выдающиеся американисты не могут столковаться относительно того, к какой системе следует отнести письмо майясов. Впрочем, этот спор до36-й лист Дрезденской Майясской рукописи представляет, в трех частях своих отрывок так называемого tonalamatl, священного периода в 260 дней, который начинается на предыдущем и оканчивается на следующем листе. Эти часто встречающееся в рукописях tonalamatl приводились в качестве пророчеств. Поэтому они разлагались на определенные промежутки, обозначавшиеся цифрами; точка означает 1, черта – 5. Пункты времени, определенные дни в 13-дневной неделе обозначены красной краской, а промежуточное время – черной. Первые мы отмечаем римскими, а последнее – арабскими цифрами. Так мы видим
на верху: 17 V 5 X 1 XI
в средине: 6 V 9 I 4 V
внизу: 10 XI 15 XIII 9 IX
В нижнем отделе к красным цифрам прибавлены еще определенные дни 20-дневного периода, с которыми они совпадают (дни men, ос и саuас).
К каждому из 9-ти пунктов времени относится мифологическое изображение, а к каждому изображению четыре иероглифа. Изображения мы обозначаем
1 2 3
4 5 6
7 8 9
гиероглифы
1 2
3 4
В изображениях главное лицо бога Кукулькан-Кетцалькоатля нарисовано с хоботом тапира и языком змеи; Шельгас, в своих «Божественных изображениях Майясских рукописей» (Дрезден, 1897) обозначает его буквою В. Мы видим его голову, переходящую в тело змеи, под льющимся дождем на рисунке 1: на 3 он входит, держа в каждой руке зажженый факел; на 5 он перевозит женщину по воде на челноке с восточной стороны: на 7 он идет с топором (индейским machete); на 8 он стоит в воде и смотрит вверх на облако, откуда идет дождь; на 9 он сидит, удалившись в лиственную хижину пустынника, чтобы с помощью поста приобрести силы для новых подвигов. На 2 молниеносное животное низвергается с пламенем из небесных знаков на землю. На 4-м мы видим богиню, голова которой переходит в шею и голову птицы, держащей в клюве рыбу; на это изображение сверху падает дождь. Изображение 6 представляет коршуна, мифологического cozeaquauhtli ацтеков, борющегося со змеею, обычным символом времени. Вывести какие-либо определенные факты из этих изображений, к сожалению, до сих пор еще не оказалось возможным.
И гиероглифы представляют более загадок, чем точных указаний; кроме того, они отчасти уничтожены в изображениях 1 и 2. С наибольшею уверенностью мы находим здесь известный знак Кукулькана: при изображении 3. знак 3, при изображении 7–9, знак 2 и подробнее при изображении 5, знак 2. Богиня изображения 5 обозначается своим знаком 1, коршун изображения 6 своим знаком 2.
Знакъ божества севера и ночи, согласно Шельгасу, выступает в 4 гиepoглифе изображения 6. Сложный, часто встречающийся знак kan-imix есть 4 знак 1 изображения; Эрнст Ферстеман видел в нем знак пиршества. День и ночь (kin-akbal) мы видим при изображении 5 на 3, при изображении 8 на 4 месте. 4 гиероглиф при изображении 3, повидимому (согласно тому же авторитету в области Майясских исследований), касается религиозного обычая прободения ушей. Необъясненными остаются цифра 8 в 4 гиероглифе 4 изображения, повторяющиеся гиероглифы 1 на изображении 7, 8 и 9 и мн. др.
* * *
известной степени праздный; испанские священники, которые могли выучиться этому письму непосредственно у туземцев, категорически подтвердили звуковой характер его. Сравнение с письменностью народов нагуа, которые, вероятно, научились первым началам письма от майясов, с первого взгляда показывает, что письмо нагуасов стояло далеко позади письма майясов (см. табл. «Лист из венской нагуаской рукописи сапотекского происхождения»). Но так как и они выработали уже приблизительно звуковой метод для писания собственных имен, то все попытки свести письмо майясов к идеографическому или чисто иероглифическому письму, вероятно, в конце концов, окажутся несостоятельными. С другой стороны, едва ли не менее ошибочно стремление открыть алфавит для этого письма, который, повидимому, пытались создать испанские священники XVI столетия из известных элементов древнего письма майясов для пользования им при обучении догматам христианства.
Пока лишь удалось выяснить числовую систему майясов. Для изображения чисел у них имеется всего четыре знака: точка для единицы, горизонтальная черта для 5 и два условных знака для 20 и 0. Эти числовые знаки сами по себе не производят особенного впечатления, и в этом отношении майясы, повидимому, стоят ниже некоторых древнейших и новейших народов, письменность которых располагает бо̀льшим числом знаков и притом высших. Однако, с тех пор как узнали, сколь остроумно майясы изображали при помощи этих немногих знаков (знак для 20 даже при этом не применялся) числа до многих миллионов, справедливо прониклись большим уважением к их изобретательности. В числовой системе майясов, как и в нашей, место, занимаемое числовым знаком, определяет и значение его, с той лишь разницей, что числа располагаются у них не в горизонтальном, а в вертикальном порядке, и что они употребляли не десятичный, а другой множитель. Самое нижнее число имело простое значение, второе, четвертое и число каждого следующего ряда имело значение в двадцать раз больше предыдущего, тогда как третий ряд, по соображениям, вытекающим из календарной системы майясов, был только в восемнадцать раз больше второго. Такая система писания чисел, не имеющая пределов, ставит майясов выше не только всех народов Америки, но даже греков и римлян.
Можно было с уверенностью ожидать, что этот народ изобрел и какой-нибудь остроумный способ для писания слов. И действительно, красивые знаки их рукописей, яркие изображения их надписей в лапидарном стиле потверждают это, хотя они и непонятны для нас. Тем не менее, и теперь уже письмо является ценным вспомогательным средством для исследования: это – единственный критерий, при помощи которого мы в состоянии строго разграничить культурные области народов майясов и нагуасов, связанных бесчисленными переходными ступенями и взаимными воздействиями. Хотя мексиканцы также выработали иероглифическую систему письма, которая общепонятно изображала, по крайней мере, конкретные предметы, но оно было сравнительно гораздо тяжеловеснее: достаточно взглянуть на рукопись или внимательнее присмотреться к надписи, вырезанной на камне, чтобы сказать, к какой из двух культурных областей принадлежали творцы каждого памятника.
В виду непонятности писанных исторических источников и туманности устных традиций, добытых испанцами, письмо майясов является единственным средством установить пределы области, которая в древние времена была подчинена цивилизаторскому влиянию их культуры. Здесь следует указать на одно весьма важное обстоятельство: народы племени майясов чрезвычайно охотно украшали свои сооружения, скульптурные произведения и даже гончарные изделия не только более или менее обильными фигурными изображениями, но, по крайней мере, в древнее время и надписями, нередко довольно объемистыми. Благодаря прежде всего этим надписям, мы можем открыть истинных строителей даже тех сооружений, которые носят несомненный характер заимствования архитектурного стиля майясов, и с другой стороны, признать делом рук майясов некоторые памятники, которые найдены за пределами известной области господства их.
Число культурных мест народа майясов, скрытых в виде развалин в непроходимых лесах Чиапаса, Гондураса, Юкатана и проч., и теперь еще увеличивается из года в год и проливает все более света на жизнь этого культурного народа, почти совершенно исчезнувшего. От времени до времени какая-нибудь новая неожиданная находка расширяет в том или другом направлении известную до сих пор сферу культуры майясов; но в общем границы их области можно считать уже приблизительно прочно установленными. Сюда прежде всего относится весь полуостров Юкатан с многочисленными островами у побережья его, на которых майясы особенно охотно совершали свои религиозные обряды. К северо-западу от Юкатана область майясов тянется не слишком далеко, не далее перешейка Тегуантепека. Но, очевидно, именно в этой области, в Чиапасе, на берегах Усумасинты и в плоских долинах многочисленных притоков этой реки, культура майясов не только достигла высшего своего развития, но здесь была и первоначальная родина ее. Здесь находились и находятся развалины знаменитых городов Паленке, Окосинго, Менче́ и лишь недавно открытая группа Пьедрас Неграс. Все они отличаются необычайным изобилием пластических изображений и обширных надписей. Здесь также, повидимому, нужно искать родину самых важных и красивых из немногих спасенных для потомства рукописей майясов, Codex Dresdensis; другие две рукописи, Codex Perezianus в Париже и Tro-Cortesianus в Мадриде более нового и, вероятно, юкатекского происхождения.
На юго-западе Юкатана область майясов углубляется далеко в Кордильеры. И если следы этой группы народов нигде нельзя проследить до самого побережья Тихого океана, то именно только эта узкая береговая полоса и свободна от них: вся остальная горная страна до водораздела и дальше усеяна памятниками их пребывания. Менее всего, быть может, установлена южная граница области майясов. На атлантическом побережьи склоны долины Мотагуа в Гватемале и Гондурасе скрывают две наиболее знаменитых майясских развалины, Киригуа и Копан. Повидимому, вся Гватемала до границы республики Сальвадор была некогда обитаема народами племени майясов. Но если на севере возможно строгое разграничение культурных поясов, благодаря характеристическим признакам нагуасских элементов, то на юге у народов соседних областей недостает ясно выраженного стиля. Поэтому не всегда возможно решить, от чего зависят сходные черты: от одного лишь соседства с областью майясов или от принадлежности в прошлом к этой области. В пределах очерченных границ область культуры майясов обнимает площадь около 7000 квадратных миль (несколько больше Прусского королевства), причем более половины этого пространства представляет следы чрезвычайно плотного населения.
Идет ли здесь речь о некогда существовавшем едином государстве майясов? Легко придти к такому предположению. В преданиях, наполовину мифологических, наполовину исторических, сохранившихся на Юкатане в наречиях какчикелей и майясов, неоднократно упоминается о большом царстве. В одном случае это – царство Начан, царство большой змеи, мифологического символа, с которыми мы встречаемся на каждом шагу во всей области культуры майясов. В другой легенде говорится о царстве Шибалбей, с могучим и жестоким властелином, против которого герои легенды с трудом отстаивали свою независимость. В обоих преданиях старались отыскать исторические намеки: столицу царства Начана отождествляли с Паленке, столицу царства Шибалбей с сапотекской Митлой. Но если бы это и было верно, что еще вопрос, то отсюда никаким образом не следует, что эти два царства некогда составляли всю область культуры майясов или даже бо̀льшую часть ее. Благодаря раздробленности, составляющей характеристическую черту истории древних государств центральной Америки, достаточно скромного по нашим понятиям могущества, чтобы дать повод к появлению легенды о сильном государстве (см. ниже стр. 254). Во всяком случае, позднейшие исторические отношения не открывают следов, которые указывали бы предшествовавшую политическую связь различных мелких княжеств майясов. Предположение, что область общей культуры майясов издревле распадалась на ряд мелких государств, независимых одно от другого и часто воевавших между собою, находит себе подтверждение во многих внешних обстоятельствах.
Самый язык майясов не только в настоящее время, но и в эпоху испанского завоевания распадался на множество наречий, которые так сильно отличались друг от друга, что лишь впоследствии монахи, изучавшие отдельные наречия в целях проповеди христианства, узнали принадлежность их к общему коренному языку, воспоминание о котором изгладилось даже из памяти туземцев. Уже по этой причине мы должны отнести распадение племени майясов к очень отдаленной эпохе и заключить, что отдельные народности жили долгое время, хотя и рядом, но обособленно, отчего и произошли различные майясские наречия.
К такому же результату привело более тщательное исследование памятников майясов. Монументальные постройки Копана в Гондурасе, Паленке в Чиапасе, Чичен-Итцы на севере Юкатана и Петена и Тикала на окраине Гватемалы, также, как и все постройки, рассеянные в пределах культурной области майясов, бесспорно носят отпечаток однородного культурного развития. Тем не менее, более тщательное изучение их в подробностях столь же несомненно убеждает, что все эти постройки отнюдь не принадлежат одному и тому же периоду и не настолько сходны между собою, чтобы можно было приписать их одному и тому же народу, одной и той же государственной единице. При таких условиях тем более поражает факт, что создание письма и пользование искусной числовой системой и еще более искусно составленным календарем не были достоянием одного или немногих членов этой нации. На возвышенностях Гватемалы, в Кобане и Чаме, с одной стороны, и в низменности Усумасинты, с другой, в долине Мотагуа, так же, как и на дальнем востоке, на острове Косумеле, – во всех этих местах народы племени майясов умели фиксировать свои предания в одной и той же форме письма, регулировали свое сложное счисление праздников по одним и тем же астрономическим законам, предполагающим бесконечно долгое наблюдение. Словом, мы видим, что культурные завоевания народов майя, вызывающие изумление и в своем роде единственные во всем Новом Свете, принадлежат периоду, который должен был предшествовать эпохе распадения.
Одно только племя народа майясов не принимало участия в этих завоеваниях: то были гуастеки, оттесненные к северо-восточному побережью Мексики, к устьям реки Пануко. Этот факт имеет большое значение для оценки сказаний о переселениях нагуасов. В историческую эпоху гуастеки отделены от своих южных соплеменников обширною областью с однородным нагуасским населением, раздробленным, правда, на множество отдельных мелких государств. Переселились ли гуастеки в область нагуасов или же переселение нагуасов отделило их от соплеменников, во всяком случае, майясы и нагуасы должны были существовать рядом, – хотя и в виде контрастов, – уже в то время, когда культура майясов еще не достигла своего высшего развития. В противном случае гуастеки присоединились бы к культуре майясов или, окруженные нагуасскими народами, не могли бы отстоять свою самобытность: на низших ступенях культуры она сохраняется только там, где враждебные соседние элементы исключают друг друга.
Пока ключ к надписям еще не найден, мы можем судить о состояниях и условиях, в которых протекала жизнь народов в древние времена, лишь на основании общего характера городов майясов и пластических изображений на постройках. Внй полуострова Юкатана до сих пор нигде не удалось доказать связь между государствами майясов XVI столетия, история которых может быть прослежена на расстоянии около десяти поколений, т. е. двух или трех веков, и государствами, центрами которых являются места величественных развалин, исследованные тщательно лишь в последние десятилетия. Ныне почти все эти места лежат в стороне от путей, по которым в позднейшие эпохи происходили сношения. Они скрыты в глубине тропических лесов с роскошною растительностью, которая таит в себе такую мощную первобытную силу, что часто, спустя несколько лет после того, как одна экспедиция проложила тропинку к развалинам, следующая группа исследователей находит уже все поросшим обильнейшей растительностью. При таких условиях бесполезны попытки судить по росту доревьев о древности скрытых между ними развалин. Вместе с тем исторические предания свидетельствуют, что многие из этих разрушенных городов были схоронены под тою же могучею тропическою растительностью уже в то время, когда испанцы впервые случайно открыли их в XVI столетии. Уже тогда внушительные постройки, которыми густо усеяна почва Чиапаса, являлись не только для испанцев, но и для самих туземцев давно умолкнувшими свидетелями отдаленного прошлого. Ни историческое предание, ни область легенд не имели к ним прямого отношения. Даже названия этих мест давным давно были преданы забвенью. Обозначения их, пущенные в ход в новейшее время, опираются не на древние источники, но берут начало из испанских преданий и, быть может, из преданий соседних одичавших индейских племен.
Этому не мало способствовала одна своеобразная привычка древних индейских народов. Так как названия их городов, лиц и даже богов всегда без исключения связывались с вещественными предметами, то не трудно было изображать их условными и общепонятными иероглифическими письменными знаками, как мы это встречаем бесчисленное множество раз в нагуатлакских рукописях. Подобные письмена понимались далеко за пределами ограниченной области происхождения их. Но далеко не все выражали их в звуках одинаковым образом. Так, напр., там, где мексиканец произносил название города летучих мышей (по всей вероятности, тотемистическое обозначение маленького государства майясов, которое еще существовало во время Кортеса) на своем языкй как Синакатан, майясы выражали то же понятие в звуках Тцутугиль, и оба названия и здесь, и там, одновременно употреблялись и понимались. Это доказывает существование тесных отношений между народами майясов и нагуасов. Но так как область древнейшей культуры майясов была уже оставлена ими ко времени открытия, а испанцы предприняли колонизацию страны под руководством и при участаи нагуасов, то в области, которая веками была средоточием высшей культуры майясов и никогда прочно не занималась народами нагуасов, мы встречаем в источниках почти исключительно названия мест нагуатлакского происхождения. Так, развалины Чиапаса имеют почти только нагуатлакские и испанские названия, хотя у нас есть несомненные доказательства происхождения их от майясов, а именно – стиль пластических украшений и в особенности многочисленные надписи, состоящие из письменных знаков майясов.
Судя по размерам, роскоши и техническому совершенству, нужно полагать, что один пункт, если не главный центр культурного развития этого народа, находился на восточном склоне Кордильер в Чиапасе. Здесь на протяжении от подошвы гор до моря, не в очень большом расстоянии друг от друга, расположены развалины Окосинго, Паленке, Менче и Пьедрас Неграс. Каждая из них представляла, вероятно, некогда большой город, центр религиозной и, нужно думать, также политической жизни, вокруг которого сосредоточивалось многочисленное население. От всего этого уцелели почти одни только места храмов и, быть может, тот или другой дворец. Во всяком случае, характерная черта всего средне-американского культурного круга заключается в том, что ему были почти неизвестны частные постройки, тогда как обширные и роскошные религиозные сооружения встречаются в большом числе. Отсюда само собою следует, что в политической жизни древних государств майясов религиозный элемент должен был играть выдающуюся роль. Значение его было так велико, что, по крайней мере, для некоторых майясских государств приходится допустить господство касты жрецов. Аналогия с условиями соседних стран и скудные исторические осадки в предании этому не противоречат.
В сказаниях о переселениях народов центральной Америки – эти сказания имеют важное значение, так как оседлость была сравнительно очень редким явлением даже у тех народов, которые достигли довольно значительного культурного прогресса, – часто повторяется воззрение, что народности, направляемые своим национальным богом, странствовали до тех пор, пока бог непосредственно или через своих служителей приказывал народу остановиться в том или другом месте и построить ему жилище. Другими словами, это означает господство жрецов, которые были в одно и то же время служителями и наместниками божества. Подтверждением могут служить народы исторического времени, которые управлялись не военачальниками (испанцы давали им мало подходящие названия королей и императоров), но религиозными верховными главами. Если обратить внимание на то, что в Паленке, Менче и других местах развалин почти исключительно преобладают сооружения религиозного характера, что даже в пластических изображениях, находимых в этих храмах, представлены почти одни только божества и жрецы (первые почти всегда с знаками светской власти, скипетром и своеобразным головным украшением, увенчанным роскошными перьями), то мы должны будем безусловно признать подобные же отношения и в древних городах майясов. Возможно, что центры политической власти находились в другом месте и оставили по себе не столь прочные памятники. Как пример, можно бы привести соседние области нагуасов, где Теотиуакан и Чолула также были центрами религиозной жизни и украшены более величественными постройками, чем многие королевские резиденции, хотя эти города не имели особенного отношения к политической жизни страны. Но в отношении древних городов майясов с их рядами храмов нужно заметить, что они слишком многочисленны и близко лежат один от другого, так что едва ли между ними оставалось достаточно места для независимых политических центров, настолько могущественных, чтобы служить противовесом такой сильной духовной власти.
Кроме того, мы находим, по крайней мере, в одном из этих разрушенных городов, Паленке и в окружности его, следы, которые безусловно свидетельствуют в то же время и о светском значении его. В пределах самых развалин открыты сооружения для отвода воды и распределения ее в окрестности, и эти сооружения настолько громадны, что они едва ли имели в виду одни лишь храмовые постройки. Следы, которые мог бы оставить древний индейский город, даже больших размеров и с многочисленным населением, не велики. Простолюдин проводил большую часть года вдали от города, в полевых работах. Самые памятники древних майясов свидетельствуют о весьма интенсивной обработке обширных пространств земли и даже в иероглифы вошли многие элементы, относящиеся к предметам земледелия. Точно также в религии их играют выдающуюся роль божества плодородия, украшенные атрибутами земледелия. Наконец, то же самое подтверждают описания испанцев, которые нашли в обитаемых еще областях повсюду густое население, жившее тщательной обработкою земли. И так как зима прерывала сельские работы лишь на короткое время, то вблизи храмов население не заботилось о постоянных жилищах, которые оно обыкновенно строило среди своих полей. Эти легкие постройки из дерева и сучьев, из соломы и циновок не могли сопротивляться влиянию времени, разрушались и последние следы их разносились потоком времени. В действительности, в глубине лесов, окружающих Паленке, попадаются отдельные памятники древности, более или менее заросшие в течение исторической эпохи. Нужно думать, что в то время, когда Паленке представлял цветущий город, эти места были обитаемы прилежным земледельческим неселением. Служение в храмах у народов центральной Америки поглощало множество людей, как видно из цифр, относящихся к жизни Мексико-Тенохтитлана. Если поэтому храмовые постройки в каждом из древних городов майясов многочисленны и часто занимают большое пространство, то это вполне согласуется с преданиями. Вместе с тем, размеры и значение этих построек свидетельствуют о крепкой власти господствующей жреческой касты.
Постройки майясов, которые с нашей точки зрения всегда представляют монументальные сооружения, возвышались обыкновенно на холмообразном фундаменте, имеющем многие черты сходства с курганами (mounds) североамериканских индейцев. В некоторых местах, где местность была особенно пригодна, пользовались для этой цели естественными холмами, ограничиваясь приспособлением их к сооружаемой постройке. Но, большею частью, искусственно воздвигались целые холмы или земляные террасы то из грубых и более гладких окатанных камней, то из хряща или земли. В бесчисленных случаях эти курганы, называемые на языке майясов Ку, составляют все, что осталось от древней постройки. В таких случаях приходится допустить, что на холме находился открытый алтарь или стояло здание, построенное из непрочного материала и потому бесследно исчезнувшего. В Чиапасе подобные ку без надстроек встречаются лишь в связи с более массивными сооружениями. Наоборот, в Юкатане, где архитектура майясов и в некоторых других отношениях обнаруживает признаки упадка, бесчисленные ку стоят или стояли отдельно и в позднейший испанский период часто являлись единственным остатком древних индейских поселений. Во всех больших храмовых сооружениях майясов мы встречаем множество земляных террас, которые расположены в известном параллелизме и часто образуют четыре стороны двора, лежащего ниже. Стороны подобных групп холмов, большею частью, покрыты каменными плитами или гладкой штукатуркой, и самые террасы служат почти всегда фундаментом для массивных и нередко громадных сооружений. У восточной подошвы Кордильер и притом и в Чиапасе, и на границе Гондураса природа дала народам майясов чисто идеальный материал для построек в виде твердого песчаника с небольшою примесью глины. Большие глыбы его получались без труда, не представляли, благодаря своему умеренному весу, непреодолимых трудностей для переноски, и обработка их удавалась даже с помощью тогдашних несовершенных орудий. Несмотря на свою умелость, майясы, очевидно, не были еще знакомы с металлическими орудиями, хотя, повидимому, знали выделку украшений из меди.
Для характеристики архитектуры майясов знаменательно, что они не знали сводов и заменяли их тем, что постепенно сближали располагаемые один над другим слои стен, пока остававшийся промежуток не становился настолько узким, что мог быть закрыт одним камнем. Но эта форма арки не могла идти дальше известной ширины и не была настолько прочна, чтобы выдерживать очень высокую надстройку; кроме того, крыша выходила слишком массивною. Вследствие того передняя стена массы, образовавшей крышу, представляла поверхность, часто на половину бо́льшую, чем находящийся под нею этаж. Архитекторы майясов пользовались ею для украшения орнаментами. Она приобрела с течением времени такое значение в архитектуре, что в наиболее совершенных монументальных сооружениях мы встречаем ее нередко одну, без массивного заднего основания крыши; она является как бы только вывескою для украшения здания. Таким образом, здание, содержавшее в действительности только один ряд комнат, часто казалось с фасада трехэтажным. Только в некоторых, похожих на башни зданиях небольших размеров майясы умели возводить этажи непосредственно один над другим. Во многих случаях, однако, они прибегали к другому способу для постройки храмов в два и более этажей: они придавали им форму пирамиды.
Уже самый фундамент, на котором стояли все постройки майясов, придавал им вид ступенчатой пирамиды. Большею частью, здания начинались, конечно, не на одном уровне с краем искусственного холма, но вокруг постройки оставлялся свободный проход. Для того, чтобы построить второй этаж, оставалось лишь с задней стороны постройки поднять курган настолько, чтобы верхняя поверхность его лежала в одной плоскости с крышею нижнего этажа. Крыша образовывала тогда передний выступ, а на почве приподнятого холма воздвигался второй этаж, на который вела лестница или со стороны фасада, или с открытой стороны холма. Вообще архитекторы майясов, главным образом, увеличивали постройки в ширину, так как при их средствах трудно было возводить высокие и не слишком массивные надстройки. Неприятное впечатление широкой и тяжелой крыши маскировалось до некоторой степени богатой орнаментацией глухих стен и надставками, состоявшими из одних орнаментов.
Смелость плана и кропотливая тщательная разработка деталей поражают нас. Уже самые постройки исключают предположение, что мы имеем здесь дело с простым нагромождением материала; напротив, во всем безусловно виден единый, точно размеренный и расчитанный план. Еще в большей степени это можно сказать о скульптурных работах, в особенности сделанных из камня, которые часто поднимаются на значительную высоту над землею и захватывают много метров плоскости строения. Немыслимо допустить, чтобы эта масса резьбы по камню была выполнена уже после того, как каменные глыбы были поставлены на свое место. Очевидно, отдельные части скульптурной работы были сделаны раньше, чем вошли в состав стен. Так как рисунки этих орнаментов в то же время очень сложны, то, очевидно, требовалось заранее все вычислить и распределить, а это, в свою очередь, предполагает высокоразвитое искусство измерения и вычисления.
Все эти архитектурные особенности встречаются, правда, с известными местными оттенками, у всех вообще племен майясов, которые оставили нам более или менее значительные сооружения. Мы находим их не только в развалинах Чиапаса, но точно также в Гватемале (Тикал), в Гондурасе (Копан) и в Юкатане (особенно Ушмал и Чичен-Итца). С другой стороны, пластические фигуры отличаются в каждой из этих областей столь резкими особенностями, что следует поговорить о них в отдельности. В развалинах городов Чиапаса, древнейшей культурной области майясов, в пластических изображениях преобладает рельеф. В одном случае, это – рельеф из глины или штукатурки, развившийся из гончарного искусства. Целый ряд чрезвычайно интересных образчиков его мы находим на алтарных плитах Паленке. С другой стороны, встречается рельеф по камню, предполагающий более высокую технику; такова знаменитая алтарная плита в Паленке и роскошная плита из тенамита Менче, воспроизведенная на табл.: «Жертвоприношение Кукулкану». Обе эти формы, если оставить в стороне отличия, вытекающие из особенностей стиля, вызывают в нас крайнее изумление перед искусством майясов в смысле замысла рисунка и технического совершенства выполнения. Наравне с ними стоят художники в соседних областях нынешней республики Гватемалы.
Настоящая горная страна Гватемалы, альтосы, не имеет отношения к древнейшей культуре майясов. Правда, в начале XVI столетия испанцы еще застали здесь независимые государства майясов: кичесов, какчикелей и тсутугилов; но едва ли можно сомневаться, что эти государства образовались только в последующее века (ср. ниже стр. 248). Наоборот, низменность на востоке Гватемалы, на границе Юкатана, была обитаема майясами уже в эпоху культурного расцвета, и местонахождения Тикал и Петен, во всяком случае, относятся к несравненно более раннему периоду развития, чем Утатлан, Ишимчѐ и Синакатан, главные города трех названных выше царств. Деревянные дощечки с тонкой скульптурой, перенесенные из развалин Тикала в Базельский музей, независимо от различия материала, по характеру изображаемого и способу выполнения стоят наравне с памятниками Чиапаса. Если не признавать полной независимости каждого отдельного местонахождения древней культуры майясов, то остается допустить, что города Чиапаса и нижней Гватемалы находились некогда в более тесных отношениях между собою, чем с остальною областью майясов: именно в этих странах местами открываются остатки древних дорожных сооружений времен майясов, тогда как далее к югу они становятся реже и только в Юкатане снова появляются в большем числе вокруг определенного центра.
Еще более прогрессивный культурный круг, притом со многими особенностями, образуют самые южные местонахождения развалин на границе Гондураса: Киригуа и Копан. Киригуа принимали за одно из древнейших культурных мест майясов, так как формы искусства его более грубы и без следов чуждого влияния. Но если он древнее Копана, более развитого и, быть может, уже носящего в себе зародыши упадка, то мы должны признать его более молодым сравнительно с северными поселениями майясов: формы искусства его более развиты, чем северные, и находятся в очень тесном родстве с формами Копана. Киригуа и Копан, если не считать нескольких очагов в Юкатане, составляют единственные места, где искусство майясов возвысилось до свободного изображения тела, – если не настоящих статуй, то, во всяком случае, кариатид и монументальных колонн с человеческими изображениями. В Киригуа мы встречаем еще немного таких колонн, ноРельеф из Британского Музея носит название «Жертвоприношение перед Кукулканом». Перед богом, который украшен королевскими знаками, скипетром и богатыми перьями приносит жертву коленопреклоненный верховный жрец, которого отличает роскошное облачение и украшение из перьев на голове. Жертва заключается в том, что шероховатостями находящейся в его руке веревки он царапает себе язык, и капли крови стекают на поставленный перед ним жертвенный сосуд, – единственная форма жертвоприношения человеческой крови, которую знали древние майясы.

Объяснение картины
Двенадцать гиероглифов над и возле Кукулкана состоят каждый, за исключением первого слева вверху, из двух расположенных рядом частей, следовательно, написаны, повидимому, в два столбца, как на многочисленных памятных колоннах майясов. Первый и второй гиероглифы означают календарный знак, состоящий из названий дня и месяца, снабженных каждое числом. К сожалению, ни эти знаки, ни прочие гиероглифы не могут быть с точностью разобраны.
* * *
в Копане их уже множество. И нет сомнения, что они должны были изображать индивидуальные личности, хотя эти последние почти терялись среди символических и стилистических подробностей. Каждая такая колонна покрыта обширными надписями, которые в совокупности еще не разгаданы, но составляют весьма ценный материал. Так, они раскрыли уже семь периодов времени, которые исходят от упомянутого выше нормального числа, отстоящего на 3750 лет от времени сооружения древнейшей из этих колонн. Таким образом, мы можем определить, по крайней мере, минимум продолжительности культурного расцвета Копана, которому эти колонны обязаны своим происхождением. Если считать разницу между древнейшим и новейшим числом не более 108 лет, то мы должны будем принять, что разрушение, упадок Копана соответствует концу этого 108-летнего периода, так как невероятно, чтобы раз усвоенная привычка воздвигать портретные статуи была оставлена без веских соображений, если бы прежние условия продолжались. Многого, правда, этот вывод не дает нам: мы все равно также мало знаем о времени падения Копана и условиях, вызвавших его, как и об аналогичных явлениях в других государствах майясов. Когда испанцы появились на материке, Копан уже давным давно лежал в развалинах в чаще первобытного леса, окруженный сказочными преданиями. Он в такой степени был забыт, что индейцы, сопровождавшие Кортеса и знакомившие его со всеми достопримечательностями страны, ни словом не упомянули о Копане, хотя путь их лежал всего в нескольких милях от него.
Так как почти все монументальные постройки, найденные в области майясов, сводятся къ храмам, то очевидно, что в древнем быту майясов религия должна была играть выдающуюся роль. У них было множество различных богов, не говоря уже о мелких фетишах или домашних богах, называемых здесь, как и на Антильских островах, семесами: каждый дом имел своего семеса. Тем не менее, политеизм майясов в сравнении с другими народами был ограничен. Число богов сведется, вероятно, еще к меньшему, если принять во внимание, что различные дошедшие до нас названия богов суть лишь обозначения одних и тех же божеств у различных племен майясов. Точно также различные изображения богов на памятниках и рукописях отчасти, вероятно, соответствуют лишь различным формам одной и той же божественной сплы. Сознание этого внутреннего единства побуждало их рассказывать миссионерам о едином, невидимом, но стоящем над всеми боге Гунабку, и полные религиозного воодушевления миссионеры, конечно, видели в этом зародыши учения о едином Боге.
В богослужении и мифологии майясов Гунабку отступает на задний план и главное внимание сосредоточивает на себе несомненно Солнце, Кукулкан и Гукуматц, вероятно, также Итцамна суть лишь различные обозначения согревающего, освещающего и осыпающего благами Солнца. Как солнце на востоке поднимается из моря, так и божество, ему соответствующее, согласно преданию, пришло к майясам с востока (см. табл. «Лист из дрезденской рукописи майясов»). Оно для них источник всех благ, физического и духовного благосостояния, плодородия и образования. В этом последнем отношении божество совершенно уподобляется человеку: оно является в образе древнего старца с бородою, в длинном белом одеянии. Под именем Вотана оно наделяет народ землею и дает названия жилым местам: под именем Кабила, красной руки, оно изобретает письмо, учит их воздвигать искусные постройки и создает замечательно разработанный календарь. Эта часть мифа представляет несомненно историческое дополнение к мифу о солнце, главному ядру религиозных представлений, и еще раз доказывает, с одной стороны, власть духовенства, а с другой влияние его, действовавшее в интересах культурного прогресса.
Представление об этом божестве чисто натуралистическое, и символическим выражением его является пернатая змея (таков смысл названия Кукулкан или Гукуматц), которая играет столь выдающуюся роль в искусстве майясов. Это вытекает также из поклонения солнцу. В тропических странах в течение большей части года солнце каждый полдень собирает вокруг себя облака, из которых, при громе и молнии, символах могущества, падает оплодотворяющий дождь на жаждущую землю. Так, и у майясов, на возвышенностях центральной Америки, у индейцев пуэбло и даже у некоторых индейских племен северо-американской низменности пернатая змея, быть может, символ грозы, является символом теплой и влажной, плодотворной силы неба, воплощением которой всегда служит солнце, как главное небесное светило. Символ змеи и Кетцаля, священной птицы с роскошными красками перьев, принадлежат к атрибутам многих божеств майясов. В более скромных формах они господствовали уже в религиозных и художественных воззрениях майясов в области Тцендаля, преимущественно в Юкатане и больше всего в Чичен-Итце, и притом в такой степени, что отголоски этого символизма проглядывают в каждом отдельном памятнике, каждом отдельном изображении.
Дуализм Олимпа майясов также имеет мифологически-натуралистическое происхождение: представителям солнца, света и жизни противопоставляются представители ночи, тьмы и смерти. Будучи почти равно могущественны, они ведут постоянную борьбу за обладание землею и человеческим родом. Добрые боги, расточив человеку все благодеяния, должны были покинуть его и только обещали ему, как утешение в борьбе и надежду на конечную победу, что когда-нибудь появятся опять.
Вокруг этого ядра мифологических представлений, которое в аналогичных формах почти сделалось достоянием большинства первобытных народов, майясы сгруппировали массу подробностей, часто весьма своеобразных. Жизнь человечества не только вообще находилась во власти богов, создавших и образовавших его, но религия или, вернее, жрецы майясов выработали особую систему, согласно которой жизнь человека до мельчайших подробностей беспрестанно регулируется богами. В этом отношении имели решающее значение страны света и созвездия. Тщательные и тонкие наблюдения, которые, очевидно, производились в течение весьма больших периодов времени, дали жрецам майясов такие знания в области астрономии, какими раньше едва ли когда-нибудь обладал другой народ, стоявший на такой же ступени культуры.
Календарь их носит еще следы развития. В древнее время он состоял из 18 месяцев по 20 дней в каждом, как у многих других американских народов. Но ко времени открытия майясы не только умели исправлять солнечный год при помощи 5 добавочных дней, которые были уже известны народам нагуасов, но им было также известно, что и это не соответствует истинной продолжительности солнечного года. И они вносили поправки с такою точностью, какая невозможна была даже в Старом Свете до григорианского исправления западного календаря. Следовательно, в этом отношении они стояли даже выше испанцев, бессознательно разрушавших их культуру. Этот точно вычисленный солнечный год приводили в связь со всевозможными другими годовыми кругами. И на этой почве жреческая каста построила такую массу астрологических толкований, равную которой по разработанности не может представить никакая другая нация. Столь же важен, если не более, чем солнечный год, был обрядовый год, состоявший из 20 недель, по 13 дней в каждой: каждой отдельной части его соответствовало особое божество. В этой комбинации играли важную роль четыре страны света; каждой из них принадлежала четверть обрядового года. Среди этой множественности, однако, ясно проходит сознание высшего единства, что́ подтверждает своеобразный символ четырех страны света – крест, который испанцы, к высшему своему изумлению, находили во всех храмах майясов, как предмет особого поклонения. Рядом с этим несомненно признавалось влияние утренней и вечерней звезды и Плеяд на мировое движение. Возможно даже, что им приблизительно были известны периоды обращения планеты Венеры, Меркурия и Марса и принимались в расчет при вычислениях.
Знание этих сложных астрономических вычислений составляло исключительное достояние высшего класса жрецов. Устанавливая на этой основе почитание богов, жрецы приобретали в то же время решающее влияние на жизнь целой нации. Культ майясов имеет преимущество перед культом нагуасов и в особенности перед идолопоклонством ацтеков, которое сопровождалось кровавыми жертвами и ошибочно считалось едва ли не типической формою богослужения в центральной Америке. Правда, из религии майясов человеческие жертвоприношения, повидимому, никогда не были совершенно устранены. Но в древнейшую эпоху, когда майясы еще не приходили в соприкосновение с нагуасами, стоявшими гораздо ниже в отношении цивилизации и оказавшими отрицательное влияние на культуру майясов, человеческие жертвоприношения у последних происходили весьма редко. Людоедство, которое было сопряжено с ними даже у ацтеков, у майясов совершенно не существовало. И только во время великого празднества при начале нового ряда годов, когда майясы также зажигали новый огонь, как символ вступления в новую эру, и у них приносилась человеческая жертва богам. Религия майясов также придавала высокое значение крови, как объекту для жертвоприношения, но в их глазах умилостивляющей силою обладала кровь не убитой жертвы, а живого человека. Эту кровь он добывал во время поста и самобичеваний в честь своего божества, царапая язык или другие чувствительные части тела колючками или иными орудиями истязания (см. изображение жреца, приносящего жертву, на таблице «Жертвоприношение Кукулкану»). Однако, и это случалось лишь при особых обстоятельствах. Обычные жертвы имели несравненно более невинный характер: то была первая добыча на охоте или первая жатва. Самая распространенная форма жертвоприношения заключалась в курениях пахучей копаловой смолой. Этот религиозный обычай сохранился вплоть до христианской эры, местами даже до настоящего времени; по крайней мере, в более уединенных развалинах майясов, при открытии их, найдены были следы подобного воскуривания, сравнительно недавние.
Бескровно и мирно протекала вообще жизнь этого народа, трудовая, но беззаботная. Жреческая аристократия культивировала искусства и науки и пользовалась своею, правда, неограниченною властью очень мягко. Орудия войны встречаются лишь, как атрибуты богов, на памятниках их и в рукописях; описания завоеваний и опустошений, которые занимают очень видное место в летописях нагуасов, здесь совершенно отсутствуют. Несомненно, что наряду с благодеяниями жизни в довольстве и культурном преуспеянии им были известны и теневые стороны их. Богатство, которое дала им тщательная обработка обширных пространств плодородной тропической почвы, они сумели умножить при помощи значительных торговых оборотов. Колумб и спутники его, во время четвертого трансатлантического путешествия между Ямайкой и берегом материка, встретили купеческое судно из одной гавани области майясов: паруса этого судна, хорошо одетый экипаж его и предметы торговли, – все это указывало, что за Антильскими островами, населенными обнаженными дикарями, существует страна с несравненно более высокою культурою. Но именно это благосостояние оказалось для майясов роковым. Фаллический культ, поклонение божеству противоестественного совокупления, – все это признаки нравственного упадка среди правящих классов этого народа. Неудивительно поэтому, что он не мог оказать успешного сопротивления противнику, который был нисколько не могущественнее его.
Около IX века нашего летосчисления, а может быть, на одно или два столетия раньше, мир в государствах майясов, Чиапасе и Табаско, был нарушен нападениями народов из племени нагуасов. В одной рукописи куикатекского происхождения говорится о завоевательных походах, которые охватили юго-запад центральной Америки до перешейка Тегуантепека; отсюда они приняли восточное направление, коснулись отчасти Гватемалы и проникли, наконец, до страны Акалан, которая непосредственно граничит с полуостровом Юкатаном. Так, враг очутился в самом тылу государств, которым принадлежали Паленке, Менче и другие центры культуры майясов. Если мы не узнаем древних названий их в этом рассказе о куикатекских завоеваниях, то, вероятно, только потому, что еще не в состоянии разгадать их. Трудно допустить, чтобы такие нашествия пощадили легко доступные владения майясов, которые манили своей высокой культурой и своими богатствами. Сомнительно, чтобы дело доходило до серьезных битв между миролюбивыми майясами и пагуатлакскими кочевниками, исполненными дикого воинственного пыла. Развалины в Чиапасе и Табаско не представляют почти никаких следов насильственного разрушения, какие мы встречаем, напр., в Майяпане (Юкатан). Притом для этих народов, которые строили прочные жилища только для своих богов, а сами довольствовались легкой соломенной хижиной, где вешали на ночь свой гамак, составлявший почти единственную домашнюю принадлежность, – для них легче было расставаться с насиженным местом, чем народам с высшим культурным развитием. Возможно, что Копан, культуру которого мы можем проследить лишь в течение какого-нибудь столетия (ср. выше стр. 239), был только временным местопребыванием майясов, которые очистили более северные местообитания свои в долине Усумасинты перед натиском передовых отрядов переселенцев нагуатлакского происхождения. Но и здесь они могли расчитывать на спокойствие лишь в течение нескольких поколений. Завоеватели из племени нагуасов следовали по пятам за своими уступчивыми противниками и, в конце концов, многочисленные и сомкнутые массы нагуасов положили конец мирному существованию их в этом новом местообитании.
Так или иначе, конечным результатом этой борьбы между двумя чуждыми расами, длившейся, вероятно, очень долго, было уничтожение древней культуры майясов и распадение обладавших ею народностей на две новых, совершенно различных группы: на майясов Юкатана и племена Гватемалы. Майясы застали Юкатан не заселенным. Возможно, что переселение их совершилось еще раньше, до бегства под напором нагуасов. В начале этот полуостров едва ли мог казаться им особенно заманчивым. Правда, он обладает здоровым климатом, благодаря своему положению между двумя морскими заливами, и обилие влаги, доставляемой морскими ветрами, создает здесь роскошную растительность. Но на всем полуострове трудно найти текущую воду, это первое необходимое условие оседлого поселения. Отыскивать эту ценную влагу с величайшими усилиями под землею, тщательно собирать ее и часто поднимать по ступеням и лестницам на высоту до 100 метров, – на это можно было решиться только в крайности. Несомненно, что Юкатан был заселен майясами в позднейшую эпоху, нежели Чиапас и Табаско. Многократно производившиеся раскопки открыли, даже в самых глубоких пещерных пластах, одни лишь остатки значительно подвинувшейся культуры обитателей; следы постепенного развития этой цивилизации совершенно отсутствуют. Следовательно, переселившийся сюда народ должен был усвоить свою культуру в иных местах, что подтверждается относительно майясов соседних стран, лежащих к западу. Правда, во время вторжения испанцев в Юкатан значительная часть древних очагов культуры представляла уже развалины; но рядом с развалинами сохранились в полной жизненной силе другие города и храмы, по характеру вполне сходные с ними. Кроме того, предания сохранили довольно связное воспоминание о покинутых и разрушенных местах.
Искусство юкатекских построек, по сравнению с западными государствами, является, несомненно, более поздним, стоит далеко не на такой высоте и отнюдь не чуждо примеси посторонних элементов. Вместо простого стиля древних монументальных сооружений, украшения которых ограничивались скульптурными плитами и сопровождавшими их надписями, мы находим здесь чрезмерное изобилие орнаментальных аксессуаров, очевидно, под влиянием внешних свойств материала, и изысканную, преувеличенную символику, которая гораздо понятнее была бы у дряхлеющей нации, чем у народа, едва только развернувшего свою юную мощь. Среди этой массы скульптурных украшений едва остается место для надписей, и эта важная и ценная составная часть древнего искусства майясов здесь почти совершенно отсутствует. В скульптурных произведениях и стенной живописи несомненно сказывается влияние элементов нагуатлакского происхождения, что́ делает вероятным возникновение юкатекских развалин в эпоху после соприкосновения обеих рас. В пользу позднейшего происхождения говорит и календарь юкатекских майясов, который в некоторых отношениях разнится от календаря чиапанекских племен майясов. Эти различия приобретают особенное значение в силу того, что они сближают юкатеков с нагуасами, культура которых несомненно развилась позднее, и удаляют их от собственных, но более древних соплеменников. Наконец, и традиция, при всей легендарности ее, дает некоторые указания на то, что занятие Юкатана явилось лишь последствием гибели древней культуры майясов.
Юкатан, повидимому, с самого начала был раздроблен на множество мелких государств, и каждое из них культивировало свои собственные предания. Поэтому рассказы об истории полуострова в различных традициях не только не исходят из общего источника, но вообще имеют так мало точек соприкосновения, что невозможно восстановить по ним общую картину истории майясов. Из них ясно лишь одно, что уже самое вторжение в Юкатан и заселение его произошло не сразу и что различные небольшие группы независимо одна от другой искали убежища по ту сторону густых юкатекских пограничных лесов. Некоторые из этих групп сохранили без изменения старые учреждения, с которыми они сжились в более счастливые времена на своей западной родине. Если бог Итцамна сам считается основателем и первым правителем священного города Итцамаля, если бог Кукулкан, являющийся, вероятно, лишь воплощением сходных представлений, был первым королем Майяпана, правил многие годы мирно и счастливо и считался родоначальником княжеского рода кокомесов, то это следует понимать таким образом, что толпы майясов, избравших Итцамаль и Майяпан своим новым местожительством, по прежнему управлялись еще жрецами. По аналогии с мексиканскими условиями, следует заключить, что жрецы со священными изображениями богов стали по главе переселенцев и затем от имени богов повелели им занять новую страну и построить в ней новые города. В Итцамале господство жрецов сохранилось, повидимому, до того времени, когда этот город утратил самостоятельность и попал под власть соседних государств, быстро расширявшихся под управлением светских властителей. Майяпан занял с течением времени первое место между ними. Но царствовавший там королевский род кокомесов, хотя и считает себя происшедшим от самого Кукулкана, но признает в то же время, что обязан своим происхождением перерождению духовных правителей в светских или, по крайней мере, что он был основан при содействии жрецов национального бога.
Несколько иначе сложились с самого начала условия у групп майясов, которые, под именем итцесов, основали впоследствии город Чичен-Итцу и дали ему свое имя. Здесь, нужно полагать, переселенцы с самого начала заменили господство жрецов светскою властью. Правда, Тутул Шиусы называются иногда святыми людьми, но они всюду являются воинственным княжеским родом. Традиция их самым точным образом указывает на происхождение из западных государств майясов: как на исходную точку их переселения, категорически указывают на страну Ноноуал, Ноногуалко нагуасов, береговую страну Табаско. Оттуда они, после долгих блужданий, пришли в Чакноуитан, самую южную часть Юкатана, и основали свой главный город в Сийян-Каане, впоследствии у Бакаларской лагуны. В позднейшие эпохи, правда, как видно из летописей Тутул Шиусов, центр тяжести юкатекской истории переместился к северу полуострова; но и у Бакаларской лагуны испанцы встретили при Монтехо многочисленное население майясов, жившее во многих больших городах. Владычество Тутул Шиусов в Сийян-Каане продолжалось, как говорят, 60 лет, после чего они двинулись к северу и избрали себе столицею Чичен-Итцу.
Судьбы Чичен-Итцы, города, который занимает такое же место среди священных мест Юкатана, как Теотиуакан в Анагуаке, недолго были связаны с основавшим его родом Тутул Шиусов. В это время успели окрепнуть расположенные вокруг него территориальные княжества, и разногласие их интересов повело к войнам и разрушению расцветавших городов. Повидимому, кокомесы, правители Майяпана, разрушили после 120-летнего правления трон Тутул Шиусов в Чичен-Итце, поставили этот город в слабую зависимость от своего государства, а правителей и их приверженцев принудили к новому переселению. Согласно тем же преданиям, Юкатан обязан этому княжескому роду еще другим из своих лучших городов, которые славятся богатейшими художественными украшениями. Тутул Шиусы бежали поперек, через весь полуостров, до северного побережья и заняли Чампотон, в котором правили, повидимому, более двух с половиною столетий. Это подтверждается обширными местами погребений народа майясов, открытыми на маленьких островах, которые лежат напротив города Чампотона или Потончана, известного впоследствии как местообитание нагуатлакского населения. По всей вероятности, уже здесь установились отношения между подвластными Тутул Шиусам майясами и окрепнувшими в этот промежуток времени народами нагуасов. В XIV веке наемные нагуатлакские войска играют значительную роль во внутренних войнах Юкатана. Не одни кокомесы Майяпана пользовались услугами чужеземцев, как изображает предание: мы заключаем это из художественного характера изображений, найденных в самом центре владений противников кокомесов, особенно в Чичен-Итце. Здесь и князья, и воины часто изображаются в таком виде, который сразу напоминает способ изображения ацтекских рукописей.
Союзы дали возможность Тутул Шиусам снова распространить свое владычество из Чампотона к северу и востоку. Мимоходом они заключили мир и союз с правителями Майяпана; в Итцамале и Чичен-Итце также сидели свои княжеские роды. В это время Тутул Шиусы перенесли свою столицу из Чампотона в Ушмаль. Грандиозные и роскошные сооружения, которые они там воздвигли, несомненно свидетельствуют о продолжительном мире, которым они воспользовались в видах культурного преуспеяния. В то время, когда под мягким владычеством Майяпана установился вынужденный мир между различными мелкими государствами, они развернули величественную художественную деятельность, которая выступает перед нами в развалинах бесчисленных памятников на юкатекской почве. В эту же эпоху страна была изрезана, как некогда область между Паленке и соседними городами, широкою сетью тщательно проложенных искусственных дорог, остатки которых были найдены в различных местах. Они, без сомнения, прежде всего служили религиозным целям. Предание говорит, что от главных храмов в Чичен-Итце и Итцамале шли дороги вглубь страны по всем направлениям, откуда стекались пилигриммы для поклонения пернатой змее Кукулкану, занимающему главное место среди божеств майясов позднейшего времени. Прежде всего эти дороги соединяли Чичен-Итцу с островом Косумелем, расположенным близ восточного берега и представляющим на всем своем пространстве одну обширную храмовую территорию. Здесь испанцы впервые увидели крест, символ божества, управляющего четырьмя странами света (см. выше стр. 241).
Не долго, правда, просуществовала культура майясов на юкатекской почве. Иго кокомесов тяжело отразилось на стране и народе. Уже в начале своего правления, кокомесы, чтобы иметь прочную опору, создали аристократию, которая была обязана личной ленной службою в резиденции правительства. Взамен того ей предоставлено было право широкой эксплуатации земли и людей. В дополнение кокомесы ввели институт рабства, раньше совершенно неизвестный майясам; по всей вероятности, он – нагуатлакского происхождения. В основу его положен был принцип завоевания. Государство Майяпан было расширено в значительной мере путем насильственного подчинения; даже город Чичен-Итца подпал под власть скипетра Майяпана исключительно этим путем.
С течением времени правительственный гнет, непрерывно возраставший, повел к тому, что положение низшей массы, подчиненной ленным кацикам, выродилось в крепостничество, которое очень мало отличалось от рабства. При этом правящие классы отдавались безграничному наслаждению радостями жизни. Самая легенда об основании их государства посвящает нас в деяния преступной безнравственности. Благодаря тому, правители чувствовали под собою нетвердую почву, несмотря на то, что были окружены аристократией, связанной с ними общими интересами. Следуя примеру тиранов, они окружили себя телохранителями из чужеземцев и для этого вербовали воинов из племени нагуасов в области Табаско. Однако, и эта защита оказалась недостаточною, чтобы подавить всякие проявления недовольства. Одним из первых восставших против тирании кокомесов был правитель Ушмальский. К сожалению, оружие решило дело против него, и раздоры, которые вспыхнули в самом Ушмале, привели если не к уничтожению королевского города, то к оставлению его жителями. Остатки Тутул Шиусов вынуждены были еще раз отступить и основали новое княжество в Мани, которое, однако, никогда не могло достигнуть блеска и значения прежних владетельных резиденций их, Чичен-Итцы и Ушмаля.
Но пример возмущения был дан и вскоре нашел подражание среди подвластных королей, которых теснили кокомесы, хотя и не в такой степени, как аристократию Майяпана. Князь Чичен-Итцы был вторым, который отказал в должном почтении тирану Майяпана. Но и он понес кару. На троне кокомесов сидел человек, обладавший необычайной энергией. Гунак Ээл был, правда, еще худшим тираном, чем его предшественники, но никак не близоруким политиком. Он прекрасно понимал, что не может расчитывать на верность и привязанность своих подданных и поэтому искал опоры своей власти вне своего царства. Хроника упоминает о союзе, который Гунак Ээл заключил с губернаторами мексиканского короля в Табаско и Шикаланго. Это, очевидно, анахронизм, так как в то время, когда Гунак Ээл сидел на троне Майяпана, ацтекские правители Мексико-Тенохтитлана вели еще упорную войну за свою собственную независимость с текпанекскими королями Аскапуцалько. Тем не менее, остается верным факт, что Гунак Ээл соединился с воинственными нагуасами соседних царств. Несмотря на мобилизацию больших сил (Гунак Ээл двинулся с 13 ленными князьями против Чичен-Итцы), успех похода был далеко не такой решительный, как против Ушмаля. Правда, Чичен-Итца уступил превосходным силам, но сохранил своих князей, поставленных лишь в слабую зависимость от Майяпана.
С тех пор внутренние войны в царстве кокомесов не прекращались. Вследствие неточности хронологических данных в юкатекских летописях, трудно выяснить, сколько времени продолжались внутренние войны в царстве Майяпана. Повидимому, прошло почти столетие прежде, чем наступила катастрофа. Поводом к ней послужили постоянно повторяющиеся восстания в Чичен-Итце. Кроме того, в основе этой непримиримой вражды могли лежать или, по крайней мере, давать ей пищу религиозные мотивы. Майяпан и тесно связанный с ним город жрецов Итцамаль покланялись Итцамне, как своему племенному божеству, тогда как Чичен-Итца сделался мало-по-малу для всей области культуры майясов центром поклонения Кукулкану, пернатой змее, в изображении которой вполне преобладает пластическое искусство Чичена. Соперничество между Итцамалом и Чичен-Итцой послужило поводом к непосредственным военным стычкам между ними; без сомнения, оно являлось сильным элементом для той враждебности, с какою в Майяпане смотрели на соперницу, никогда окончательно не подчинявшуюся. Тем не менее, кокомесы слишком мало входили даже в собственные интересы и позволяли духу сопротивления внутри их царства принимать все большие размеры. Наконец, и чужеземные охранители не в состоянии были справиться с превосходными силами неприятелей. Образовался союз между Тутул Шиусами, бежавшими в холмистые местности среднего Юкатана, правителями Чичен-Итцы и ближайшими врагами кокомесов. Против этих соединенных сил не могли устоять ни толпы наемных воинов из нагуасов, ни крепостные стены, которыми с давних пор был обнесен Майяпан. Царство кокомесов рушилось, а с ним исчез последний след общности между государствами майясов. Месть врагов уничтожила до основания гордую столицу королей, которая почти пять столетий была центром царства, обнимавшего по временам бо́льшую часть полуострова Юкатана. Хронологическая дата этого события в точности еще не установлена, несмотря на то, что оно является самым выдающимся в истории Юкатана в веке, предшествовавшем испанскому завоеванию. По всей вероятности, решительные битвы происходили около 1436 года, хотя уже перед тем, в течение почти 20 лет, вокруг Майяпана царило почти непрерывное военное положение.
То была не настоящая война, а скорее ряд революционных вспышек, что несомненно доказывается наступавшим изменением отношений. Даже ненавистная лейб-гвардия из нагуасов, окружавшая тирана, не была захвачена его гибелью; победители пощадили ее. Ей разрешили даже поселиться в провинции Акулан, вблизи Кампеша, и основать там небольшое нагуасское государство. Очевидно, однако, что оно скоро было поглощено окружавшими его со всех сторон майясами, так как спустя столетие, в эпоху завоевания, на всем протяжении полуострова не было жителей, говоривших на наречии нагуатль. Последний отпрыск семьи кокомесов, который во время революции находился в Улуа, где вербовал новые ацтекские вспомогательные войска для поддержки отцовского царства, был также пощажен победителями. Он имел возможность собрать вокруг себя последних приверженцев старой династии и вместе с ними основал другое небольшое государство. Благодаря этому обстоятельству, имя кокомесов не исчезло для потомства. Центром их была провинция Сотута с главным городом Тибулоном, находившаяся в самой глубине страны, в лесистой местности. Испанцы проникли, однако, и туда.
Трудно выяснить действие, какое произвело падение господства кокомесов на оба соперничавших города жрецов, Итцамаль и Чичен-Итцу. Чичен-Итца был при короле Улмиле, в течение долгого времени, главным гнездом сопротивления королям Майяпана. Вследствие того, и город этот, и страна неоднократно чувствовали на себе королевский гнев. Тем не менее, до самого разрушения Майяпана король Чичен-Итцы являлся могущественным союзником всех восстававших. Можно было ожидать, поэтому, что отныне для священного города пернатой змеи откроется эра нового расцвета. А вместо того, название его окончательно исчезает из предания: в разделении Юкатана на 7 мелких королевств, которое застали испанские завоеватели, Чичен-Итца не выступает уже как самостоятельное государство. Короли Итцамаля указывают первому небольшому испанскому отряду, проникшему в Юкатан, в качестве квартир, заброшенные развалины этого города, которые успели уже покрыться обильною растительностью. Точкою опоры для объяснения этого странного факта может, пожалуй, служит легенда, будто один из князей Чичен-Итцы, во время одной из многих революций, возникавших в последние времена господства Майяпана, покинул страну вместе с большею частью своего народа, чтобы уйти от арены битв и порабощения, и направился к первоначальным местопребываниям майясов на дальнем западе. Ему будто бы обязано своим происхождением маленькое государство майясов, Петен-Итца, на озере Петен в Гватемале. Фердинанд Кортес, в своем походе в Гондурас, посетил столицу этого государства на острове Петенского озера, названном испанцами Исла де-Флорес. В новейшее время и в этой местности открыты развалины городов майясов, которые сделали бы честь строителям Чичен-Итцы, если только действительно эти последние перенесли вторую, более молодую культуру на эту классическую почву майясов.
С маленьким царством майясов в Петен-Итце связано еще другое оригинальное предание. На этом месте конь Кортеса будто бы так сильно заболел, что не мог двигаться дальше. Он был оставлен, поэтому, у майясов с тем, чтобы они ухаживали за ним и затем передали испанцам, которые будут потом проходить здесь. Индейцы, которые, как видно из многих эпизодов эпохи завоевания, чувствовали священный страх перед совершенно неизвестными им лошадьми, не нашли ничего лучшего, как оказать коню божеские почести. Они поставили его в храм и подносили ему жертвенный корм. Этот культ они продолжали даже тогда, когда благородный скакун умер, быть может, от непривычной пищи, и на место его было поставлено лепное портретное изображение из глины.
Государство Петен дольше всех прочих владений майясов отстаивало свою самостоятельность против испанцев. Этому особенно благоприятствовала мало доступная местность, в которой последние итцесы разбили свои жилища. Здесь еще более столетия после посещения Кортеса спокойно продолжается поклонение старым богам, культивирование старого искусства, изучение старых священных книг. Не одна попытка миссионеров и губернаторов уничтожить этот последний очаг язычества бесславно рушилась в непроходимой глуши обширных лесов, окружавших маленькое царство Петен и служивших ему наилучшим оплотом. Только в 1671 году удалось, благодаря одновременным нападениям с различных сторон, сосредоточить достаточную военную силу на Петенском озере. Изощренные в длившихся веками битвах воинственные и храбрые майясы оказали и тогда отчаянное сопротивление; но несовершенное оружие индейцев не могло, конечно, устоять против лучшего вооружения и в особенности против тяжелых орудий. Так был разрушен последний город, в котором древнейшая культура Нового Света еще сохранила независимое существование.
Такая же судьба, но еще раньше, постигла все прочие государства майясов. Странным образом, наибольшие выгоды из возмущения против Майяпана извлек именно тот город, который был ближайшим союзником кокомесов и скорее всего должен был поплатиться за это. Большая часть территории, составлявшей древнее царство Майяпана, досталась не итцесам Чичена и не Тутул Шиусам Мани, а древнему городу жрецов, Итцамалю. И род челесов, от которого происходили в течение многих поколений верховные жрецы царства Майяпан, дал и светских правителей вновь возникавшему княжеству. Челесы не пытались подражать завоевательной политике кокомесов. Тем не менее, государство их, наряду с государством Сачи, было самое обширное, какое испанцы застали на полуострове: за исключением Кампеша, небольшой страны, принадлежавшей нагуасам, оно обнимало весь север и восток. Область этого княжества, в котором испанцы с самого начала встретили радушный прием, сделалась впоследствии ядром испанской провинции Юкатан, и главный город ее Мерида был построен на месте древнего Тиго, в расстоянии лишь нескольких миль от Итцамаля. Испанцы своим неразумным поведением не раз еще вызывали ожесточенные стычки прежде, чем окончательно подчинили своему господству область майясов в Юкатане. Но когда в стране окончательно водворились покой и порядок, туземное население, все еще довольно густое, проявило издревле присущие этому народу качества. Добродушные, покорные и нетребовательные индейцы-майясы стали обрабатывать для своих христианских господ и священников землю с таким же прилежанием, как они это делали для прежних правителей. Искусные строители и скульпторы воздвигали теперь, по новым образцам, храмы и дворцы, проявляя при этом старинную художественность.
Относительно населенных майясами областей Гватемалы, позднейших царств кичесов, какчикелей и тсутугилов, трудно сказать, были-ли они заселены лишь впоследствии, когда древней культуре майясов в области Тцендаля стала грозить опасность со стороны надвигавшихся племен нагуасов. Скорее нужно думать, что занятие этих земель народами племени майясов принадлежит более ранней эпохе. Не без влияния на эти государства осталось одно событие, которое столь роковым образом отразилось на родственных им по происхождению нациях, живших в непосредственном соседстве. Дело в том, что майясы западной возвышенности получили в то время сильный прилив элементов, которые стояли в культурном отношении гораздо выше и поэтому должны были оказать не малое влияние на эти племена.
Майясы Гватемалы также принимали полное участие в наиболее существенных культурных приобретениях своего племени. Они были посвящены в искусство письма при помощи своеобразных иероглифических знаков, отличающих культуру майясов. В их легендарных преданиях, которые дошли до нас еще в большем количестве, чем предания более подвинувшихся восточных соплеменников их, сказывается тот же круг религиозных представлений: здесь, как и там, стоят в центре одни и те же боги, иногда с теми же именами. Здесь, как и там, сложная астрономическая календарная система, составляющая крупнейшее научное завоевание майясов, управляла и религиозною, и гражданскою жизнью. Одни лишь привычки повседневной жизни и вытекавшие из них особенности строя были совершенно иные. Отсюда исходили различные уклонения в области искусства и особенно архитектуры, которые могут показаться странными, если приписывать их непосредственно и исключительно строителям Паленке, Менче и проч. Гористые местности Гватемалы, в которых были расположены главнейшие города кичесов и родственных им правителей, давали такой же материал для проявления художественных наклонностей, какой майясы находили в более низменных странах. И, однако, у западных племен даже архитектура никогда не достигала хотя бы приблизительно такого богатого развития, как на востоке, а число памятников пластического искусства, происхождение которого из горных местностей несомненно доказано, поразительно ничтожно. Одни лишь многочисленные образцы высоко развитого гончарного искусства, открытые в альтосах и западных частях Гватемалы, свидетельствуют, что жившие здесь народности майясов не отделились, подобно гуастекам, от коренного племени еще до развития специфической культуры майясов, но принимали участие во всех ее успехах. Кичесы и родственные им племена оставили нам на своих гончарных изделиях те же надписи и календарные знаки, которые мы привыкли видеть у других племен майясов, как обычное украшение построек, в виде резьбы на камне или лепного орнамента.
Число развалин городов, открытых в области западных майясов, нельзя назвать ничтожным, и остатки массивных каменных сооружений, но только без обычных художественных украшений, далеко не редки. Но эти городские постройки запада резко отличаются от городов низменности и Юкатекского полуострова преобладанием крепостного характера. Правда, и в низине попадаются сооружения, очевидно, имевшие целью служить защитою от вражеских нападений; но там цели фортификации нигде не выдвигаются на первый план и во многих местах совершенно стушевываются. Обратное явление мы видим в Гватемале. Здесь уже самый выбор местности доказывает, что главное внимание было обращено на оборонительную способность. Остатки стен, укреплений и цитаделей, часто огромных размеров, для возведения которых требовалось сосредоточение значительных сил, наиболее поражают нас в области кичесов. Возможно, что майясы, отличавшиеся очень мирным характером, пока жили в низменности, совершенно преобразовали свой национальный характер впоследствии под влиянием непрерывных столкновений с воинственными племенами нагуасов, из коих некоторые, очевидно, проникли вплоть до Никарагуа. Более вероятно, однако, что уже с самого начала между мирными племенами богатого побережья и грубыми народностями горных стран существовали коренные различия, зависевшие от окружающей природы, но не выработавшиеся уже в пределах исторических периодов.
Предания западных народностей рассказывают, что из древнего города Тулана, который не раз являлся исходной точкой всяких переселений и находился, вероятно, в местности Табаско (если вообще понимать под ним один только город), выселился кичес Нима, великий кичес, с тремя братьями, и направился к западу, к горам. Здесь братья разделили страну таким образом, что одному досталась область Чиапаса (Келенес), другому Верапас (Тесулутлан), третьему область мамесов и покомамов (северо-западная часть Гватемалы), а сам он получил страну кичесов, какчикелей и тцутугилов, королевские роды которых ведут свое происхождение от него. Это предание, не взирая на нагуатлакское влияние, несомненно указывает сознание единства даже у тех народностей майясов, которые в дальнейшем ходе истории не играли никакой роли. Это относится к эпохе, в которой чувство общности еще не могло в такой степени изгладиться, как впоследствии. Так как здесь Чиапас является еще одним из четырех царств майясов и нет указаний на то, чтобы эта область подпала под власть чужеземных завоевателей, то мы должны допустить, что это разделение народностей принадлежит эпохе, задолго предшествовавшей бегству чиапасских майясов.
Дальнейшая история этих племен до нельзя запутана. Беспрерывные внутренние войны, частые переселения и перемены резиденций, восстания против гнета правителей и затем новое заключение мирного союза характеризуют ее. Даже число королей из племени кичесов определяется то в 11, то в 17, иногда в 23 поколения. Несомненно лишь, что короли кичесов занимали выдающееся место среди коренных правителей Гватемалы. Один хроникер ставит их совершенно наравне с ацтекскими правителями Мексико-Тенохтитлана и утверждает, что царство кичесов по своим размерам не только могло соперничать с ацтекским, но безусловно превосходило его.
Приводят различные причины, в силу которых произошло отделение мелких царств какчикелей и тцутугилов. Во-первых, утверждают, что это случилось уже при первом наследнике Нима-Кичесе, короле Аксопиле, который собственно и считается основателем царства кичесов, путем раздела наследства. Но короли более мелких царств сохраняли при этом почтительное отношение к главному государству кичесов. В силу особого порядка престолонаследия, который часто встречается на американской почве, они сами были заинтересованы в этой подчиненности. Аксопиль еще при жизни передал старшему сыну управление царством какчикелей, а младшему отдал царство тцутугилов. После смерти к старшему должна была перейти власть над всем государством кичесов, второй сын получал власть над какчикелями, а самый юный из наследных принцев должен был править тцутугилами. Таким образом, каждый из принцев прежде, чем достигнуть высшего места в государстве, проходил школу управления в постепенно увеличивавшем масштабе. Едва ли, однако, этот порядок серьезно соблюдался после его смерти. Икутемаль, старший из сыновей Аксопиля, вступив на престол кичесов, передал управление какчикелями не брату, а своему старшему сыну. Это послужило сигналом к изнурительным внутренним войнам, которые никогда надолго не прерывались до самого прибытия испанцев. Соседние племена нагуасов втягивались и здесь, как союзники, в войны между соплеменными царствами майясов. Влияние их оказалось в этом случае настолько глубоким, что майясы позаимствовали у нагуасов кровавые человеческие жертвоприношения и людоедство. Все говорит за то, что в Гватемале смешение населения майясов с пришлыми нагуасами происходило в гораздо больших размерах, чем в Юкатане.
Все три царства отстаивали свою независимость одно от другого и находились в постоянных войнах между собою до прибытия испанцев. В 1492 году несколько вождей какчикелей поднялись против Кая Гунахпу, который еще раз сделал попытку расширить свои владения на счет соседей. Он был побежден и заплатил смертью за свое предприятие. В этом не было ничего особенного, но какчикели придали этой победе такое значение, что сделали ее исходной точкой нового счисления времени. Как истые революционеры, они совершенно отменили древний календарь жрецов и установили год, состоящий из 400 дней и разделенный на 20 двадцатидневных месяцев. Они были единственным племенем центральной Америки, отпавшим от искусно составленного астрономического календаря майясов. Не подлежит, однако, сомнению, что их новый год нисколько не представляет собою прогресса и является не более, как актом произвола.
Не взирая на разнообразные точки соприкосновения с нагуасами, царства майясов, повидимому, никогда не входили в сношения с ацтекским государством Монтесумы. Они знали друг о друге и, быть может, еще до прибытия испанцев обменивались посольствами. Завоевания ацтеков в последние десятилетия их владычества даже близко подошли к владениям майясов; тем не менее, это не привело к прямым столкновениям между обеими группами государств. У кичесов было слишком много дела в собственных пределах, благодаря племенной вражде, и они не могли думать о внешних завоеваниях, которые неминуемо привели бы к столкновению с ацтеками. Когда испанцы стали приближаться на опасное расстояние к царству ацтеков. Монтесума II отправил, как говорят, большое посольство к королю какчикелей: но, повидимому, между ним не состоялось соглашения. Еще раньше, чем испанцы собрались подчинить своему скипетру царства майясов в Гватемале, послы короля какчикелей явились в только что завоеванную Мексику к Кортесу и просили у него поддержки против кичесов. Конечно, такая поддержка была им обещана слишком охотно. В 1524 году Аделантадо Педро де Альварадо явился в Ишимче́, открыл в союзе с какчикелями военные действия против кичесов и после нескольких кровопролитных сражений победил их. Тсутугилы держались нейтрально, расчитывая на недоступность своего царства, и отказали в поддержке не только кичесам, но даже испанцам. В виду того, Альварадо направил против них свои боевые силы, от превосходства которых не спасли тсутугилов ни естественные оборонительные средства, ни искусственные укрепления. Слишком поздно поняли какчикели, что, соединившись с испанцами, они продали и собственную свободу. И когда они сделали попытку свергнуть незаметно сковавшее их иго, то удобный момент для успешного сопротивления был давно пропущен. Своей бесполезно пролитою кровью они искупили только ту вину, что облегчили чужеземному завоевателю возможность проникновения в их страну.
b) Нагуасы
Страны к северу от культурной области майясов до границ индейцев пуэбло, т. е. от Тегуантепекского перешейка до пределов Техаса и Новой Мексики, испанцы нашли в XVI веке занятыми многочисленными народностями племени нагуасов. Эти народы жили там уже в течение многих столетий, но, тем не менее, сами не считали эту страну своей первоначальной родиной. И действительно, там существовали остатки чуждого элемента населения, который в культурном отношении стоял вообще ниже нагуасских племен. В сказании о переселении, которое, в более или менее одинаковой форме, находится в обращении у всех народностей нагуасов, упоминается о первобытной родине племени на дальнем севере, у большой воды, где играют существенную роль местности Астлан (город на воде) и Чикомосток (семь пещер). Эта легенда создала целую литературу. На всем пространстве от Тихоокенского побережья до североамериканских озер, от Берингова пролива до Мексиканского плоскогорья, едва ли найдется клочек земли, который тот или другой исследователь не связывал бы с переселением ацтеков из Астлан-Чикомостока в Мексико-Тенохтитлан.
Помимо сказаний, имеются лишь очень скудные следы переселения народов нагуа в направлении с севера на юг. Область, лежащая несколько к северу от позднейшего культурного центра нагуасов, Анагуакского плоскогорья, была уже сравнительно рано заселена народностями индейцев пуэбло, которые – если не считать слабых намеков на культурные представления нагуасов – обладали слишком типичной и независимо развивавшейся цивилизацией для того, чтобы можно было допустить движение переселявшихся нагуасов через эти области в отдаленную эпоху. Правда, следы нагуасских языков найдены в собственных именах или в наречиях народов пуэбло в Синалоа и далее к северу до гописов Моки или Тусайяна. Точно также в пределах культуры майясов мы встречаем у летописцев XVI века поразительное множество названий мест, которые заимствованы из языка нагуасов. Но мы вместе с тем знаем положительно, что причина эта лежит не в распространении владений нагуасов до этих стран, а в том, что испанцы, проникавшие сюда по указаниям индейцев, знали только язык нагуасов и нагуатлакские обозначения мест. Эти названия были затем подтверждены преданием и закреплены, благодаря преобладанию нагуатлакского элемента в центре испанской колонизационной области. Без сомнения, также было и на севере.
Исторические предания племен нагуасов дают право заключить, что первоначальная родина их, хотя и находилась в северной части, но, во всяком случае, еще в пределах той области, в которой испанцы застали преобладание их племен. Как иероглифические записи, сделанные отчасти еще до периода завоевания, так и сведения, добытые у туземцев испанскими хроникерами, указывают, что племена нагуасов в течение долгого времени жили в тех же пределах, где их нашли в XVI веке; то были совершенно нецивилизованные охотничьи и рыбачьи народы. Кроме них, существовало еще несколько родственных народностей, которые не приобщились к культурным приобретениям соплеменников, поставленных в более благоприятные условия. Еще свежо было то время, когда, согласно преданию, некоторые племена, найденные испанскими завоевателями на высоте общей цивилизации отказались от кочевой жизни и вместе с земледелием восприняли блага культуры.
Вообще оседлость, которую мы отнюдь не должны представлять себе даже у самых цивилизованных народов в тех образцах, в каких она развилась у культурных наций Старого Света, свойственна была нагуасам, и в частности ацтекам, лишь в слабой степени. Подобно майясам, индейцы центральной Америки, под давлением неблагоприятно сложившихся политических условий, легко покидали места, на которых целые поколения народа жили, работали, возводили постройки. Ацтеки, которые сами утверждают, что они были последними переселенцами, покинувшими общую родину Астлан-Чикомосток, продолжали еще десятки лет свое движение, чуть ли не в самую историческую эпоху, между различными другими нациями племени нагуасов, хотя эти последние уже давно перешли к оседлости и сделали большие успехи в культурном отношении. Немыслимо, чтобы при таком неравенстве развития, при неблагоприятной обстановке, в которой протекает кочевая жизнь еще не цивилизованного народа, предание могло сохраниться не извращенным. По всей вероятности, в основании легенды о выходе нагуасов из Астлан-Чикомостока лежат мифологические и религиозные представления.
Нагуасы были всецело и во все времена внутри-материковым племенем. Если и допустить, что они появились на Атлантическом и Тихоокеанском побережьях, то это случилось очень поздно, причем они вытеснили более древнее население, повидимому, не находившееся в племенном родстве с ними. Но даже после того, как отдельные народности их освоились с тропическим климатом побережья, они продолжали питать нерасположение континентального народа к «великим соленым водам». В то время, как майясы вели из своих гаваней обширную морскую торговлю, нагуасы, даже в эпоху самых обширных торговых сношений, ограничивались сухопутной торговлей, несмотря на то, что многие народности этого племени умели строить рыбачьи лодки. Однако, при всем нерасположении к морю, нагуасы несомненно любили воду. Это доказывается уже легендой, которая помещает их родину у большой воды, и в их истории озера Анагуакского плоскогорья играют выдающуюся роль. Помимо области великих озер, имеется еще целый ряд центров нагуатлакского развития, которые были расположены на берегу озер, каковы Тескуко, Чалко и Тенохтитлан. И в истории, и в сказаниях постоянно говорится о воде и ее произведениях.
Положение местообитаний нагуасов сделало их народом охотников и рыболовов. Но, помимо того, у них выработалось еще другое качество: дикий, воинственный дух. Правда, под снежными вершинами Кордильер, в высоких долинах Мексики, где господствует вечная весна, мы могли бы скорее ожидать, что встретим не суровых воинов, а беспечный, любящий наслаждения народ. Охота также не могла особенно закалить их: во всей стране их не было дичи, с которою охотник не мог бы справиться при помощи самого простого оружия. Нагуасы сделались воинственными, несомненно благодаря прежним обитателям страны. Они не застали свою будущую родину незаселенною, как майясы в Юкатане. Судя по преданию, они встретили здесь чуждое, не родственное население, хотя сведения так скудны, что невозможно проследить этнографическую родословную этой расы. В мифах нагуасов изображаются великаны нечеловеческого роста и с непреодолимой силою. Нельзя, конечно, понимать это буквально, подобно старинным испанским хроникерам, которые считали огромные кости допотопных животных за остатки скелетов этой расы гигантов. Тем не менее, мы вправе заключить отсюда, что нагуасам пришлось выдержать долгую и ожесточенную борьбу с более сильным противником, что они вынуждены были до последней степени напрягать свои силы и вести беспощаднейшую истребительную войну прежде, чем им удалось отвоевать место для своего быстро развивавшегося племени. В этой-то борьбе у чистого первобытного народа и выработался дикий воинственный дух.
Всюду, где нагуасы выходят из пределов своей последующей культурной области, как в Юкатане и Гватемале, они являются перед нами сильными и грозными воинами, но и в пределах их культурной сферы предание проникнуто воинственностью. Битвы и победы, завоевание и истребление играют в их рассказах выдающуюся роль. В тесной связи с войною находится их религия. Особенно ярко и ужасно эта черта проявляется в кровавых жертвоприношениях ацтеков своему национальному богу Уитцилопохтли. В этом необычайно жестоком культе хотели видеть влияние до-нагуатлакских народов и объясняли его временным пребыванием ацтеков в области тарасков. Однако, не говоря уже о том, что, быть может, и тараски составляют дальнюю ветвь семьи нагуасов, мы встречаем кровавое поклонение божествам, сопряженное с многочисленными человеческими жертвами, не у одних ацтеков, но, в более или менее резкой форме, почти у всех народностей семьи нагуасов, и не только как необходимый элемент культа одного божества, но как типичную форму поклонения божествам вообще. Если бы большинство народов этого племени не было проникнуто одинаковыми религиозными воззрениями, то разве мог бы осуществиться единственный во всемирной истории договор между Мексикой, Тласкалой и Гуэшотцинко, в силу которого все три государства мирным путем урегулировали взаимные войны, чтобы располагать во всякое время достаточным числом военнопленных для принесения в жертву своим богам. Война, человеческие жертвоприношения и людоедство, как культы, составляют характерные черты жизни нагуасов. Причины, создавшие подобный национальный характер целого племени, безусловно должны были действовать задолго до распадения народа нагуасов на различные ветви его, и притом гораздо раньше, чем осуществилось предполагаемое пребывание ацтеков в стране тарасков.
Во всяком случае, в эпоху появления испанцев нагуасы уже давным-давно перестали быть народом рыболовов, охотников и диких воинов, какими они являются в начале своего распространения на плоскогорьи Анагуака. Путем векового развития, они усвоили культуру, которая могла соперничать с культурою майясов и своим внешним блеском совершенно ослепила испанцев. И, однако, эта культура, по единогласному признанию почти всех первоисточников, не развивалась медленно и самобытно из самого народа, но была принесена извне, была привита. Почти все племена чичимеков – чичимеками чувствовали и считали себя все племена нагуасов в долине Мексики, предания которых мы знаем – являются первоначально полудикими, кочующими, едва одетыми дикарями, которые вступают на путь цивилизации лишь под влиянием соприкосновения с древнейшими нациями, перешедшими к оседлости, занимающимися земледелием и живущими в городах и государствах. Все истории племени, в которые еще не успели внести путаницу смешения христианской хронологии с древнеамериканскою, простираются назад приблизительно на 6 или 7 веков. Многие племена, игравшие впоследствии выдающуюся роль в истории центральной Америки, только в пределах этого периода оставили жизнь кочующих дикарей и восприняли первые основы культуры. Однако, эти предания, в которых единственным мерилом времени всегда является длинный ряд правителей, безусловно предполагают существование нескольких государств, усвоивших цивилизацию в более раннюю эпоху.
Не столько в этих древнейших записях, сколько у позднейших историков народов нагуа, воспитавшихся на европейских образцах, играют главную роль, как носители образования, толтеки. Судя по форме, в которой дошла до нас легенда, толтеки представляют ветвь племени нагуасов, которая пришла с севера из Чикомостока в город Гуэгуэтлапаллан приблизительно в IV веке нашего летосчисления и в начале VI века основала на Мексиканском плоскогории, вокруг главного города Тулы, государство, достигнувшее в очень короткое время баснословного расцвета культуры. Отсюда не только ведет начало вся таинственная мудрость толтеков, и они, в лице своих жрецов и королей, не только искусно регулировали календарь и сделали его обязательным для всех других народов, но и собрали материал для истории прошлого и составили официальные тексты ее. Главным образом, они были учителями всех позднейших народов в области искусств и особенно архитектуры и скульптуры. Постройки, украшавшие их столицы, отличались роскошью и величием, с которыми едва ли сравнятся самые знаменитые из позднейших дворцовых городов, каковы Тескуко и Тенохтитлан. Просуществовав много веков, царство толтеков рушилось около 1055 года, вследствие внутренних раздоров и натисков извне, и область его растворилась в других соседних государствах. Толтекская аристократия, разбежавшаяся после падения государства в различные местности Анагуака, согласно преданию, всюду является носителем культурного прогресса, который, таким образом, не мало обязан этому рассеянию ея между всеми народами племени нагуасов.
Таков, в общих чертах, смысл легенды; но в частностях здесь господствует значительная путаница. Даже у индейского историка Иштличочитля, отца легенды о толтеках, в двух описаниях его не сходятся между собою хронологические данные, имена и подробности. Многое из того, что рассказывается о толтеках, есть не более как сказание, в котором мифологические элементы бесспорно играют большую роль. Так, будто бы существовал закон, согласно которому каждый отдельный правитель должен был царствовать ровно 52 года, не более и не менее. Если он жил дольше, то, по истечении 52 лет, передавал бразды правления своему старшему сыну; если же он умирал раньше этого срока, то до наступления последнего именем его правил совет старейшин. 52 года соответствуют периоду большого мексиканского цикла лет, при помощи которого устанавливается согласие между обрядовым календарем и действительным солнечным годом. В начале этого периода при торжественном церемониале зажигается новый священный огонь в том убеждении, что этим обеспечивается существование мира на 52 года вперед. Но чем дальше мы удаляемся вглубь времени, тем факты становятся неопределеннее, а мифологический элемент, наоборот, все более берет перевес. Раскопки, которые были повторно производимы в нескольких милях к северу от Мексики, на месте предполагаемой столицы блестящего царства толтеков в городе Туле, обнаружили, правда, древние развалины, но весьма ограниченные и маловажные. Вообще, вопреки легенде о толтеках, художественное значение остатков построек на почве древних государств нагуасов бесспорно уменьшается в направлении с юга на север. Затем, если исключить основание и разрушение, то почти все, что рассказывается о толтеках, вращается около личности короля Кетцалкоатля. Это имя, означающее, подобно Кукулкану маяйсов, пернатую змею, есть в то же время название божества, которое в позднейшие эпохи было почитаемо на обширном протяжении царства нагуасов. Это тем более подозрительно, что и другие имена различных королей напоминают имена богов и предание ставит многих королей прямо на ряду с богами. Это обстоятельство все более и более подрывало историческую достоверность сказания о толтеках. Быть может, некогда и существовало царство толтеков с главным городом Тулой, быть может, оно играло даже известную роль в племенных распрях мелких царств нагуасов; но вообще толтеки отнюдь не могут быть признаны носителями культуры Анагуака.
Название Тулан встречается также в легендах о происхождении майясов: но оно соответствует не одной какой-нибудь определенной местности, а является общим обозначением для большой, богато разукрашенной резиденции правителя. Легенда упоминает в одно и то же время не менее, чем о четырех Туланах. Простейшее разрешение недоразумения заключалось бы в том, чтобы признать Тулу, в сказании о нагуасах, тождественною с городами майясов того же имени и самых майясов – толтеками нагуасов. К сожалению, такое толкование встречает важные затруднения. Толтеки все-таки представляют родственное племя нагуасов, т. е. народ, говорящий на нагуатле. Соответственно тому, местообитанием их считается север позднейшей области нагуасов, мексиканское плоскогорье: ни то, ни другое не может быть приведено в связь с майясами. Но если мы не вправе отождествлять майясов с толтеками, то, с другой стороны, едва ли возможно оспаривать отношение зависимости между культурою майясов и культурою нагуасов. Каким путем результаты культурного развития майясов сделались доступными народам нагуасов? Каким образом эта культура распространилась от берегов Табаско до самых северных возвышенностей мексиканского плоскогорья?
Благодаря особым политическим условиям, какие испанцы нашли при завоевании на мексиканском плоскогорье, мы располагаем достоверными сведеньями лишь относительно истории тех народностей, которые жили в Анагуаке, т. е. вблизи мексиканских озер. Наоборот, многочисленные народы родственного происхождения, населявшие местности к северу и далеко к югу от плоскогорья, были почти также чужды ацтекам и родственным нациям Анагуака, как и майясы. В историческую эпоху непосредственными соседями майясов Гватемалы были сапотеки, мистеки и куикатеки. Хотя, по всей вероятности, они также меняли места, как нагуасы Анагуака, но, тем не менее, между этой ветвью семьи нагуасов и майясами издавна установились соседственные отношения. На такую тесную связь указывают даже те скудные данные, какими мы располагаем для восстановления древнейшей истории этих племен.
Одна образная рукопись куикатекского происхождения, которая лишь недавно сделалась известною, рассказывает, как куикатеки, под управлением своего племенного бога – имя его было, повидимому, Маоллин – странствовали и делали военные набеги в течение шести веков в пограничных областях между древними местообитаниями майясов и нагуасов. Правда, не все местности, названия которых упоминаются в этой рукописи, могут быть установлены в точности, но в числе их есть указания на Гватемалу и Чиапас. Первоначально движение шло в южном направлении, не в дальнем расстоянии от тихоокеанского берега. Но там куикатеки, в конце концов, натолкнулись на непреодолимое препятствие, что заставило их держаться восточного направления. Они пересекли поперек северную Гватемалу, очутились затем в Чиапасе и несомненно дошли до области Акалана, которая непосредственно граничит с Юкатаном. Нужно думать, что эти и аналогичные с ними передвижения племен нагуасов были причиною разрушения цветущих городов майясов в Чиапасе и Табаско (ср. выше стр. 242). Но если главная масса майясов уходила от надвигавшегося врага и покидала старые места обитания, то были, без сомнения, и такие, которые добровольно подчинялись новым пришельцам и обязывались к известным работам и к уплате дани, или же силою удерживались в неволе. В этих-то элементах мы должны видеть культурных посредников между народами майясов и нагуасов.
Тот факт, что народ с высшей культурою бессильно изнемогает от мощного натиска ниже стоящих по культуре племен, но затем, благодаря своему лучшему образованию, быстро берет верх над победителями, приобщая их к своей цивилизации, не представляет для нас ничего нового: то же самое происходило в Старом Свете во времена германского переселения народов. Мы не можем в точности сказать, в какой мере культура майясов коснулась именно куикатеков; но влияние ее весьма характерно отразилось на сапотеках. Нельзя, правда, с такою же верностью доказать проникновение их в область культуры майясов: но позднее мы встречаем их в непосредственном соседстве с майясами и отчасти даже в местности, которая несомненно была раньше заселена майясами, как доказывают найденные древности. Воздействие культуры майясов на сапотеков выразилось в очень резкой форме. Даже язык их содержит сильную примесь слов и форм из языков майясов. Было бы, однако, ошибочно, сомневаться на этом основании в принадлежности их к племени нагуасов. Во-первых, в описаниях испанцев сапотеки всегда рассматриваются как нация, чуждая майясам и близко стоящая к народностям Мексики. Во-вторых, то немногое, что нам удалось самим узнать о них, указывает им место среди наций племени нагуасов. Однако, мы должны причислить их к тем народностям нагуасов, которые уже в очень раннюю эпоху перешли от дикого образа жизни древних охотничьих народов к более цивилизованным условиям. Не подлежит сомнению, что сапотеки в течение целых столетий играли руководящую роль между народами нагуасов в отношении культурного развития. Значительная доля исторических сокровищ, дошедших до нас из эпохи независимого культурного развития нагуасов, принадлежит сапотекам. Рукописи их (см. таблицу «Лист из нагуасской рукописи сапотекского происхождения, хранящийся в Вене») написаны не знаками майясов, но, за немногими характеристическими отклонениями, представляют тот же способ письма, как ацтекские и другие документы бесспорно нагуатлакского происхождения. Нужно думать, что сапотеки или близкие к ним племена выработали под влиянием того, чему они научились у майясов, тот способ письма, который сделался впоследствии общим достоянием всех нагуаских народов.
Дальнейшее сходство между рукописями майясов и сапотеков заключается в обширном пользовании религиозным календарем, которому отводится важное место и в тех, и в других и в котором майясы, как известно, обнаружили поразительные знания в области астрономических явлений. Оригинальная священная календарная система майясов, которая покоится на комбинации чисел 20 и 13, не встречающейся нигде более на земном шаре, не только была принята в существенных чертах сапотеками и всеми прочими народами нагуасов: при более тщательном исследовании выяснилось, что названия отдельных дней, которые все без исключения заимствованы от предметов повседневной жизни, в сущности совершенно одинаковы на всех языках, на которых вообще сделались нам известными календарные названия. Это сходство простирается так далеко, что даже названия дней, которыми мог начинаться (по комбинации с солнечным годом) священный или обрядовый год из 13X20=260 дней, чередуются группами между народами майясов и нагуасов. При этом мы можем отличить древнейшую группу, состоящую из майясов Чиапаса и Табаско, из сапотеков и родственных племен, от более молодой группы, в состав которой входят юкатекские майясы и ацтекские нагуасы. Очевидно, такое совпадение не может быть случайным. Но вместе с тем, если принять в соображение своеобразное развитие, которого достигли у майясов астрономические науки, для нас будет не менее ясно, кто в этом случае является дающим и кто – получающим.
Наконец, сапотеки были учениками майясов еще в одной области: в архитектуре. В древней области сапотеков, нынешней мексиканской провинции Оахака, встречаются в различных местах развалины древнеиндейских сооружений; но большинство их настолько уже разрушено, что трудно составить себе более или менее ясное представление о прежнем состоянии их. Исключение отсюда составляют одни лишь развалины Митлы, которые, благодаря большей прочности и величественности постройки, в состояны были дольше сопротивляться времени. Митла есть мексиканское название города, который был известен у сапотеков под названием Ionaa: и то, и другое означает «место умерших». Возможно, что Шибалбай майясов, что́ также означает «город усопших», соответствует древнейшему названию этого города и той эпохе, когда здесь жили еще майясские народы (ср. выше стр. 233). Живопись, которую мы встречаем в храмовых покоях Митлы и которая отчасти еще хорошо сохранилась, конечно, ничего не доказывает: она, без сомнения, позднейшего происхождения и принадлежит культуре народов нагуа. С другой стороны, архитектурный характер построек, с помещениями частью наземными, частью подземными, всегда крытыми, нередко в форме арок, гораздо ближе подходит к строительным приемам майясов, чем к архитектуре более молодых нагуатлакских народов. Так, напр., храмовые постройки ацтеков состояли почти исключительно из высоких и художественно орнаментированных пирамид, на которых или совсем не было надстроек, или незначительные сооружения из непрочного материала. В предании индийцев Митла сохранилась только как город усопших. Не подлежит сомнению, что она долго была священным местом погребения королей, верховных жрецов и сановников сапотекского царства. Тем не менее, в эпоху расцвета государства назначение ее, во всяком случае, было менее печальное. Она является резиденцией не только верховных жрецов высшего божества, но и правителей. Здесь находился двор короля или, по крайней мере, одного из могущественнейших сапотекских правителей.
Правда, исторические сведения относительно царства сапотеков обнимают период менее столетия до завоевания. Когда владения ацтеков начали расширяться в юго-западном направлении, сапотеки обратили на себя внимание ацтекских правителей. Около 1484 года Ауицотль, седьмой король Мексико-Тенохтитлана, проник вглубь сапотекской территории, прежде всего в направлении Тегуантепека, и в крепости Гуашиакаке создал базис для дальнейших завоевательных походов. В это время различные сапотекские города или княжества, если не были подчинены, то сделались данниками ацтеков. При этом и Митла, священный город сапотеков, как говорит предание, был завоеван и разрушен мексиканцами. Подтверждением предания служит то обстоятельство, что последние короли перенесли свою столицу в Теотсапотлан. В то же время ацтеки возвели укрепления Каутенанко, Теотитлан и Гуашиакак, которые служили не только опорными точками для оставленного там ацтекского гарнизона, но и для сборщиков дани, и для купцов; последние в войнах ацтеков почти всегда брали на себя роль разведчиков и авангардов.
Спустя около 10 лет сапотекские страны сделались ареною новых войн. Мексиканцы сумели в такой степени возбудить к себе ненависть во всей окружности своих укреплений, что вспыхнуло возмущение, принявшее широкие размеры, и враги, находившиеся в постоянных распрях между собою, соединились для совместного нападения. Соединенные силы сапотеков, мистеков и соседних мелких племен безжалостно истребляли все, что находилось вне крепостных стен, и самые крепости были тесно блокированы. Напрасно Ауицотль посылал войско за войском на выручку осажденных, моливших о помощи. Союзники ловко уклонялись от боя в открытом поле; но когда им удалось заманить мексиканцев далеко вглубь ущелий своей гористой страны, они неожиданно произвели нападение со всех сторон и не дали спастись ни одному человеку; некому было даже принести домой весть о несчастном исходе. Так как ацтекским войскам приходилось одновременно сражаться и в других местах, то, в конце концов, Ауицотль предпочел путем договора положить конец войне на юге. Если мексиканцы не могли в этом случае победить своих противников силою оружия, то тем успешнее они действовали в сфере политики. Они переманили на свою сторону главу союзников, сапотекского короля Коцийоесу, обещав ему, вместе с рукою мексиканской принцессы,
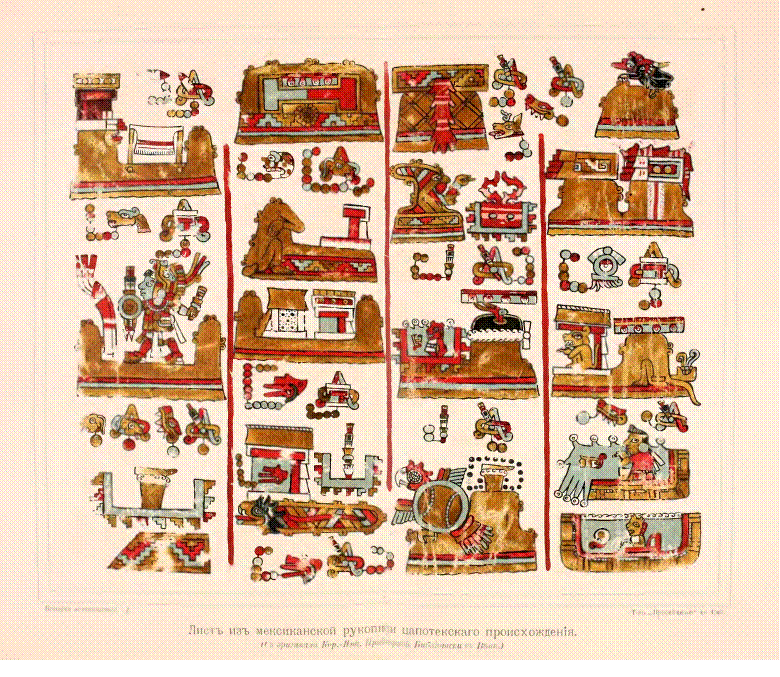
Лист из хранящейся в нагусской рукописи сапотекского происхождения
Воспроизведенный здесь лист принадлежит к серии Codex Viennensis, в которой образное письмо правильно соединяется с календарными знаками. Отсюда можно заключить, что неразгаданные еще изображения имеют исторический смысл. Числа слагаются из обозначения дня и года; год обозначается знаком начального дня, похожим на римское А. Числа с более известными ацтекскими обозначениями читаются так:
| 5 текпатль, г. 5 текпатль (кремень, сапотек: опа) 7 точтли, г. 5 калли (кролик дом сап. лапа зла) 1 точтли, г. 1 точтли 1 сипактли, г. 1 акатль (Крокодил тростник сап. чилья куих) | 6 оселотль, г. 13 точтли (тигр сап. Эче) 13 чекатль, г. 5 кальи (ветер, сап. лаз) 7 чекатмь, г. 7 акатль | 4 мазате, г. 4 акатль (олень сап. чина) 7 акатль, г. 7 акатль 2 акатль, г. 2 акатль | 1 сипактли, г. 1 акатль 7 киагуйтль, г. 3 кальи (дождь сап. апе) 1 сипактли, г. 1 акатль |
Некоторые из этих изображений, без сомнения, должны быть понимаемы в смысле идеографического письма. Так, второе изображение в первом столбце представляет мужчин в военных доспехах, со щитом, копьем и метательным снарядом; то же самое означают, быть может, самыя нижние изображения трех последних столбцов. Некоторые, вероятно, скорее принадлежат фонетическим знакам (именам?), как, напр., первое изображение, состоящее из трех элементов, дома, рта и верхней одежды. Второе изображение второго столбца состоит из элементов: туловища, камня и циновки. Но, как уже сказано, рукопись еще не вполне разобрана.
* * *
мир и независимость и даже расширение владений. С другой стороны, жестоким подчинением мистеков мексиканцы восстановили поколебавшуюся веру в их военное превосходство. Коцийоеса сохранил независимость своего царства даже по отношению к последним мексиканским королям и, умирая, мог передать престол своему сыну Коцийопу. Насколько велики были ненависть к ацтекам и вместе с тем страх перед ними, выяснилось, когда пришли в страну испанцы: сапотеки и тласкаланцы предложили испанцам мир и содействие против ненавистных врагов, хотя этим взяли на себя, в конце концов, пожалуй, не меньшее иго сравнительно с ацтекским.
Культура центральной Америки в видоизмененной сапотеками форме проникла далее к северу и сделалась, наконец, достоянием почти всех нагуаских народов. Но мы не в состоянии уловить отдельные фазы этого процесса в скудных остатках, которые уцелели от племен нагуасов, поселившихся между сапотеками и плоскогорьем Анагуака. О мистеках мы знаем, что они также строили ступенчатые пирамиды и на них воздвигали алтари своим богам; они точно также в письменах, которые мы впервые встречаем у сапотеков, передали нам историю своих богов и правителей; они, наконец, регулировали последование своих дней и праздников на основании календаря, составленного на тех же принципах, как и календарь центральной Америки. Но представить более точную характеристику положения, которое занимало это племя в качестве посредника культуры, невозможно. Чем дальше мы подвигаемся к северу, тем более культурное развитие принимает форму, которую можно назвать ацтекской ступенью средне-американской цивилизации. Эта культура, хотя и возникла на почве древней культуры майясов, но, развиваясь в течение веков почти без посторонних влияний, приняла самостоятельное направление.
В северных странах мы лишь один раз наталкиваемся на воспоминание о происхождении мексиканской культуры из более южных областей: это – в Чолуле. Знаменитая пирамида, носящая название этого города и приводившая в изумление испанских завоевателей, находится в таком состоянии разрушения, что, на основании художественного характера ее, невозможно указать ей определенное место в пределах американского искусства. Но старые хроникеры рассказывают, что на вершине ее стоял закрытый храм, тогда как ацтекские храмовые пирамиды обыкновенно увенчивались открытым алтарем. Это обстоятельство напоминает уже архитектуру более южных племен, с чем гармонирует и название божества, которому был посвящен храм: Кетцалкоатль, т. е. пернатая змея. Религиозное представление, которое лежит в основании символа пернатой змеи, слишком распространено на американской почве, и поэтому почитание подобного рода божества еще не служит безусловным доказательством заимствования. Для объяснения тождественности символов совершенно достаточно допустить аналогичный ход развития в мифологических представлениях американских народов. Но в Чолуле и в культе бога Кетцалкоатля дело идет не о простом сходстве с Кукулканом или Гукумасом майясов, но о полном тождестве божества, а равно легенды о нем и служения ему. А это не могло произойти без тесного взаимного соприкосновения.
Согласно мексиканскому преданию, Кетцалкоатль в сопровождении немногих спутников точно также переплыл восточный океан на челноке (см. рис. 5 на табл. «Лист из дрезд. маясск. рукоп.»). На самом севере страны, у реки Пануко, он вступил на мексиканскую землю. Величественная фигура, украшенная бородою, что составляло редкость между туземцами, в блестящем одеянии, предстала перед глазами обнаженных дикарей, населявших в то время страну. Кетцалкоатль вскоре научил их мирным искусствам, земледелию и ткацкому искусству; он дал им письмо, чтобы они запомнили его учение, и календарь для регулирования его культа. Затем, создав на том месте, где некогда лишь бродили охотники, благоустроенное государство, он снова исчез, обещав своему народу вернуться к нему. Все это до мельчайших подробностей совпадает с легендою майясов о Кукулкане, и не может быть сомнения в позаимствовании. К этому должно прибавить еще одно обстоятельство: обычай человеческого жертвоприношения составляет характерную черту почитания богов у нагуасов. В основании его лежало религиозное представление, что подносимое божеству путем жертвоприношения освящается, так сказать, перевоплощается в божество. Поэтому, тот, кто приносился в жертву, часто уже до своей смерти становился предметом поклонения наравне с божеством. Поэтому труп и поедался, чтобы каждый, кто участвовал в этом, воспринял в себя часть божественной субстанции. Поэтому и кожа, снятая с жертвы, служила священной оболочкой для образа самого божества или, по крайней мере, для жрецов, как представителей божества на земле.
Эти представления вполне нагуатлакского характера, и мы вовсе не встречаем следов их у древних майясов, которых не коснулось влияние нагуасов. Даже у более молодых народностей того же происхождения, у которых привились человеческие жертвоприношения в ограниченных размерах, они не сопровождаются обрядностями, характерными для нагуасов. Кетцалкоатль даже в сознании ацтеков всегда является божеством, которое не только отклоняло человеческие жертвы для собственного культа, но принципиально питало отвращение к этому обычаю, отличительному для нагуасов. И это относится даже к той эпохе, когда он достиг своего наивысшего развития и распространения под главенством ацтеков. Наряду с кровавым культом Уитцилоиохтли и Тескатлипока с публичными жертвоприношениями, поклонение Кетцалкоатлю в закрытом храме, сопровождавшееся самобичеванием и одними лишь бескровными жертвами, представляет как бы род оппозиционного тайного культа. Последний король ацтеков, Монтесума, обратился к этому божеству только тогда, когда собственные боги его и их жрецы оказались бессильными против бородатых чужеземцев, явившихся через восточное море и украшенных блестящими металлами.
Еще в одном месте почва Мексики на обширном пространстве представляется довольно густо покрытою развалинами древних сооружений – на восточной береговой полосе к северу от Веракруса, в области тотонаков. Замечательно, что соседями этих строителей нагуасов также являются майясы, именно, ветвь майясов, отброшенная к северу, так наз. гуастеки. Но число развалин в их собственной стране так незначительно, и наши сведения об истории их так ничтожны, что было бы слишком смело приписывать культурному влиянию этой кучки остатки многочисленных построек, открытых в области тотонаков. В то же время самые постройки носят здесь совершенно иной характер, чем в области майясов. Правда, и здесь фундаментом для священных мест богослужения является ступенчатая пирамида, которая вообще составляет тип, одинаково обычный как в области майясов, так и нагуасов. Но в этом случае массивные лестницы и ограда, на подобие вала, окружающая самую верхнюю террасу, составляют уже уклонения от общей основной формы и как бы напоминают цели фортификации, которые заметно выступают в устройстве тотонакских городов и становятся там характерным признаком. Вообще пирамиды тотонаков не были увенчаны, повидимому, массивными каменными храмами и, следовательно, приближаются к нагуасской форме. Те немногие примеры, где на самой верхней площадке пирамиды красуется каменный храм, все-таки приближаются к стилю построек центральной Америки в том отношении что над зданием, низким и узким, по сравнению с общей массой сооружения, поднимается чрезвычайно объемистая крыша; подавляющее действие последней смягчается лишь ложным фасадом наверху.
О том, в какой мере народы нагуа самостоятельно развивали свой художественный стиль в эпоху их наивысшего культурного расцвета до самого прибытия испанцев, мы могли бы лучше судить в том случае, если бы большие города, описания которых изумленные завоеватели оставили нам в самых ярких красках, сохранились хотя бы в виде значительных развалин до того времени, когда на них стали обращать систематическое внимание. То, что открыто ныне в этих бывших культурных центрах, те немногие следы древности так мало гармонируют с блестящими описаниями конкистадоров, что невольно думается о преувеличении, которое объясняется изумлением, или же приходится допустить, что значительная часть этих роскошных построек состояла из гораздо более непрочного материала, чем в других местностях.
Из развалин чисто нагуатлакского происхождения заслуживают особого внимания только две: Теотиуакан и Шочикалко. Однако, не смотря на необычайно длинные генеалогии различных нагуаских княжеских родов, историческое воспоминание об этих народах быстро изгладилось, и лучшим доказательством этого служит Теотиуакан. Этот город уже почти превратился в миф в сознании того поколения, с которым пришли в соприкосновение завоеватели. И, однако, в течение столетий он был для наций нагуасов Анагуакского плоскогорья религиозным центром, таким же священным городом, как Мекка для магометан или Иерусалим для христиан. Из источников трудно усмотреть, – играл ли он и политическую роль в эпоху господства древнейших чичимеков; но основание его относится ими к самой отдаленной древности, при чем все они единогласно признают этот город местом наиболее священных храмов и наиболее почитаемых жрецов, сословие которых всегда пользовалось громадным влиянием. Трудно решить, насколько современные обозначения главнейших пирамид Теотиуакана, как, напр., холм солнца, холм луны и т. д. оправдываются археологическими находками; но несомненно верно название «дорога умерших» для длинного ряда маленьких холмов, которые тянутся рядом с большими пирамидами. Теотиуакан, подобно Митле, был не только местом поклонения для живых, но также священной усыпальницей, и быть похороненным в нем считалось за особую благодать. В окружности этих развалин до самого новейшего времени находили неисчерпаемое множество маленьких сосудов и глиняных фигурок, которые обыкновенно предавались земле вместе с каждым умершим. И другие, упомянутые выше обозначения вполне соответствуют древней культуре нагуасов.
Религия нагуасов также имела своим основанием наиболее поражающие явления природы, с которыми человек встречается повсюду. Правда, позднейшие влияния повели к преобразованию поклонения природе в антропоморфизирование религиозных представлений, при чем различные добавления постепенно исказили фигуры отдельных божеств. Тем не менее, почти все боги различных нагуатлакских племен могут быть сведены к определенным явлениям природы. Даже Уитцилопохтли, страшный бог войны ацтеков, культ которого сопровождался небывалым пролитием человеческой крови, обязан первоначально своим происхождением совершенно невинному представлению о природе. Он олицетворяет благодетельную силу солнца, которая проявляется весною вместе с оплодотворяющим дождем, а в конце лета от жгучего зноя и высушивающих ветров слабеет и умирает. Легенда рассказывает о рождении его путем удивительного зачатия, о его борьбе с враждебными братьями и сестрами и смерти его, в том же духе, который мы встречаем у самых различных народов Старого и Нового Света. Священным символом Уитцилопохтли служит колибри, перья которого, по сказанию, прикрывали левую ногу бога в памят того, что мать его Коатликуэ восприняла его в форме клубочка из перьев, который носила в своей груди. Для мексиканского плоскогорья колибри имеет то же значение, что ласточка в умеренном поясе: это – посол и вестник природы, пробуждающейся от зимнего сна. Каждую осень изображение Гуитцилопохтли при особых религиозных церемониях уничтожалось жрецом другого божества посредством брошенной стрелы: это означало конец хорошего времени года, возобновление которого праздновалось весною, как возвращение Уитцилопохтли. Вместе с тем, в виде колибри, он был вожаком ацтеков в их странствованиях и своим зовом «тиуи-тиуи» манил их все дальше и дальше, пока они не достигли места своего величия. Здесь лежало первое зерно к развитию антропоморфизма, так как на ряду с птицею народ ввел изображение его божества, и представители этого божества, жрецы. Все эти представления с течением времени так слились между собою, что, в конце концов, начали верить, будто Уитцилопохтли изображает историческую личность, которая уже впоследствии была возведена на степень особого племенного божества. Человеческие жертвоприношения играют существенную роль во всех нагуатлакских культах; особые размеры, которые они приняли у ацтеков в культе Уитцилопохтли объясняются, по всей вероятности, особенно дикими чертами, лежащими в основе их племенного характера.
Настоящее, главное божество нагуатлакских народов есть Тескатлинока. Он в еще более осязательной форме является воплощением солнца. Это, с одной стороны, солнце, приносящее все доброе, проливающее свет, тепло, плодородие, а с другой – опасная и вредная для человека сила, которая своим палящим зноем все сушит и своим огнем все пожирает. В первом отношении Тескатлипока первоначально играл для нагуасов ту же роль, что Кукулкан-Кетцалкоатль для народов майя: это был отец культуры и образования. Но с течением времени, когда культ пернатой змеи в образе Кетцалкоатля проник и к нагуасам, начинают складываться легенды о вражде между обоими божествами. Воспоминание о прежнем могуществе Тескатлипока побуждает, в конце концов, легенду изобразить этого бога победителем над вторгнувшимся пришельцем. Вместе с тем, однако, он все более и более принимает облик враждебного, хитрого, недружелюбного бога, тогда как с образом Кетцалкоатля, хотя и низложенного, связываются благодетельные силы, благосклонные человеку.
Для религии нагуасов характерна многочисленность богов, олицетворяющих благодетельные силы природы, плодородие почвы. Они показывают, с одной стороны, огромное влияние натуралистического воззрения на развитие мифологии нагуасов, а с другой, иллюстрируют важную роль, которую играла в жизни этих народов обработка почвы еще в ту эпоху, когда складывались самые образы богов. Это тем более странно, что некоторые племена нагуасов являются перед нами на довольно низкой ступени культуры, даже в позднейшую историческую эпоху. Несомненно, однако, что в мифологии, в том виде, в каком она выработалась в эпоху испанского завоевания и дошла до нас, совершилось в широких размерах слияние божеств различных племен. Каждый народ, который поднимался в пределах этой культуры до руководящей роли, вносил в общие представления свои национальные формы богов, отвоевывал для них первенствующее положение в культе и в легенде, но рядом с этим поддерживал также культ всех прежних божеств и сохранял его. Так, проще всего объясняется необычайное обилие богов на ацтекском Олимпе, которое вызывало удивление еще у древних историков.
После согревающего, рождающего и способствующего созреванию солнца второе место в природе мексиканской возвышенности занимал дождь. От своевременного и обильного появления этого дара неба зависела степень урожая всех видов. В древних летописях различных племен нагуасов мы часто встречаем описания роковых последствий, которыми сопровождались сухие годы для всей жизни народа. Неудивительно, поэтому, что богам воды, влаги и изливающих дождь облаков отводится широкое место в народном почитании. Немногим божествам посвящается столько обширных рассказов и описаний, как Тлалоку, богу дождя. Он изображается в своеобразной позе: полулежа, с приподнятой верхней частью тела, опирающеюся на локти, и с выдвинутыми наполовину коленами, как бы символизируя оплодотворяющее влияние влаги на почву. Рядом с ним изображалось женское божество с одинаковыми аттрибутами, которое, будучи символом плодородия подарило ему множество детей.
Плодородие почвы имело, кроме того, своими представителями целый ряд независимых божеств, преимущественно женских. Уже Коатликуэ, родившая Уитцилопохтли, считалась, как мать колибри, богинею цветов и плодов. Но особенно была разработана легенда об ацтекской богине плодородной почвы, Центеотли. В более тесном смысле, эта богиня – еще в большей мере, чем Шилоны, играющие роль ее дочерей – изображает маис, главное пищевое средство американцев, зерно которого сделало желтый цвет священным. То, что маисовое зерно играет, кроме того, важную роль в иероглифическом письме как нагуасов, так и майясов, свидетельствует о важности этого плода в хозяйстве древних американцев. Как богиня плодородия, Центеотль является вместе с тем покровительницей рожениц. Тем не менее, культ ее, еще в большей мере, чем культ всех прочих божеств, сопровождается многочисленными человеческими жертвоприношениями. Через все жертвенные обряды ацтеков проходит следующая идея: жертва, посвящаемая богу, еще до своей смерти, становится частицею его, соединяется с ним. И эта идея особенно резко проявляется в культе Центеотли: здесь жертвы, большею частью женщины, еще при жизни делаются предметом божественного почитания, сопровождаемого сложным церемониалом.
Уже у сапотеков мы встречаемся с богом смерти, священный город которого Япоо сделался известен под мексиканским именем Митлы. Миктлан, в отшлифованной форме Митла, есть в то же время имя бога смерти и его царства. Рядом с ним изображается также женщина-богиня, которую нетрудно узнать в пластических изображениях Митлы на неизменно встречающихся масках мертвецов с выдающимися рядами зубов. Представление об этом боге, как у большинства народов, связано с понятием о севере и мраке. Царство его – внутри земли, среди вечной темноты. Служение этому богу совершается ночью жрецами, одетыми в черное или, по крайней мере, в мрачное облачение.
По представлениям ацтеков, царство мертвых не было неизбежным концом всякой жизни. Народная масса, т. е. все те, которые не сумели на земле завоевать себе право на лучшую участь, обязательно отправлялись в Миктлан. Там, однако, умерших не ожидала жизнь, полная бесконечных мук, как в христианском аду. Правда, путешествие было далекое и связанное со всякого рода опасностями (поэтому умерших никогда не забывали снабжать в путь пищею, питьем и всякими амулетами, в особенности полосками бумаги из агавы). Но какова была конечная участь умерших, которые прошли, наконец, через все эти опасности и проникли в девятый подземный мир, об этом сами мексиканцы не могли дать себе ясного отчета. Совершенно иная судьба ожидала тех, кто при жизни, или умирая заслужил,по понятиям этих народов, особенный почет. Первое место, как мы видели, принадлежит тем, которых приносили в жертву богам и которые, уже в силу одного этого, становились в самые тесные отношения к божеству. Конечно, это распространялось и на будущую жизнь: там, служа богам, они вместе с ними участвовали во всех радостях неба. В чем заключались эти радости, мы знаем из описаний лишь относительно почитателей Тлалока. Они возносились на вершины высочайших гор, места облаков. Здесь ожидал их чудный сад, из которого брали начало все воды земли и разносили с собою всегда освежающую прохладу. Там проходила их жизнь в вечных празднествах и играх, а в особенно торжественные дни в честь их божества им разрешалось спускаться на землю, чтобы быть там свидетелями его почитания. В царство Тлалока переселялись также, кроме принесенных ему в жертву, все утонувшие в воде и сраженные молнией. Смерть их свидетельствовала о том, что бог любил их и взял к себе. Но самое высшее небо – небеса также поднимались над землею в девяти ступенях – находилось на солнце, и воплощением его являлись Уитцилопохтли, Тескатлинока и Кетцалкоатль. Сюда переселялись души королей и великих людей, жрецов и благородных, которые еще на земле были ближе к богам, чем обыкновенная толпа. Но прежде всех переселялись на солнце души тех, кто пал в бою. Этим путем открывали себе доступ к небу многие, для кого оно по другим причинам было закрыто. Сюда же попадали и те, которые, будучи взяты в плен, приносились в жертву богам Солнца или пали в ритуальной борьбе. Несомненно, что смерть в бою считалась почетною (как у магометан), что немало способствовало поддержанию воинственного духа этих народов. Наконец, на солнце переселялись и души всех женщин, которые умирали во время родов. Там жизнь всех их была сплошным рядом празднеств. С пением и плясками провожали они Солнце на его пути. И когда оно скрывалось на западе, они погружались в благодатный сон, в котором почерпали силы для блаженства следующего дня.
Таким образом, религия нагуаских народов не лишена радостных и мягких черт. Оригинальное воззрение о пресуществлении жертв в божество в значительной степени скрашивало жестокость человеческих жертвоприношений. Не мало людей добровольно приносили себя в жертву богу, чтобы заслужить жизнь, полную радостей. В этом же воззрении коренится не прекращавшийся обычай людоедства: съедая частицу жертвы, ставшей уже отчасти божеством, тот, кто ел ее, также приобщался к божеству. Таким же образом в некоторых церемониях, вместо жертвы, в заключение разбивалось изображение божества, изготовленное из съедобного материала, и поедалось участниками. Без сомнения, утонченный образ жизни, который усвоивали себе многие племена нагуасов по мере культурного развития, также способствовал ограничению жестокого обычая человеческих жертвоприношений. Говорится о многих правителях, которые питали отвращение к человеческим жертвам. Широкое распространение, которое получил среди нагуасов бескровный культ Кегцалкоатля, в свою очередь, доказывает, что самое религиозное развитие двигалось в направлении не благоприятствовавшем дальнейшему существованию обычая человеческих жертвоприношений. Если, несмотря на все это, испанцы, при своем завоевании, все-таки нашли распространение человеческих жертвоприношений в ужасающих размерах, то это нужно приписать исключительно влиянию ацтеков, которые в начале XVI века бесспорно заняли первенствующее место в центральной Америке.
Ацтеки, представлявшие собою мало цивилизованный, но физически весьма развитой и смелый воинственный народ, проникли в культурную область самих нагуасов – в местность озер Чалко, Тескуко и Сумпанго – в то время, когда другие нации того же происхождения пользовались там, уже в течение многих веков, всеми успехами высокой цивилизации. Как и всюду, однако, цивилизация не сделала эти народы более сильными и способными к более стойкому сопротивлению. Вторгнувшиеся ацтеки, помня свое общее происхождение с другими нациями, увидели прежде всего в найденной ими культуре отпадение от старых нравов, вырождение. Когда они убедились в своем превосходстве и успех за успехом ознаменовывал их шествие, они усмотрели в этом милость богов, пожелавших, чтобы им лучше поклонялись по старому, более жестокому обычаю, чем по новому, хотя и более мягкому. Благодаря такому представлению, прежняя жестокая кровавая форма почитания богов поднималась все больше и больше из забвения. И когда ацтеки покорили страны, заселенные различными народностями, они стали взимать с своих соседей ту жестокую дань, которая вызвала глубокую ненависть к ним всех зависевших от них народов. Эти своеобразные отношения, которые не были закреплены ни продолжительным существованием, ни обширностью территории в значительной степени препятствовали правильному пониманию исторических процессов в центральной Америке и, напротив, способствовали распространению ложных представлений. Поэтому в настоящий момент главная задача мексиканской археологии заключается в том, чтобы отделить временное и частное от характерного и общего.
Если Теотиуакан, как древняя национальная святыня нагуасов, дал нам удобный повод коснуться религиозных представлений их, то последний из городов-развалин, о котором следует упомянуть, город Шочикалко, дает нам прекрасный случай сказать несколько слов об искусстве нагуасов. В общих чертах развалины Шочикалко весьма сходны с описанными развалинами в области тотонаков. Холмистые выступы, которые выдвигаются из горной цепи в равнину, приведены со всех сторон в оборонительное положение при помощи каменных валов и рвов. И эти искусственные сооружения тянутся террасами на значительном протяжении на высотах. В непосредственной близости их находилось, повидимому, древнее поселение, деревня или город; но внутри самого укрепления заключались, вероятно, только храмы и дворцы, а также помещения для гарнизона. Жители местечка могли находить здесь убежище в дни опасности. Внутри укреплений, но не на вершине холма, стоит храм в виде пирамиды, который дал свое название этому месту, так как Шочикалко значит: у дома цветов. Это сооружение изображало дом цветов, храм богини цветов Шочикецаль, который, несмотря на все серьезные разрушения, оставленные веками, все еще представляет одну из самых величественных развалин, которые были открыты на американской земле. Согласно древним описаниям, храмовая пирамида Шочикалко имела пять или еще более этажей. Но исследования, произведенные на месте, убедили, что она никогда не имела более одного этажа, который и теперь еще можно распознать. На этом этаже возвышалась открытая постройка, составлявшая продолжение косой пирамиды, без крыши. Она была открыта спереди, обнимала три стороны пирамиды, и внутри ее находилось священное место храма, но настоящего закрытого храма не существовало. Эта оригинальная форма вполне совместима с культом нагуатлакских народов, религиозные церемонии которых почти всегда происходили под открытым небом, более или менее публично.
Но главная особенность этой постройки заключается в богатстве пластических украшений, которыми сплошь покрыты все наружные поверхности как пирамиды, так и стены, окружающей храм. Тела огромных змей, выполненные в форме плоского рельефа, охватывают всю постройку; в изгибах их мы видим вырезанные на камне пластические и иероглифические изображения, которые, в смысле художественного исполнения, не уступают ни одному из памятников, открытых в центральной Америке (см. табл. «Развалины ступенчатой пирамиды Шочикалко»). Во всяком случай, это единственные памятники из области, где несомненно жили одни лишь нагуатлакские народы, которые представляет нами столь же богатую и выполненную в одном и томи же характере пластическую орнаментацию, какую мы привыкли встречать лишь в храмах майясских народов. Это обстоятельство так же, как и выдающаяся роль, какую играет в скульптурных украшениях Шочикалко пернатая змея, хорошо известная нам по сооружениям майясов, не раз давали повод предполагать здесь тип Паленкэ. Но многочисленные календарные записи в промежутках между скульптурными орнаментами пирамиды несомненно свидетельствуют о нагуатлакском происхождении ее, так как подобные записи известны лишь из нагуатлакских рукописей. К сожалению, различные записи не дают возможности в точности определить, в хронологическом отношении, время построения пирамиды. Высокое развитие скульптурного искусства, которое выражается в рельефах, говорит против глубокой древности памятника. С другой стороны, известные формы календарных знаков не дают возможности привести в связь развалины Шочикалко с новейшей фазою истории нагуасов, с царством ацтеков. Кроме того, это место было разрушено, повидимому, не испанцами, а гораздо раньше, во время внутренних мексиканских междоусобий.
В пределах этой культуры, очерченной нами выше, развивалась история нагуатлакских народов. Чтобы составить себе правильное представление о ней, не следует ни на минуту упускать из виду одно обстоятельство: арена, на которой разыгрывалась древняя история Мексики, была очень невелика. Горизонт древнейшего исторического предания нигде не простирается далее горного хребта, который почти со всех сторон окружает собственно долину Мексики. Тула, Тулансинго и т. п. места, отстоящие лишь на несколько миль от центра нагуатлакской истории, озера Тескуко, исчезают уже в туманной дали. Это предание совершенно не знает о главной массе народностей, говорившей на языках племени нагуасов. Только за последнее столетие, когда ацтеки предпринимали военные походы в более отдаленные области, всплывают имена нескольких королей. Территория, на которой, согласно преданию, совершается древнемексиканская история, обнимает едва ли более 10000 квадратных километров, что составит около двух третей Саксонского королевства. Здесь, на расстоянии немногих часов друг от друга, находились главные города всех государств, которые в течение последних веков древней культуры поочередно выдвигались на первый план мексиканской культурной области и принимались испанскими историками за столицы стольких же империй и королевств.
Древнейшими обитателями Анагуака предание называет ольмеков (или ульмеков) и шикаланков. Иногда о них выражаются, как о народе исполинов, которых сперва нужно было победить, чтобы очистить место для переселенцев нагуаских племен. Большей частью, однако, ольмеки и шикаланки сами изображаются, как победители исполинов и как основатели древнейших священных городов Теотиукана
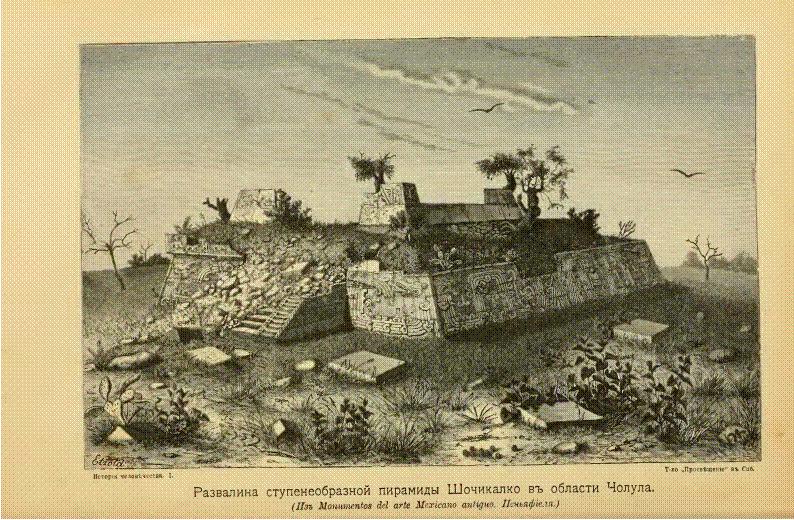
Объяснение рисунка
Развалины Шочикалко (Шочикалли=оранжерея), недалеко от Куернаваки, в области Тлалуика, представляют остатки обширного укрепленного места, центр которого образует храм в виде пирамиды. Впервые открывшие их отметили вышину в пять этажей. Однако, более тщательные исследования показали, что пирамида состояла только из фундамента и возвышавшегося на нем, быть может, некрытого храма, наклонные наружные стены которого образовали второй уступ пирамиды. Все сооружение было обложено большими трахитовыми плитами с богатой скульптурой, тогда как ядро было выполнено голышами. На западной стороне вела вверх, ко входу в храм, ныне сильно разрушенная наружная лестница. Вообще все наружные поверхности постройки были богато разукрашены. Украшения испещряли наклонные стены обеих пирамидальных надстроек и находящийся между ними горизонтальный фриз. Рельефы нижнего этажа изображают в симметрическом порядке пернатых змей, между извивами которых чередуются изображения фигур и календарные числа. Фриз был разделен на отдельные поля, в которых точно также, на ряду с повторяющимися фигурами, можно различить чередующиеся числа и символы. Рельефы верхнего, сильно разрушенного этажа были такого же характера, но не столь резко разграничены между собою. Все изображения были покрыты ярко-красной краской. Судя по рельефам и другим, сделанным поблизости находкам, пирамида, очевидно, служила святилищем Шочикетцаль, богини цветоносной и плодородной земли.
* * *
и Чолулы. Под этими именами вообще подразумеваются нагуатлакские народы; это следует из того, что имена их почти никогда не отсутствуют там, где говорится о семи племенах, покинувших общую родину, семь пещер, Чикомосток, для отыскания обещанных им более красивых мест обитаний. Вместе с ольмеками переселялись и сапотеки, и мистеки, иногда также тотонаки и даже гуастеки, говорящие на майясском наречии. Отсюда мы должны заключить, что, согласно преданию, ольмеки осели в Анагуаке одновременно с другими народами того же племени, которые не стояли в фокусе нагуаских интересов и, как мы видели, подавили и уничтожили культуру майясов. Дальше этого предание ничего не может нам сообщить об ольмеках и шикаланках; воспоминание не сохранило ни одного королевского имени, ни одного события. Но так как их тесно связывали с центрами древнейшей и высшей мудрости жрецов, то под ними нельзя разуметь грубый охотничий народ. Наоборот, следует думать, что с появлением их настала для анагуакского плоскогорья эпоха культурного расцвета.
Следующую группу нагуаских племен, которые переселились в Анагуак и приобрели значение в истории, образуют чичимеки. Это имя употребляется древними историками в двояком смысле. В более широком значении оно обнимает совокупную группу более молодых нагуаских народов. В этом смысле источники говорят о тео-чичимеках (обитателях области Тласкалы), толтеко-чичимеках, колуа-чичимеках и ацтеко-чичимеках. Этим хотятъ выразить, что названные народности были настоящего нагуатлакского происхождения и принадлежали одной великой лингвистической семье нагуаских народов, которые считались еще «дикими» (таков смысл слова «чичимеки») в то время, когда другие родственные племена уже подпали влиянию культуры и, вследствие того, изменили древним народным обычаям. Но так как подобное культурное превращение совершалось под влиянием чуждой национальности – мы знаем теперь, что это были майясы – то под названием чичимеков стали понимать не смешавшихся, чистых. В этом смысле оно сделалось эпитетом, характеризующим все нагуаские народности, которые претендуют на чистоту своего происхождения. Первоначально этим именем не называлось ни одно племя нагуасов; это видно из того, что в числе семи племен чикомостосккой пещеры мы встречаем теочичимеков, толтеков, колуасов, ацтеков, но ни разу не находим названия чичимеков. С течением времени, однако, название чичимеков делается употребительным также для обозначения одного племени или, быть может, вернее, одного политического сообщества. Последнее играло временами, вероятно, выдающуюся роль между народами Анагуака: упоминают о королях толтеков, колуасов и ацтеков, но говорят об императоре чичимеков; кроме того, титул Чичимекатль (господин чичимеков) считается наивысшим, до которого мог достигать правитель различных нагуаских государств.
Повидимому, этот народ имел уже 11 королей (вместе с Чичимекатлем) в то время, когда толтеки из Тулы отправили посольство ко двору чичимеков и выпросили себе правителя в лице второго сына короля: в этом нужно видеть неопределенное воспоминание о родственных отношениях между чичимеками и толтеками. Первому правителю чичимеков, вступившему на престол после падения владычества толтеков, королю Шолотлю, приписывается почти 300-летнее царствование. Все искусственное здание древнемексиканской хронологии только для того отодвинуто вглубь дальнего прошлого туземными писателями, находившимися под влиянием христианства, чтобы согласовать хронологию Старого и Нового Света: но этим достигается лишь вавилонское смешение языков. Эти хронологические указания, составленные для истории древних государств, не имеют научного значения. Предание многочисленных народностей Анагуака сохранило воспоминание о длинном ряде королей или князей, которые будто бы правили страною. И эти генеалогии во многих случаях связываются с образами божеств или даже включают эти божества в генеалогические ряды. Иштлилшочитль и некоторые другие писатели, которыми он пользовался, как источниками, помещали подобные генеалогические серии не рядом, а одну за другою. Благодаря тому, мексиканская история отодвинулась назад до Р. X. и еще далее.
Этим путем возникли несогласные с историей образования, к которым принадлежит, напр., культурное царство толтеков. Вымышленность его видна из того, что короли этого царства особенно часто носят имена богов и что город Толлан (Тула), от которого мы должны производить название толтеков, едва ли когда-нибудь был главным городом царства толтеков. В сказании о толтеках отражается воспоминание об историческом значении государства, центром которого был Кулуакан. Но это государство не могло существовать в ту отдаленную эпоху, к которой относят царство толтеков. Оно принадлежит историческому периоду, в котором, наряду с Тескуко, процветал еще целый ряд других государств чичимеков и начали обращать на себя внимание ацтеки, как самая молодая ветвь племени нагуасов. Все, что рассказывает предание о древних государствах, обнимающих период от VI века, с которого начинает предание, и до XIII века, когда оказываются определенные исторические основы, – все это имеет значение лишь в том смысле, что, независимо от фактов, отражает в себе, так сказать в отвлеченной форме, представления и воззрения самих нагуаских народов на их государственную жизнь. В этом только и заключается смысл предания для внутренней истории племен в древнюю и в позднейшую эпоху.
Многочисленные боги-правители, о которых говорит предание древнейших времен, уже сами по себе свидетельствуют о громадном влиянии касты жрецов у более древних племен нагуасов. Но помимо этого, мы знаем уже из исторической эпохи примеры того, с какой энергией и упорством боролись жрецы против исключительно светской организации государств. Мы видим, что боги то под своими священными именами, то под именем светских правителей, властвовавших столетиями и обоготворенных лишь после смерти, руководят племенами нагуасов в их странствованиях или приводят государства их в цветущее состояние, приносят им особое благосостояние. Отсюда очевидно, что у нагуасов, как и у майясов, долгие периоды развития характеризовались преобладанием теократии и господством жреческой касты, стоявшей под охраною богов. В эту эпоху воздвигнута большая часть величественных храмовых пирамид. Поэтому предание обыкновенно говорит, что они существовали еще до основания светских государственных форм или принадлежали более древнему народу. До тех пор, пока сталкивавшиеся народы были общего происхождения и сходных религиозных представлений, жрецам нетрудно было поддерживать мир. Правда, коллегии жрецов, являвшиеся представителями различных божеств племени, не чужды были соперничества между собою. Иногда дело доходило даже до враждебных столкновений, которые легенда облекала в форму борьбы между богами; тем не менее, в общем жизнь текла спокойно и в довольстве, и быстро распространявшаяся цивилизация встречала богатую почву.
Но с распространением культуры для жреческих государств возникла двоякая опасность. Среди подданных и вне жреческого сословия все чаще и чаще попадались лица, которые ясно видели истинное положение дел и протестовали против односторонней эксплуатации. С другой стороны, возраставшее благосостояние вызывало нападения менее цивилизованных соседей, справиться с которыми было не под силу одной власти жрецов. Вследствие того, наряду с нею, возникает власть кациков или военных королей. Значение их росло по мере увеличения внешних опасностей, по мере успешной борьбы с последними. Настало, наконец, время, когда военачальники, сознав, что они безусловно необходимы, отказались после одержанной победы возвратить власть в руки жрецов. Так возникла культурная борьба, война, между духовною и светскою властью. В начале классу жрецов еще часто удавалось запугивать суеверный народ угрозами гнева богов. Они искусно пользовались в течение долгого времени каждым поражением на поле битвы, каждым неурожаем, каждой опустошительной болезнью, чтобы поддерживать равновесие между светской и духовной властью. Отсюда исходили часто наступавшие продолжительные междуцарствия, почти всегда предшествовавшие вступлению на престол нового королевского рода. Тем не менее, хотя в большинстве случаев светская власть и старалась путем многих уступок привлечь на свою сторону духовную, примирить ее с новым положением вещей, но естественный ход развития был везде один и тот же: военачальники, раз будучи избраны, все более и более притягивали власть к себе, не упускали ее из рук и в мирные времена и мало-по-малу создавали противовес господству жрецов в лице военной аристократии. Это неминуемо вело к возникновению выборного или наследственного королевства.
Такой ход развития был, так сказать, общим для народностей, родственных между собою. Как скоро одно из маленьких племен стряхивало с себя иго жрецов и выбирало своего короля, оно побуждало и соседей своих поступать таким же образом. Отдельные кацики, сознавая общность династических интересов, уже рано вступали в политические и родственные отношения. И только, когда общий враг, господство жрецов, был окончательно отодвинут на второй план, отдельные светские властители стали обнаруживать завоевательные стремления, что повело к войнам между мелкими князьями. В результате являлся от времени до времени перевес той или другой из наций Анагуака. Но подобно всем народам Нового Света, мексиканские племена оказались неспособными организовать более обширный государственный строй до прибытия испанцев. Даже самые крупные правители распространяли непосредственную власть только на ближайший округ своих столиц. Для более отдаленных частей, хотя бы они и стояли в тесной связи с центральным государством, почти всегда избирались новые короли, и вассальная преданность их очень часто не выдерживала соблазна. Если главный король имел достаточно власти, чтобы подчинить непокорного вассала, то он не только сохранял целость своего государства, но еще более расширял границы его. Чем больше, однако, росло число подвластных королей, тем больше становилась опасность распадения государственного здания, сдерживаемого далеко не крепкими связями. И действительно, мы видим, как чичимеки, колуасы и тескуканцы поочередно захватывали власть и теряли ее. И если бы испанцы не уничтожили в начале XVI века свою древнюю культуру, то, вероятно, та же участь постигла бы и владычество ацтеков.
Естественным последствием подобных отношений было то, что иго центрального правительства легко переносилось. Правда, за усмирением непокорного вассала или во время завоевательных нашествий короля, сопутствуемого войском, страна чувствовала всю тяжесть этого гнета, и король неограниченно распоряжался жизнью и собственностью своих подданных. Но в мирное время знаки выражения преданности центральному правительству, отправляемые в столицу, лишь в редких случаях, имели характер настоящей дани; большею частью это были на половину добровольные и скорее символические дары. Эта дань была так не тяжела, что нередко правители соседних или даже отдаленных областей предпочитали добровольно признать, в форме известной дани, власть другого и этим оградить себя от опасности окончательного подчинения. Так возникали обширные, но чисто номинальные королевства, которые нередко в самое короткое время разрушались какою-нибудь горстью людей. Как скоро престиж какого-нибудь короля, основывавшийся более или менее на воображении, падал, все вассальные короли сразу сбрасывали с себя слабое иго и до тех пор признавали себя независимыми, пока не выдвигалась новая личность из другого племени, умевшая внушить им страх.
Хотя, как мы сказали, многие княжеские роды представляли непрерывную генеалогию, обнимавшую 6–7 веков, но только с половины XII века замечается немного более света. Уже в то время в Анагуаке существовало множество так наз. королевств, из которых королевство чичимеков с главным городом Тенайоканом, к западу от озера Тескуко, заппмало руководящее положение. Следующее место по своему значению принадлежало государству аколуасов с главным городом Кулуаканом, расположенным у северного конца озера Чалко. Этот город признавался преемником толтекской культуры и составлял средоточие утонченного образа жизни. Правившая там династия вела свое происхождение от Топилцина, последнего короля толтеков, но погибла около средины столетия вследствие неосторожного вызова, брошенного чичимекам, и должна была уступить место династии из этого племени, которое, впрочем, признало над собою, правда, кажущуюся зависимость от правителей Тенайокана. В числе государств, подвластных этим последним, называют еще Аскапоцалко, Коатличан и Шалтокан, места, которые следует искать в непосредственной окрестности центральных озер. Далее следуют страны, которые были вверены управлению княжеских сыновей: государства Тласатлан, Сакатлан и Тенамитек. Таким образом, владычество чичимеков охватывало почти всю мексиканскую долину. Все эти княжества довольно далеко подвинулись в отношении цивилизации, что в летописях обыкновенно приписывается влиянию толтеков.
В конце века явилась серьезная опасность для этой культуры вследствие вторжения новых племен нагуасов, отличавшихся еще дикою необузданностью. Текпанеки и чалки, само собою разумеется, также вели свое происхождение из семи пещер Чикомостока, и сознание племенного родства с нагуасами, раньше поселившимися в Мексиканской долине, ими вовсе не было утрачено. Поэтому и Толлан играет роль в их переселениях, как этап. В самом Анагуаке они прежде всего появляются в Чапултепеке, но, несмотря на свое значительное число, не долго находились в столкновении с чичимеками, и столкновение это не имело серьезного характера. Прошло немного времени, а они уже образовали вполне сформированное государство в самой южной части области озер. Здесь государства чалков приобрели в следующем веке значение, затмевавшее славу чичимеков и аколуасов.
Одновременно с ними в озерной области всплывает самое молодое из племен нагуасов, ацтеки. Они сами рассказывают о себе, что были последними, которые покинули семь пещер и, благодаря особым опасностям, дольше других родственных племен задержались на пути. В то время они еще всецело находились под властью своих жрецов, которые шли впереди, держа на носилках изображение своего национального бога Уитцилопохтли. Все свои распоряжения они объявляли исходящими от бога. Нужно думать, что это племя было немногочисленно тогда, когда оно получило разрешение от правителей чичимеков основать поселение в Чапултепеке. Однако, число их и значение росли из году в год, благодаря приливу многочисленных родственных групп и присоединению дружественных элементов из соседних государств. Вскоре разнеслась весть о военной храбрости их, и они были вовлечены, в качестве союзников, в никогда не прекращавшиеся распри различных династий, где стали играть довольно внушительную роль. До этого момента они все еще оставались верными своим старым учреждениям. Не взирая на смуты, связанные с военными тревогами, жрецы Уитцилопохтли все еще занимали руководящее положение в этом племени; но только в эту эпоху, вероятно, совершилось превращение Уитцилопохтли из бога солнца в бога войны. Однако, с течением времени ацтеки не могли избавиться от влияния, которое исходило из потребностей данного положения и поддерживалось примером соседних племен. Не смотря на самое энергичное сопротивление жрецов, они все-таки избрали себе около 1250 года первого светского главу в лице Уитцилиуитля. Подобно правителям соседних государств он титулуется королем и обладает совершенно аналогичною властью в пределах своего племени. Счастье, однако, не благоприятствовало ему, и он не мог сделаться основателем ацтекской династии. В союзе с кациками Сумпанко он предпринял поход против текпанеков Шалтокана, но достиг этим лишь того, что и другие текпанекские князья сделались враждебными ацтекам. Так как он отказался уплатить дань верховному королю племени, Текпанекатлю Текутли, имевшему резиденцию в Аскапуцалко, то вскоре он был окружен со всех сторон вассалами и союзниками текпанеков, и, после чувствительных потерь и напрасных воззваний о помощи к королю чичимеков Тескуко, должен был лишиться своего королевского сана. Жрецам, власть которых была восстановлена, удалось заключить мир с соседями, но только ценою утраты независимости, которую защищал Уитцилиуитль.
В это время в Анагуаке произошло значительное перемещение власти. Правители чичимеков Тлосин Почотль и преемник его Кинанцин не сумели сохранить государство в старой территориальной неприкосновенности. Будучи склонны более к мирным искусствам, чем к военным делам, они сосредоточили свое внимание, главным образом, на украшение своих резиденций и пренебрегли защитою границ. Вследствие того бразды правления выскользнули из их рук. Слабая связь, соединявшая подвластных королей Аскапуцалко, Шалтокана и мн. др. с главным государством, исчезала все более и более. И в то время, когда среди этих государств появляются ацтеки, мы уже не видим никаких следов оборонительного союза между государствами текпанеков и царством чичимеков. Известное влияние на подобный ход событий оказало перенесение столицы из Тенайокана в Тескуко в царствование Кинанцина. Тескуко был уже при прежних правительствах опасным соперником древней столицы. Здесь правители чичимеков дали широкий простор своей возраставшей любви к роскоши и созидали все более и более величественные новые дворцы и сады. В виду того, управление важной провинцией Тескуко было вручено предполагавшемуся наследнику главного короля Чичимекатля Текутли. В качестве такового, Кинанцин содержал уже в Тескуко княжеский двор и, будучи еще в Тенайокане, с возведением его в верховные короли, передал правление другому, а сам переселился в более любимый ими Тескуко. Вследствие перенесения столицы с западного берега озер на восток все царство чичимеков естественно начало тяготеть в эту сторону.
В описываемую эпоху границы государства чичимеков расширились в восточном направлении далеко за пределы долины. Тласкала, Уэшоцинко и другие города восточного плоскогорья управлялись в то время княжескими сыновьями из рода чичимеков. Но по мере расширения к востоку, государство утрачивало силу на западе и развязывало руки текпанекским государствам. Перенесение столицы в Тескуко было по вкусу далеко не всем чичимекам. И так как Кинанцин не сумел обеспечить себе преданность своих сатрапов, то вскоре против него образовался могущественный заговор, тайно поощряемый текпанеками. В результате произошло отделение всего запада от государства Тескуко. Первоначально государство чичимеков как будто возродилось в прежнем виде, и древняя столица снова была перенесена в Тенайокан, где родственник Кинанцина воссел в качестве узурпатора власти Чичимекатля Текутли. Верховного короля, повидимому, мало тревожили все эти перемены. Он утверждал свое владычество на востоке, а на западе, где он не мог проявить своей власти, предоставил события естественному течению. Однако, возродившаяся соперница не долго продержалась. Король-узурпатор был вскоре побежден текпанеками, сумевшими воспользоваться помощью ацтеков. После падения Тенайокана господство чичимеков в западных областях было навсегда уничтожено. Это положение вещей было вскоре санкционировано международным союзом, который заключил с Кинанцином текпанекский король Аскапуцалко, в качестве верховного короля всех текпанекских государств. Правда, он при этом отнесся к Кинанцину, как к верховному королю Чичимекатлю Текутли. Но, благодаря такому тактичному приему, он, взамен призрачного предпочтения, получил чрезвычайно существенную фактическую выгоду: Кинанцин этим отрекся от всяких притязаний на древнюю коренную область чичимеков, предоставив ее в неограниченное владение текпанекским правителям.
В этих столкновениях произошло полнейшее раздробление и смешение всех нагуатлакских народных элементов, и новые государства построены были уже не столько на национальных, сколько на чисто территориальных основах. Вследствие того, в главном городе Тескуко поселились гарнизоны, носившие название различных нагуаских племен. Помимо коренных племен востока и чичимеков, здесь находились не в меньшем числе текпанеки, ацтеки, колуасы. Хуже всего пришлось при этом ацтекам. Привычка предлагать себя, как воинов, всякому плательщику, жестокий способ ведения войны и связанные с ним кровавые религиозные церемонии возбудили общую вражду к ним. В сражениях, которые происходили в конце XIII или в начале XIV века в северной части области озер, был разрушен их главный город Чапултепек. Племя ацтеков рассеялось, подобно многим другим. Отдельные шайки и на этот раз поступили наемниками в услужение к соседним государствам в надежде этим купить себе позволение устроить новые поселения. Но только два племени, мексиканцы и тлателулки сохранились в дальнейшем времени настолько чистыми, что помнили еще свое происхождение, до той эпохи, когда с переменою обстоятельств и до них дошла очередь властвовать. В первое время они должны были довольствоваться тем, что правитель Колуакана дал им убежище в Тисаапане или в Истакалко.
Наиболее выгоды извлекли из эпохи смуты текпанеки. Западная область от озера Сумпанго на севере до озера Чалко на юге находилась почти в таком же безграничном владении их, как восточная половина во власти короля Тескуко. Но и они проявили слабость, присущую всем американским государствам: неспособность организовать единство нескольких стран на большом пространстве. Аскапуцалко сохранял, правда, еще в течение некоторого времени преобладание, как бывший центр всего государства текпанеков, и короли его, по крайней мере, в течение целого ряда лет, продолжали носить титулы Текпанекатля Текутли. С течением времени, однако, центр тяжести политического могущества все более и более перемещался к югу. В то время, как, на ряду с Аскапуцалко и Тенайоканом, снова ожил древний Кулуакан и быстро превзошел своим значением и ту, и другую столицу, на юге возникали новые центры текпанекского господства в Чалко, Тенанко, Амекемекане; руководящая роль их выдвинулась сама собою, когда, спустя столетие, в лице мексиканцев вырос новый общий враг для всех государств озерной области. В эпоху наибольшего могущества текпанеков, они насчитывали не менее 25 государств, из которых многие составляли более тесные группы в силу родственных уз. Это чувство более близкого родства существовало, впрочем, у всех и проявилось живее, когда было поставлено на карту самое существование племени. Но в промежутках отдельные короли текпанеков воевали между собою с не меньшею яростью, чем воевали при аналогичных обстоятельствах князья чичимекского происхождения между собою и с другими королями; эти войны возобновлялись и впоследствии.
В первую половину своего царствования, правитель чичимеков, Кинанцин, отнесся, повидимому, равнодушно к отпадению западных провинций своего государства; но он отнюдь не думал отказываться от них навсегда. Ему нужно было сперва собрать все свои силы, чтобы укрепить новое царство на восточном плоскогорьи. И когда там также проявились признаки непокорности, он сумел обнаружить крайнюю энергию и подавить их в самом зародыше. Но, установив здесь порядок, он снова обратил внимание на утраченные провинции. Прежде всего он напал на князя Шалтокана, владения которого, как самые отдаленные, не были подвластны и текпанекам. Шалтоканцы не могли оказать серьезного сопротивления хорошо организованным боевым силам объединенного королевства Тескуко. Столь быстрая победа внушила правителю текпанеков мысль, что неблагоразумно будет ставить обладание еще недостаточно прочно присоединенным провинциям в зависимость от неизвестного исхода войны. Чтобы обеспечить за собою эти последние, он предложил чичимекам мир и союз, согласился признать верховную власть чичимекского короля над всею областью озер и быть подвластным ему хотя только по форме. Кинанцин удовольствовался таким успехом, так как это дало ему возможность снова отдаться своим мирным и художественным наклонностям, а с внешней стороны он владел, по крайней мере, номинально, такой территорией, какою не обладал еще ни один из его предков. Когда он умер в 1305 году, на блестящих похоронах его в Тескуко присутствовало не менее 70 подвластных королей, которые приветствовали вместе с тем Течотля, младшего сына умершего. Кинанцин сделал его своим наследником, так как старшие сыновья утратили право на престолонаследие в виду участия их в восстаниях.
Правление Течотля замечательно тем, что он первый на американской почве сделал попытку внести единство в организацию государств, которая до тех пор была слишком шаткою и ненадежною. Каждый из подвластных королей правил в своей области столь же неограниченно, как сам Чичимекатль Текутли в центре государства. Если только он правильно вносил свою скромную дань и не отклонял категорически посылки войск на случай войны, он мог питать уверенность, что ленный властелин больше не обеспокоит его. Однако, правление Кинанцина не раз доказало, какие серьезные опасности кроет в себе подобное положение вещей для дальнейшего существования совокупного государства. Еще старый король пробовал укрепить государственную связь при помощи энергического подавления всякой непокорности. Течотль сделал решительный шаг вперед в этом направлении. Он собрал бо́льшую часть вассальных королей в Тескуко вокруг себя, придав этому почетную форму государственного совета. А вместо них стали управлять в отдельных провинциях наместники, которые были подчинены ему самому в такой же степени, как и вассальным королям. Кроме того, введено было новое подразделение страны, в котором старые племенные границы самым тщательным образом устранялись и число отдельных административных округов увеличено было почти втрое. Этим путем уменьшалась опасность обширных местных восстаний. Наконец, целым рядом общеобязательных постановлений Течотль укрепил чувство единства на всем пространстве государства.
Все эти мероприятия могли, конечно, касаться лишь его владений на востоке от озер. А запад, почти столь же объединенный при короле текпанеков Тесосомоке, хотя и не столь стройно организованный, был недоступен его влиянию. Правда, номинальная вассальная зависимость, установившаяся при Кинанцине, сохранилась в неприкосновенности и при Течотле. Но когда вступил на престол текпанеков, в лице Тесосомока, энергичный и жаждавший славы правитель, незаметно стала возрастать опасность соперничества между царством чичимеков, которое теперь называлось Аколуаканом, и царством текпанеков. Дело дошло до взрыва, когда престол Течотля занял его сын и наследник король Иштлилшочитль. Сатрапы, питавшие понятную вражду к Течотлю, который своими реформами ограничил их власть, уклонились под разными предлогами от участия в церемониях его погребения. Пассивное сопротивление их не представляло, впрочем, большой опасности. Более грозно держал себя Текпанекатль Текутли. Тесосомок открыто отказался признать верховенство молодого князя чичимеков и ясно стремился окончательно порвать и без того слабую связь с ним. Но Иштлилшочитль с беспечной терпимостью, которая составляла отличительную черту многих поколений правителей чичимеков, относился и к этому двусмысленному поведению самого могущественного из своих вассалов. Вместе с тем, однако, он твердо решился установить отношения к королю текпанеков в духе реформ своего отца. На прямодушную политику его Тесосомок отвечал самой искусной хитростью и скрытностью. Когда Иштлилшочитль грозил добиться своих требований при помощи силы, Тесосомок соглашался удовлетворить эти требования. Но как скоро его покорность убаюкивала правителя, он под самыми ничтожными предлогами уклонялся от выполнения принятых на себя обязательств. Со стороны Иштлилшочитля роковою ошибкою было то, что он в течение многих лет терпел подобное коварство. Этим он поколебал, во-первых, доверие собственных друзей и союзников, во-вторых, он дал время противнику не только подготовиться во всех отношениях к решительной битве, но и завербовать союзников среди вассалов, колебавшихся в своей верности.
Предание утверждает, будто Тесосомок в течение трех последующих годов посылал в Тескуко, как дань, каждый год все большее количество сырого хлопка и при этом сперва просил, потом настаивал и, наконец, требовал, чтобы эта дань была возвращаема ему в Аскапуцалко в виде тонкотканных покрывал. Два раза его требование было исполнено; в третий раз послы принесли ему ответ, что король чичимеков с благодарностью принимает дань и воспользуется ею для снаряжения воинов с целью укрощения непокорных вассалов. Но. несмотря на это, Иштлилшочитль и теперь еще выжидал нападения со стороны текпанеков. Дважды посылал Тесосомок свое войско через озеро в область Тескуко и каждый раз терпел сильнейшее поражение со стороны противников, число которых расло по мере битв. Тем не менее, он отклонял требования тескуканца купить мир признанием его главенства и даже открыто заявил, что ему, как ближайшему потомку короля Шолотля, основателя величия чичимеков, прежде всего принадлежит титул Чичимекатля Текутли. Он был бы несомненно побежден, если бы Иштлилшочитль сумел решительнее воспользоваться результатами своих побед. Благодаря его повторным победам, многие мелкие короли, которые до тех пор держались выжидательно, примкнули к его знамени, и даже некоторые союзники Тесосомока начали колебаться в верности ему. Поэтому, когда Иштлилшочитль перешел, наконец, в наступление, ему нетрудно было собрать значительное войско. И он одержал блестящую победу в провинции Тепопотлан, где противник встретил его с 200000 армией. Но и здесь непонятным образом Иштлилшочитль еще раз дал провести себя хитрому Тесосомоку. Когда после четырехмесячной осады главный город Аскапуцалко не в состоянии был дольше сопротивляться, Тесосомок изъявил свою безусловную покорность и просил лишь пощады в виду близкого родства с домом чичимеков. Иштлилшочитль удовлетворился и теперь простыми обещаниями, хотя был уже столько раз обманут. И не окончив дело покорения, он удалил свое победоносное войско от стен вражеской столицы.
Этим он сам дал сигнал к общему отпадению. Колеблющиеся союзники шли за ним против грозного Текпанека в надежде на добычу. Подвергнуться мести со стороны сохранившего власть Тесосомока, без всякой выгоды для себя, не входило в их планы.
Зловещая тишина сопровождала самое вступление императора чичимеков в свою столицу. Вскоре до него дошли слухи о новых вооружениях Тесосомока. И когда, наконец, этот последний пригласил короля и сына его Несауалкойотля в Чиунаутлан, чтобы там оказать ему почести, то он не решился более вверить свою судьбу изменнику. Но было уже поздно. Тесосомок, увидев, что хитрый план его разоблачен, двинулся быстрым маршем на Тескуко. При защите столицы Иштлилшочитль искупил смертью многочисленные промахи, сделанные им при жизни. Сын его и наследник престола Несауалкойотль с большим трудом избежал смертного приговора, который изрек над ним Тесосомок в качестве нововенчанного Чичимекатля Текутли.
Падение царства чичимеков в Аколуакане совершилось в 1419 году. Мы должны, однако, еще раз вернуться на целое столетие назад, чтобы связать нити, необходимые для понимания дальнейшего развития. Мы видели, что мексиканцы (ср. выше стр. 272) в первых сражениях, которые последовали за перенесением столицы чичимеков в Тескуко, были лишены своего убежища в Чапултепеке и лишь с большим усилием добились от правителя текпанеков разрешения поселиться в другом месте. Если жрецы объясняли прежние несчастия гневом богов вследствие устранения теократии и выбора короля, то теперь, несмотря на то, что власть уже давно всецело перешла в их руки, они не могли вернуть своему народу милости богов. Но если мексиканцы наводили на всех соседей страх своими постоянными набегами, они являлись желанными союзниками на случай войны. В мирное время каждый старался держать этих беспокойных гостей как можно дальше от себя. Текпанекские князья заставляли их платить довольно тяжелую дань и обращение с ними было не совсем достойное; их едва только терпели и передвигали с одного места на другое.
Тогда Тепох, глава мексиканских жрецов, еще раз обратился к народу от имени бога Уитцилопохтли с воззванием о выселении и вывел остатки своего народа из круга цветущих городов в болотистые пространства на западном берегу Тескуко. Здесь, как говорят, по божьему указанию, он основал город, который сделался впоследствии столицею царства ацтеков под названием Мексико-Тенохтитлана. Почти в то же самое время родственное племя тлателулков ушло от тиранического гнета текпанеков и основало в соседстве второе поселение, которое в течение долгого времени успешно соперничало с Тенохтитланом под названием Тлателулко, но, в конце концов, слилось в один город с быстро опередившим его соперником. Переселившись в Тенохтитлан, что случилось, как говорят, в 1325 году, мексиканцы этим еще далеко не достигли независимости. Они находились в пределах владений короля текпанеков, нуждались в его разрешении, чтобы жить там, и оставались его данниками. Тем не менее, находясь далеко от столицы и избрав своим местопребыванием дикую местность, которая считалась почти непригодною для поселения, они уходили все дальше и дальше от гнетущей опеки.
Не взирая на неблагоприятное местоположение, оба родственных города развились необычайно быстро. Мексиканцы были не единственным племенем, которое стремилось уйти от постоянных стеснений. Реформы тескуканских королей порождали такое же недовольство, как и тирания текпанеков. Из обоих царств бесчисленные беглецы направлялись в негостеприимную пустыню и встречали здесь радушный прием у ацтеков Тенохтитлана и Тлателулко, сильно нуждавшихся в увеличении своих сил. Благодаря тому, оба города приобретали все более и более пестрое население и утрачивали национальный характер. Тем не менее, прибывавшие охотно усвоивали господствующий культ и подчинялись учреждениям коренных обитателей, а, с другой стороны, они становились как-бы посредниками между ацтеками и прежнею родиною и этим значительно способствовали смягчению глубоко укоренившейся ненависти, которую питали все соседи к почитателями Уитцилопохтли.
Вначале Тлателулко далеко опередил соседний Тенохтитлан, и туда прежде всего направлялись переселенцы из страны текпанеков. Легко понять, что пришельцев, родственных по племени, ожидали большие льготы от правителя, чем элементов из чужих стран. Особым выражением милости было то, что король Аскапуцалко разрешил одному из членов своей семьи воссесть в качестве вассального князя в Тлателулко, когда город этот настолько окреп, чтобы испросить себе собственного короля. В Тенохтитлан направилась особенно сильная иммиграция кулуасов. Древний королевский город Кулуакан, который давно уже отвоевал, под верховным управлением текпанеков, почти независимое положение и неоднократно играл выдающуюся роль в политической жизни всего государства, – этот город под конец сделался ареною внутренних раздоров приблизительно в то самое время, когда мексиканцы основали свою новую столицу. Кулуасы, терявшие при этом свою родину, массами устремились в Тенохтитлан, где в скором времени нация их имела больше представителей, чем ацтеки. Этому обстоятельству юная колония была обязана своим первым важным переворотом. Мексико было основано еще под управлением жрецов и название «Тенохтитлан» (город Теноха) происходит от имени жреца, который привел сюда народ. Кулуасы уже целые века были знакомы с монархией. И хотя в сфере религии они подчинились обычаям страны, но в светских делах они не могли долго преклоняться перед господством жрецов. Вместе с беглецами прибыли в Мексику и члены древнего королевского рода. И когда, наконец, состоялось соглашение между старыми обитателями и новыми колонистами относительно выбора короля для города Теноха, то выбор остановился на Акамапичтли, сыне кулуаканского короля того же имени, который после падения отцовской династии бежал в Тескуко и там женился на принцессе чичимекской крови Иланкуэйтли. Эти династические связи оказали чрезвычайно сильное влияние на всю дальнейшую исторно ацтекского царства в Тенохтитлане. Только этим объясняются различные события, которые оставались бы совершенно непонятными, если рассматривать город и государство исключительно с ацтекской точки зрения.
Прежде всего Мексика, несмотря на дружественные отношения к Тескуко, оставалась вассальным государством текпанеков. Новый титул Акамапичтли должен был быть санкционирован в Аскапуцалко. Молодой мексиканский король обнаружил впервые свои военные способности на службе Тесосомока; подвиги его были так блестящи, что он быстро занял выдающееся положение среди вассальных королей. Первые походы, предпринятые на службе текпанекам, были направлены к югу, против чалков. Хотя эти последние были родственны текпанекам, они основали на южном берегу озера Тескуко и на озере, получившем от них название Чалко, государство, которое, в свою очередь, достигло таких размеров, что распалось на множество вассальных государств. Мексиканские хроники рассказывают об этих войнах так, как будто все дело сводится к геройским подвигам их королей. Однако, до падения царства текпанеков мексиканцы участвовали в этих войнах лишь в качестве вспомогательных войск. Акамапичтли умер в 1403 году, не оставив распоряжений относительно своего наследника. Нужно думать, что здесь действовало духовенство, которое сделало еще раз отчаянную попытку к восстановлению власти теократии. Но посторонние элементы, которые привыкли к династической монархии, успели пустить уже слишком глубокие корни. Жрецы добились, правда, того, что престолонаследие было поставлено в зависимость от нового избрания; но они не могли помешать тому, чтобы выбор пал на сына Акамапичтли, Уитцилиуитля. О нем также категорически говорится, что он должен был испросить подтверждение своего избрания у правителя текпанеков. Последующие годы он участвовал в свите Тесосомока во всех битвах, которые привели, наконец, к низложению Иштлилшочитля и к падению царства чичимеков, хотя Иштлилшочитль состоял с ним в тесном родстве, а именно был женат на одной из его сестер. Несмотря на все преувеличения хроник, короли Мексики продолжали играть весьма скромную роль вассалов. Это наглядно подтверждается тем, что король Тлателулко был вместе с тем главнокомандующим над войсками Тесосомока и, следовательно, также над войсками Уитцилиуитля. Оба они не дожили до окончания войны. Король Тлателулко пал в одном из сражений, из которых тескуканцы вышли победителями. Уитцилиуитль умер в 1417 году в Тенохтитлане, для расширения которого он работал столь же деятельно, как и для внутреннего порядка в государстве. Благодаря этим заслугам, полубрат его Чимальпонока мог вступить на престол, не встретив возражений, когда потребовалось выступить в защиту интересов страны в момент крушения Иштлилшочитля.
Нужно думать, что как Уитцилиуитль, так и Чимальпопока оставались на стороне Тесосомока до окончательной победы лишь под давлением обстоятельств, так как, в сущности, они могли ожидать несравненно бо́льших выгод от успехов дружественного и состоявшего с ними в родстве Иштлилшочитля, чем от победы властвовавшего над ними тирана. Повидимому, однако, они не подавали особого повода к недоверию со стороны князя текпанеков. Когда он перешел к организации царства, значительно увеличенного, благодаря присоединению тескуканских стран, в числе подвластных шести королей, наряду с властителями Чалко, Тлателулко, Аколмана, Коатличана и Гуэшотлы, был отмечен также мексиканский Чимальпопока. Правда, намерение Тесосомока укрепить этим путем новое государство внутри и извне было достигнуто лишь отчасти. Условия, в которые он поставил вассальных королей, были настолько стеснительны (они должны были отдавать две трети доходов своих провинций королю и только одну треть оставлять себе), что они не столько чувствовали честь своего повышения, сколько униженное положение данников и открыто высказывали свое неудовольствие. К тому же нововенчанному Чичимекатлю Текутли не удалось добиться признания его во всем царстве Итлилсочитля. Более отдаленные части страны на севере и востоке охотно воспользовались случаем не платить никакой дани и снова объявить себя независимыми. Тласкаланцы зашли даже в своей враждебности к Тесосомоку так далеко, что дали у себя приют бежавшему наследнику Тескуко, принцу Несауалкойотлю, и держали его у себя до тех пор, пока, благодаря вмешательству мексиканского короля Чимальпопока, удалось добиться отмены произнесенного над принцем смертного приговора. Тесосомок был уже очень стар, когда он соединил, наконец, под своим скипетром весь Анагуак. После того он еще 8 лет наслаждался плодами своей победы и, умирая, завещал трон своему сыну Техау. Но этим самым он внес распри и в собственную семью, и в жизнь государства.
Без сомнения, из всех сыновей Тесосомока Маштла, которого отец назначил правителем Койогуакана, больше всего походил на него своей энергией, храбростью и хитростью; но у него недоставало отцовской серьезности и спокойствия. Во всяком случае, он считал позором для себя удовлетвориться вторым местом в царстве своего отца. Безразличие Техау помогло Маштле свергнуть его с трона уже спустя несколько месяцев и провозгласить себя Чичимекатлем Текутли, королем всего Анагуака. Переворот совершился без кровопролития, но за ним последовал кровавый эпилог. Если вассальные князья неохотно подчинялись игу престарелого Тесосомока, испытанного в бесчисленных боях, то для них было прямо невыносимо сделаться слугами Маштлы, юного принца, который, во время своего управления Койогуаканом, сумел стать ненавистным для своих подданных и для всех соседних князей и путем насилия завладел троном законного наследника. Короли Мексики и Тлателулко стали во главе недовольных. И так как Техау бежал в Тенохтитлан, то там был составлен план напасть на Маштлу во время пиршества, умертвить его и затем восстановить Техау в своих правах. Заговор был, однако, открыт, и жертвою пал не Маштла, а Техау. Маштла знал теперь, чего ему можно ждать от ацтекских королей, и, не теряя времени, тотчас же сделал два решительных нападения, сперва на мексиканцев, потом на тлателулков. Оба раза он одержал полную победу, оба короля погибли, и города и страны их были преданы опустошению. Быть может, они никогда не оправились бы, если бы повсеместно в царстве Маштлы не вспыхнуло восстание против его незаконного и жестокого правления.
Симпатии, которые все еще питала большая часть восточных провинций к старому королевскому роду, могли только усилиться вследствие поведения Маштлы. Когда руки последнего были на время связаны описанными выше битвами, чичимек Несауалкойотль счел удобным сделать попытку вернуть обратно отцовское царство. Тласкала и Уэхоцинго охотно предоставили ему в распоряжение своих воинов. Слабое сопротивление, которое он встретил в большинстве провинций отцовского царства, дало ему возможность легко вернуть большую часть владений. Но главный город Тескуко оказал непобедимое сопротивление. Здесь Тесосомок посадил, в качестве своего наместника, принца древнего королевского рода. И так как этот последний знал, что, изменив настоящему наследнику чичимекских прав, он не может ожидать пощады, то он делал невероятные усилия, чтобы спасти столицу. И эти усилия увенчались успехом. Но помимо того, положение Несауалкойотля пошатнулось уже в силу нравственного впечатления: поход, начавшийся столь блестяще, окончился почти поражением.
Первым последствием такого неполного успеха было то, что многие союзники начали колебаться, и нападение Маштлы, в неизбежности которого Несауалкойотль был уверен, внушало ему серьезные опасения. В эту опасную минуту ацтеки явились весьма желанными союзниками. По удалении Маштлы из Мексики, там решились немедленно приступить к восстановлению королевства. Один момент выбор колебался между Ицкоуатлем, братом Чимальпопока, и еще юным, но уже украшенным военными лаврами племянником его, Монтесумой. К счастью, законы страны открывали достаточно простора для полезной деятельности более чем одного человека. Королевская власть сохраняла еще ясные следы своего происхождения от аристократической олигархии. Помимо сословия жрецов, все еще очень влиятельного, к королю стояли близко два высоких светских сановника: тлакатекатль, начальник войск, и тлакочкалкатль, начальник стрел. Первое место было поручено Монтесуме, и этим не только было удовлетворено его честолюбие, но ему дана была возможность проявить свою жажду деятельности на благо государства на ряду со своим царственным дядей. Таким образом, самое стечение обстоятельств указывало ему естественный путь, тем более, что Маштла безусловно отказался подтвердить состоявшийся выбор и грозил новым нападением. Общий враг снова соединил мексиканцев и чичимеков.
Монтесума отправился к Несауалкойотлю и заключил с ним союз против текпанеков, к которому тотчас присоединился вновь избранный король тлателулков. Было условлено возможно быстро перенести военные действия в неприятельскую землю. Правда, чистосердечное намерение Несауалкойотля восстановить старое королевство в Тескуко охладило некоторых его друзей, имевших в виду, помогая ему в несчастии, отстоять собственную независимость. Но раскол в его собственном лагере был в избытке восполнен, когда он вступил в союз со всеми врагами текпанекского тирана. Поход, в котором он лично участвовал наряду с мексиканцами, после неоднократных колебаний весов победы, окончился безусловным успехом. Соединенные силы ацтеков и тескуканцев, при поддержке короля Тлакопана, одержали полную победу над текпанеками. Аскапуцалко был взят и разрушен. Маштла пал, хотя и не в самой битве, но во время преследования его, под ударами противников.
Горькое разочарование постигло, однако, тех, кто думал, что с падением текпанекской тирании настанут времена свободы для Анагуака. Эта надежда играла, вероятно, не малую роль в пассивности приверженцев Несауалкойотля во время решительной борьбы; теперь они открыто отпали. Тем не менее, они не могли устоять против союзных сил. И политическое распределение, которое было намечено после взятия Аскапуцалко во время пиршеств, устроенных в Тенохтитлане, было теперь фактически осуществлено: Анагуак был разделен между королями Мексики и Тескуко. Несауалкойотль, для которого раскрылись отныне ворота его древней столицы, получил, вместе со всем царством отца, обнимавшим восточную половину Анагуака, также титул Чичимекатля Текутли. С этим титулом по-прежнему связывалось первое место и высшее положение среди союзников. Мексиканцы играли до этого времени слишком незаметную роль для того, чтобы оспаривать у него это положение. Вообще многолетняя дружба и родство с монархом Тескуко имели немало значения в том, что им досталась видная доля победной добычи. За исключением области Тлакопана, которая была вознаграждена странами на северо-западе Мексиканскаго плоскогорья, за услугу в борьбе против Маштлы, им досталось все царство текпанеков, где мексиканцы считались до сих пор вассалами, наравне с другими королями; но эти владения требовалось обеспечить помощью оружия. Еще более почетное место заняли они в совете союзников. Сюда они были допущены наравне с тескуканцами, тогда как король Тлакопана, как третий член во вновь устроенном союзе государств, хотя и оставался независимым, но безусловно признал превосходство первых двух. Так как это отношение распространялось и на будущее, то и последующие завоевания должны были распределяться между союзниками таким образом, что пятая часть добычи принадлежала королю Тлакопана, а остальное делилось поровну между правителями Тескуко и Тенохтитлана. Таково содержание договора между господствующими нациями Анагуака.
Этим было обрисовано политическое положение в том виде, как его застали еще испанцы; союз, хотя и расшатанный, сохранился до эпохи завоевания. Все три союзных короля сообща вели ряд войн, в особенности против своих непосредственных южных соседей. И дележ добычи происходил согласно условиям, определенным в договоре. Впрочем, территориальное расширение, повидимому, выпадало даже в этих случаях, главным образом, на долю мексиканцев. Помимо того, каждый из союзных королей предпринимал еще на собственный страх завоевательные походы в соседние страны, причем не было строгого разделения на восточные и западные владения. Так, мы встречаем с одной стороны тескуканцев на западе и на побережье Тихого океана, а с другой – ацтеков на востоке вплоть до берегов Мексиканского залива.
Наиболее важный переворот, совершившийся с течением времени в пределах союза, заключался в том, что во внешних делах короли Тенохтитлана все более и более выступали в руководящей роли. И если при сохранении правовых отношений союзников друг к другу, короли Тескуко уступали первенствующее место королям Тенохтитлана, то это случилось исключительно благодаря национальным особенностям обоих народов и их предводителей. Короли Тескуко издревле славились более попечениями о внутреннем благе своих государств, чем военными подвигами. И эту славу вполне оправдали оба короля, занимавшие престол в эпоху союза: Несауалкойотль и сын его Несауалпилли. Нельзя сказать, что им недоставало военной храбрости. Там, где это требовалось для поддержания авторитета или для сохранения неприкосновенности государства, у них не было недостатка в ней. Они предпринимали даже завоевательные походы. Тем не менее, военные предприятия сами по себе не составляли цели для королей Аколуакана: они всегда были подчинены соображениям высшего порядка.
В первые десятилетия Несауалкойотль сосредоточил свое внимание на реорганизации государства, сильно потрясенного революциями после смерти Иштлилшочитля. Первообразом служила для него феодальная система, введенная его отцом и в особенности дедом Течотлем, хотя предшествующий опыт и даже собственный опыт его не говорили в ее пользу. Он пошел по стопам своих предков и в добросовестном применении законов справедливости. Его законы еще долгое время уважались даже испанцами. Но в особенности он подражал прежним королям своей склонностью к изящным искусствам. Храмы и дворцы, сады и купальни, улицы и мосты возникали, благодаря его стараниям, не только в столице, но и в провинциях. Всюду в мексиканской долине, где требовалось осуществить значительные сооружения, прибегали к испытанному искусству Несауалкойотля и его мастеров. Так, он доказал мексиканцам свою признательность за прием и поддержку, оказанные ему в нужде, тем, что устроил им водопровод, который доставлял столице ацтеков, лежащей среди озерных болот, воду из источников в Чапултепеке по глиняному каналу, обложенному камнями. Затем, когда в 1445 году, вследствие продолжительных проливных дождей, вода в озере значительно прибыла, и Тенохтитлан находился почти совершенно под водою, он опять явился на помощь: устройством обширного полукружного мола он защитил мелкие воды вокруг города от опасности, грозившей со стороны самого озера.
Несауалкойотль обращал непрестанное внимание и на духовный прогресс. Как поэт, он был одним из самых выдающихся на почве древней культуры Америки. Его грустные песни еще долго передавались из уст в уста после того, как царство его и род давно исчезли с лица земли. Духовная зрелость Несауалкойотля сказывается и в том, что̀ нам известно из преданий относительно религиозных воззрений его. Еще предки его отличались широкою веротерпимостью по отношению к религиозным взглядам своих различных подданных, часто глубоко разнившимся между собою. В этом Несауалкойотль даже превзошел своих предшественников. Во-первых, он позволил в самом центре своего государства, в столице Тескуко, строить храмы различным божествам, в том числе и Уитцилопохтли, хотя сам также был далек от кровавого культа этого божества, как и предки его. Затем он лично пришел к убеждению в несостоятельности всех народных культов и хотел молиться только одному богу, который все создал и все поддерживал. Было бы, конечно, смело называть Тескуко Несауалкойотля Афинами центральной Америки. Но, без сомнения, в ту эпоху этот город был средоточием всей духовной жизни, всякого прогресса и всякой мудрости, поскольку они вообще существовали в тогдашних царствах.
Хотя Несауалкойотль имел много сыновей от различных жен, но только в 1463 году он вступил в законный брак с принцессою Аскашочитль из Тлакопана. От нее родился единственный сын Несауалпилли, которому минуло 8 лет в 1472 году, когда умер отец. Воспитанный под опекою короля Ашайякатля в Мексике, он сохранил, однако, во всем, что касается духовного развития, черты своего великого отца. Правда, ему не суждено было занять в союзе трех государств такое же веское положение, какое занимал его отец, который надолго пережил своего ацтекского собрата и, благодаря своему возрасту и духовному превосходству, держал в узде притязания соседнего государства. Сын занял в союзе второе место, так как на стороне мексиканцев, на ряду с могуществом и блеском, был также возраст и опыт.
Царство Тенохтитлана развивалось в совершенно ином направлении. Равное положение с Тескуко, занятое им в силу союза 1431 года, было пока еще не совсем заслужено. У самых ворот столицы лежал еще родственный город Тлателулко, управляемый собственным независимым королем. И хотя мексиканцы, как воины, внушали на далеком расстоянии скорее страх, чем уважение, тем не менее, им приходилось сперва подчинить область, которая дала бы им право на преобладание над западным Анагуаком. Этой задаче с успехом посвятил себя ряд блестящих королей-героев, сыновей и племянников Уитцилиуитля. В первое время походы направлялись, большею частью, на юг. Когда были покорены Шочимилко и Куитлауа, начались бесконечные войны против государствъ чалков. Хотя мексиканцы еще на службе у текпанеков неоднократно побеждали чалков, но подчинение было неполное, и чалки, во время восстаний, возвращали себе независимость, как и некоторые другие части текпанекского царства. И теперь еще чалки одни оставались непобедимыми для мексиканцев. Но вызывающие действия их заставили даже Несауалкойотля стать в ряды их противников. Бороться с соединенными войсками трех союзных государств оказалось не под силу многочисленным государствам чалков. Три следовавшие один за другим короля Мексики в течение почти 20 лет (1446–65) чуть ли не ежегодно предпринимали походы против чалков с переменным счастьем, пока, наконец, не удалось овладеть последней твердынею их, городом Чалко. С 1465 года чалки включены в число регулярных данников Тенохтитлана.
Еще в 1440 году умер Искоуатль, один из основателей союза 1431 года. Его сменил на троне племянник его Монтесума (собственно Моктеусома) старший, Илуикамина, король, который больше всего сделал для расширения власти ацтеков. Хотя война против чалков, счастливо окончившаяся лишь в последние годы его правления, главным образом, поглощала силы этого короля, тем не менее, они раздвинули границы царства и в других направлениях. Рядом с этим он, более, чем кто-либо, способствовал внутреннему развитию государства. Высокое положение его в качестве главного начальника войск и верховного жреца Уитцилопохтли давало ему возможность еще в царствование Искоуатля оказывать могущественное влияние. Недаром он был интимным другом Несауалкойотля. Ему столица была обязана важнейшими сооружениями, которые вызывали удивление завоевателей. Таковы были плотины, которые соединяли город с материком, каналы, которые служили главными дорогами к нему, храмы и, во главе их, храм Уитцилопохтли. Над сооружением этого храма работали уже раньше целые поколения и до окончания его не дожил сам Монтесума, хотя ему принадлежит составление окончательного плана.
В религиозной сфере Монтесума также оказался на высоте веротерпимых воззрений королей Тескуко. При нем в Тенохтитлане возникли многочисленные храмы различных божеств. Вскоре сделалось обычаем, что каждая победа над другим племенем ознаменовывалась перенесением в столицу его божеств вместе с их культом. Все это не могло, впрочем, существенно повлиять на основной характер ацтекского религиозного культа. Наоборот, чем больше мексиканцы приобретали могущества и славы, тем ревностнее они культивировали свои жестокие кровавые жертвоприношения. У них укоренилось твердое убеждение, что блестящие успехи, выпадавшие на долю их из года в год, куплены у богов именно этими обильными кровавыми жертвами. И чтобы сохранить эту милость богов, они увеличивали кровавые гекатомбы пропорционально росту своего могущества. Каждый праздник этого народа, каждая победа, начало каждого нового цикла годов, каждое восшествие на престол или освящение храма сопровождались кровавыми жертвами. И чем торжественнее было празднество, тем многочисленнее были жертвы. Дело не ограничивалось благодарностью милостивым богам: необходимо было умилостивлять и разгневанных. Когда в 1445 году начался многолетний голод, охвативший весь Анагуак, мания жертвоприношений достигла у ацтеков положительно безумных размеров. Первоначально они были еще настолько сильны, чтобы в битвах на границе страны брать военнопленных, – и храброе сердце последних, еще содрогавшееся в груди, вскрытой обсидиановым ножом, являлось самой желанной жертвой богам. Но когда нужда становилась все больше, так что, наконец, изнуренные голодающие воины не годились более ни для военных походов, ни в качестве жертв, то правители государства, объятые трепетом перед гневом богов, возымели мысль, единственную во всемирной истории: они заключили формальный договор с воинственными племенами востока, менее изнуренными голодом, с тласкаланцами и уэшоцинками. Согласно этому договору, ежегодно на определенном поле битвы должны были происходить мнимые сражения между одинаковым числом воинов с обеих сторон – исключительно для того, чтобы добыть военнопленных, необходимых для принесения в жертву богам. В течение голодных годов действительно несколько раз происходили подобные битвы. Когда же критическое время миновало, воинственный дух ацтеков позаботился о том, чтобы действительные победы сделали излишними мнимые жертвы.
Чем сильнее становились мексиканцы, тем тяжелее было для них переносить мысль, что у ворот самой столицы их находится управляемая другими королями, почти независимая община, родственный город Тлателулко. Конечно, прошли времена, когда этот город мог соперничать с Мексико в роскоши и блеске. Тем не менее, сохранилось чувство зависти, которое прорывалось в различного рода мелких столкновениях. Само собою разумеется, мексиканцы ждали только случая, чтобы отомстить за это. Но многочисленность врагов и внутри, и на границах удерживала их от нарушения мира у ворот столицы посредством насильственного акта. Поэтому они были вдвойне довольны, когда король Тлателулко вступил в изменнические сношения с врагами их в то время, как все силы мексиканцев были поглощены в войне против чалков. Одержав однажды блестящую победу на юге от Тенохтитлана, Монтесума по возвращении дал почувствовать тлателулкам превосходство своего оружия. В сражениях, которые затем последовали, неосторожный король, по обыкновению, не получил помощи от участвовавших с ним в заговоре и поплатился троном и жизнью. Мексиканцы удовлетворились, однако, тем, что посадили в Тлателулко, в качестве вассального короля, безусловно преданное им лицо. Это был Мокигуиш, племянник Монтесумы. Но хотя он был всецело обязан своим повышением Монтесуме, зависть к более счастливому сопернику, глубоко укоренившаяся у тлателулков, с течением времени захватила и его. Когда в 1468 году, после смерти Монтесумы, на трон Тенохтитлана вступил Ашайякатль, Мокигуиш попытался с оружием в руках возвратить независимость своему маленькому государству. Целых пять лет, как говорят, продолжались битвы, прежде чем превосходными силами мексиканцев удалось окончательно сломить сопротивление своих соседей. Это доказывает, как, благодаря шаткой организации государств, даже маленькая кучка храбрых и решительных воинов могла становиться опасною для сильного государства, если только на ее стороне были симпатии прочих его подданных. Подчинив Мокигуиша, мексиканцы не пожелали вторично впасть в ошибку и оставить почти в сердце государства зерно отпадения. Тлателулко перестал существовать, как самостоятельная община. Он образовал один город с Тенохтитланом, от которого уже давно отделялся только каналом, и все жители, которые не пожелали безусловно подчиниться новому порядку, были изгнаны.
С присоединением тлателулков Тенохтитлан не только значительно увеличил свою территорию и устранил постоянно существовавшую опасность, но вместе с тем достиг и чрезвычайного умножения своего богатства. Во всей центральной Америке, вниз до Тегуантепекского перешейка и дальше, тлателулки, как неутомимые торговцы, были главными посредниками меновой торговли между севером и югом. Из всех государств внутри и вокруг Анагуака одни лишь тласкалтеки могли соперничать с ними, но торговля их сосредоточивалась больше близ залива, чем на тихоокеанском побережье. До сих пор бессилие их родного города в некоторых случаях неблагоприятно отражалось на торговых предприятиях тлателулков. Но когда мексиканцы завладели их городом, они вместе с тем взяли под свою защиту и торговые интересы его жителей. С этого времени мексиканские торговцы играют выдающуюся роль как разведчики и как посредники, дающие желательный повод к насильственным действиям во всех войнах.
В правление Ашайякатля царство Тенохтитлана достигло наибольших размеров. Меньше всего простиралась мексиканская власть к северу через горы, которые окружают Мексиканское плоскогорье. Самыми передовыми пунктами являются здесь Тула и Тулансинго, которые недолго и непрочно были связаны с царством ацтеков. В прямом западном направлении мексиканское оружие также проникло поздно и недалеко. Лишь непосредственно граничившие части Мичуакана были подвластны их скипетру. С тараскосами, живущими далее к западу до океанского берега, они никогда не вступали в серьезные столкновения. С Тихим океаном владения центральных государств приходят в соприкосновение лишь далее к югу. Но здесь не одни короли Тенохтитлана брали дань с городов и князей; и тескуканцы имеют своих вассалов. В стране сапотеков владычество мексиканцев ограничивалось лишь немногими укрепленными местами, о чем мы упоминали раньше (см. выше, стр. 258). Наоборот, к северо-западу и к югу, до Тегуантепекского перешейка и дальше, верховная власть их была признана многочисленными вассальными князьями. Точно также на востоке покорились центральным государствам обширные области. Правда, первоначально могущество тескуканских королей оставляло ацтеков в тени, но с течением времени менее воинственные наклонности этих князей и пользование мексиканцами каждым удобным случаем существенно изменили положение вещей. Королю Тенохтитлана поставлено было в упрек, что он вероломно воспользовался опекою над несовершеннолетним Несауалпилли, чтобы обогатиться насчет союзного государства. В действительности, однако, влияние ацтеков было сильно и на востоке и распространялось на государства побережья Мексиканского залива, начиная от Пануко на севере через область гуастеков и тотонаков вниз в направлении к Шикаланко и Ноногуалко, до границ Юкатана.
Не смотря на это, в самом соседстве соединенных центральных государств образовался очаг беспрестанных возмущений, где находили убежище все, кто желал избавиться от возраставшей тирании и гнета ацтеков. То были королевство Уэшоцинго и республика Тласкала. Оба они в прежние времена принадлежали к тескусканским владениям чичимеков и в эпоху преследования оказали поддержку законному наследнику этой страны, Насауалкойотлю. Но когда последний соединился с ацтеками с целью восстановить свое королевство, прежние союзники отпали от него и с тех пор непрерывно тревожили границы царства. После целого ряда походов Уэшоцинго был, повидимому, покорен, по крайней мере, временно. Но хотя союзные короли то и дело вторгались в холмистую страну тласкалтеков, все сожигая и разрушая, тем не менее, в конце концов, этот маленький храбрый народ, благодаря своей страстной любви к свободе, все-таки выходил победителем над пестрыми войсками вассальных королей Анагуака. Даже будучи окружены со всех сторон, тласкаланцы сумели сохранить свою независимость до прибытия испанцев. Глубокая ненависть, которую они питали к своим соседям угнетателям, дала в их лице Кортесу самых решительных союзников против Тенохтитлана.
Расчленение государства ацтеков было в сущности такое же, как и в других государствах центральной Америки. И здесь подчиненные страны превращались в вассальные государства, платившие дань, и для того, чтобы обеспечить преданность подвластных королей, таковыми назначались члены королевской семьи или мужья дочерей королевского дома. Мексиканцы старались, однако, не только укрепиться на троне завоеванных стран, но и пустить крепкие корни в самих странах. В виду того, после каждого счастливого похода происходила щедрая раздача земель и людей всем, кто способствовал успеху своей храбростью. Иногда эта раздача принимала характер почти колонизации завоеванной области. Этим, во-первых, поощрялась воинственность, так как всякого воина, даже самого простого, ожидала близкая и блестящая награда; а, с другой стороны, созданная таким образом феодальная аристократия являлась опорою трона и вместе с тем противовесом всяким стремлениям к независимости со стороны вассальных королей. Впрочем, колонизация и организация завоеванных земель в такой форме ограничивалась странами Анагуака и областями, непосредственно примыкающими к нему с юга. Для того, чтобы распространить ту же форму правления и на более отдаленные провинции прежде всего не хватало людей. Обыкновенно и там за победоносным походом следовало устранение прежнего правителя или целой династии и назначение преданного короля. Но в остальном завоеванная область оставалась почти такою же самостоятельною, как и раньше и обязывалась только уплачивать определенную дань. Ежегодно являлись послы из Тенохтитлана для взимания дани; некоторые из них находились даже для этой цели постоянно при дворе вассального князя. И для того, чтобы удерживать и вассала, и самую страну его в надлежащем подчинении отдельные пункты наиболее важных торговых путей превращались в вооруженные лагери. Здесь сосредоточивался сильный гарнизон, как ядро и центр сопротивления на случай восстания; здесь же было сосредоточие купцов, сборщиков податей и других чиновников в мирное время. Подобные гарнизоны известны в особенности в отдаленных провинциях – в стране мистеков и сапотеков на юге и в области гуастеков и тотонаков на северо-востоке. Конечно, несмотря на все эти вспомогательные средства, восстания против мексиканцев были не менее часты и, пожалуй, не менее безопасны. Не взирая, однако, на глубокую ненависть, которую питала к ним большая часть подданных вследствие кровавой тирании их владычества, последнее в течение почти целого столетия не было серьезно нарушаемо общим восстанием.
За Ашайякатлем, который умер в 1477 году, после кратковременного, но славного царствования, последовали два правителя, мало увеличившие славу своих предков. Правда, Тисоцик и Агуицотль также победоносно водили войска ацтеков в различных направлениях за пределы страны, но они не обладали ни личными качествами, ни счастьем для того, чтобы совершить что-либо выдающееся для своего государства; а управлять им было трудно в виду громадных размеров, до которых оно разрослось. И только в лице Монтесумы II на трон Тенохтитлана вступил правитель, повидимому, способный оживить великие предания прошлого. Они покрыли себя военной славой еще до вступления на престол и, как король, оправдал надежды, которые на него возлагались. Правда, счастье не особенно благоприятствовало ему. Уже в последние годы царствования Агуицотля вера в непобедимость мексиканского оружия была значительно поколеблена: сапотеки вернули себе полную независимость, а в Тласкале мексиканцев ждало поражение за поражением. Не смотря на отдельные победы, Монтесума не в состоянии был уничтожить впечатление полученных ударов каким-либо крупным успехом.
К этому присоединились грозные знамения внутри страны. Союз между Мексикой и Тескуко, на котором, главным образом, покоилось до сих пор могущество центральных государств, начал все более и более расшатываться. Несауалпилли, при всей его испытанной военной храбрости, все-таки не был, как и предшественники его, сторонником войны. Он лишь под давлением союза поддерживал мексиканцев в их ненасытном стремлении к расширению владений, а вообще держался в стороне. Неудивительно, поэтому, что у королей Тенохтитлана все более складывалось убеждение, что власть и значение всецело принадлежат им и что союзник их несправедливо пользуется одинаковым почетом и одинаковым участием в дележе добычи. Самовозвеличение разрослось до такого высокомерия, что оно вызвало обоюдное недовольство и перешло, наконец, в скрытую вражду. У мексиканцев зародился план при первом удобном случае напасть на бывшего союзника и низвести его на степень вассала. Во время одной неудачной войны против тласкаланцев, которую атцеки и тескуканцы затеяли совместно в 1512 году, Монтесума так далеко зашел в своем вероломстве, что не только покинул союзников во время самого сражения, но даже тайно изменил тласкаланцам. Несауалпилли не имел мужества отомстить за этот позор открытым объявлением войны, но с этого времени бывшие союзники смотрели друг на друга, как враги. И когда через четыре года Несауалпилли умер, вражда приняла открытый характер.
Король Тескуко не позаботился назначить при жизни наследника. Поэтому Монтесуме удалось указать на принца, которым он надеялся руководить вполне по своему желанию. Какама был родной племянник Монтесумы и хотя не лишен был способностей, но пока ничем особенным не выдавался. Наоборот, младший брат его Иштлилшочитль успел еще при жизни отца прославиться на военном поприще. Но ему не удалось помешать выбору Какамы. Иштлилшочитль смотрел на Какаму как на игрушку Монтесумы и, открыто подняв знамя возмущения, считал, что борется за независимость отцовского царства. В Тескуко он не мог, правда, продержаться долго, но в северных провинциях нашел много приверженцев. Он мог расчитывать на поддержку всех, кто опасался, что победа Какамы повлечет за собою исключительное господство мексиканцев. Благодаря тому, ему не только удалось разбить на голову войско, посланное против него Монтесумой, но он, хотя и медленно, но неудержимо и грозно, подвигался на Тескуко. Какама предпочел заключить с ним мир на почве разделения отцовского царства. По всей вероятности, раньше или позже дело дошло бы до разрыва, если бы на горизонте не появился новый враг, одинаково грозный для всех: испанцы.
Несомненно, что короли Анагуака уже давно имели сведения о появлении удивительных чужеземцев, которые пришли в соседние области с востока, из-за моря. Обширные торговые сношения, замечательная организация обмена в государствах Анагуака и в соседних провинциях должны были довести до них, по меньшей мере, слухи, а, вероятно, даже определенные вести о первом появлении и дальнейшем движении чужеземцев, которые уже более 25 лет начали распространяться на островах и на юге. Эта опасность все более приближалась и к ним; в этом не оставалось уже сомнения, когда в 1516 и 1517 годах экспедиции Эрнандеса и Грихальбы проникли до их собственных берегов.
Эти события вызвали целый переворот в их суеверных представлениях, и еще долго писатели их отводили много места рассуждениям о том, в какой мере появление испанцев соответствовало древним пророчествам о всеобщем изменении туземных условий, идущем с востока. Во всяком случае, мнение туземцев, что появление испанцев, быть может, стоит в связи с обещанным возвращением Кецалкоатля, было для испанцев таким же ценным союзником, как и общая вражда, с которою относились народы центральной Америки к господству мексиканцев. Эта вражда обратила в сторону испанцев массы туземных союзников, которые помогли им преодолеть все трудности и дали возможность кучке из нескольких сот людей проникнуть в самое сердце обширных территорий. Но вместе с тем религиозное благоговение к пришельцам как бы подготовило почву: оно дало им возможность без боя занять и укрепиться на побережьи, а затем и проложить себе пути вглубь Мексики, что́ было уже равносильно падению древних царств. Об этом см. ниже стр. 365.
Древняя культура Южной Америки
А. Свойство почвы Южной Америки
Андские Кордильеры лишь в самой южной своей части образуют непрерывную горную цепь. Уже под 26° южной широты они разделяются на два хребта, которые, чем дальше к северу, тем более расходятся. Вначале между ними заключается только узкое плоскогорье, на котором могут поместиться лишь небольшие озерные бассейны; дальше горная страна расчленяется еще более. Между хребтами гор появляются продольные долины, которые принимают с обеих сторон из гор притоки и, наконец, становятся достаточно мощными, чтобы в какой-либо поперечной расселине проложить себе путь сквозь сопровождающую горную цепь. С быстротою стремнин направляются тогда реки либо на запад, через узкую пустынную береговую полосу, к океану, либо на восток: здесь они сначала также круто ниспадают в лесистые низменности, чтобы питать системы больших рек Ла-Платы, Амазонки и Ориноко. Некоторые из этих долин лежат на весьма значительной высоте: уровень озера Титикака находится более, чем на 3850 м. над уровнем моря, озера Кито на 2850 м., Богота̀ на 2660 м. И тем не менее, нетрудно понять, почему именно здесь, и только здесь, на почве Южной Америки, могла пустить корни и развиться туземная культура.
Узкая полоса земли на западе, окаймленная, с одной стороны, Кордильерами, с другой океаном, за исключением некоторых мест, собственно говоря, не может быть названа бесплодною и, во всяком случае, доступна обработке. Но так как здесь из года в год почти не бывает осадков и тропическое солнце бросает свои лучи почти вертикально, то всякая растительность сжигается прежде, чем она настолько окрепнет, чтобы дать тень и защиту собственным корням и последующим зародышам. Правда, от времени до времени на этой длинной береговой полосе показываются из гор ручьи и реки, но узкая площадь земли не дает им развернуться надлежащим образом. Во время таяния снегов они дико бушуют, разрушая и уничтожая все на пути к морю, а в сухие времена года или совершенно иссякают, или содержат так мало воды, что в состоянии питать лишь небольшой пояс растительности на самых берегах своих.
Но если на западной стороне Кордильер полное отсутствие осадков исключает возможность заселения страны и культурного развития, то на восточной стороне избыток их столько же тормозит человеческую деятельность. На востоке Кордильеры также почти всюду круто ниспадают до значительной глубины. Но здесь к ним присоединяются низменности необъятной величины, по которым вяло и медленно текут массы вод. Когда тающий снег обильно питает горные ключи или облака с Атлантического океана проносятся над обширными низинами и, ударяясь о горную стену, разражаются водяными потоками, реки сильно выступают из берегов. Они образуют тогда области наводнения на таком протяжении, что исчезают границы даже между системами больших рек, и лодки незаметно переносятся из одной реки в другую. И здесь условия не благоприятствовали первобытному человеку, с его плохими средствами борьбы, пустить крепкие корни, победить природу. К тому же борьба была излишнею, так как тропическая природа слишком легко и в изобилии давала все, что нужно было для удовлетворения его незначительных потребностей. Он переходил с места на место, нигде надолго не останавливаясь.
Таким образом, единственным местом, удобным для поселения человека, оставалась обширная возвышенность, которая, подобно длинной складке, служит как-бы фундаментом для вершин и горных хребтов Кордильер и образует в своих продольных бороздах подошву долин. Правда, и эта возвышенность расположена на несколько тысяч футов над уровнем моря, доходя почти до границы альпийских снегов; но в тропических широтах ее температура может считаться далеко не враждебною для человека и его потребностей. Здесь первобытный человек нашел прежде всего то, в чем он наиболее нуждался – воду. Вода, в изобилии и равномерно распределенная, делала почву плодородною, но вместе с тем не ошеломляла человека своими бурными потоками, с которыми он не мог бы совладать. Вместе с тем, эта вода кормила его: в больших и мелких озерах, в запрудах ручьев и рек водилось много рыбы, которую нетрудно было ловить даже при помощи вспомогательных средств первобытной эпохи. Лес дал человеку сперва убежище, а затем материал для его изобретения. Потоки, приносившие со скалистых высот валуны, сделали его строителем. Наконец, он нашел в Кордильерах Южной Америки еще два ценных дара, оказавших огромное влияние на развитие культуры: картофель, доставлявший ему пищу на таких высотах, где маис не желал более произрастать, и ламу, единственное домашнее животное американского материка, которое помогало человеку переносить его грузы, одевало его своею шкурою и кормило своим мясом.
Хотя все эти условия были неодинаково благоприятно распределены на всем обширном пространстве земли, которое занимали древние культурные государства Южной Америки, но из сказанного ясно, что здесь даны были естественныя условия для культурного развития и дальнейшего распространения его. Благодаря этим условиям, уже в отдаленной древности доисторических времен культура достигла здесь высшего развития сравнительно с уровнем обитателей остальной Южной Америки. Уже при описании ароваков (ср. выше стр. 191) мы заметили, что они, повидимому, обязаны своим знакомством с приготовлением маньока и гончарным искусством древним культурным влияниям, которые исходили от народностей Кордильер и, по всей вероятности, со стороны боливийского склона, где Кордильеры разветвляются шире. Указание, что в этой именно местности должно искать первоначальную родину не только многих диких народов Южной Америки, но и всех культурных народов, можно усмотреть в том, что в Южной Америке, в противоположность средне-американской культурной области, все предания свидетельствуют о культурном движении с юга на север. Степень развития, фактически достигнутая, в общем поднимается, хотя и не совсем равномерно, по направлению к югу. В виду этого и еще потому, что ко времени испанского завоевания лишь на крайнем севере оставался еще нетронутый культурный очаг, тогда как на юге в это же время целый ряд других древнейших культурных государств был поглощен инками, мы начинаем изложение древней истории этих культурных народов с севера.
В. Древние южно-американские культуры
а) Чибчасы
Самую северную из культурных областей Южной Америки занимали чибчасы. На основании лингвистических данных, хотели доказать родство чибчасов с другими племенами и, главным образом, с теми, которые живут в самых южных странах Средней Америки, непосредственно к северу от Панамского перешейка. На этом построили даже предположение, будто чибчасы в свои позднейшие местообитания переселились с севера. Другие, наоборот, видели рассеянные группы чибчасов в Костарике, будто бы переселившиеся туда с юга. Но если бы даже и существовали связи с племенами, живущими вне этой области, то своеобразная культура чибчасов Колумбиии побуждает игнорировать их в историческом обзоре и ограничиться чибчасами в тесном смысле.
Область чибчасов находилась на восточном берегу среднего течения реки Магдалены, но отделялась от последней горным хребтом, который на протяжении от Рио-Фунса на юге до Караре и Согамосо на севере, не прерывается ни одной сколько-нибудь значительной рекою. На востоке границу ее составляли самые Кордильеры. В немногих местах ведут через них перевалы, которые были уже известны чибчасам, и только на самом северо-восточном углу, там, где впоследствии находился Сан Хуан де-лос Льянос, существовали, повидимому, с древнейших времен сношения между обитателями плоской возвышенности и жителями восточной низменности. Плоскогорье, изборожденное многочисленными реками, хотя, большею частью, незначительными, усеянное множеством более или менее обширных озер и ограниченное двумя вышеупомянутыми реками – такова территория чибчасов. Она обнимает площадь около 500 квадратных миль и в эпоху завоевания была сравнительно густо населена.
В преданиях чибчасов нет ничего, что указывало бы на переселение их в эту область в сравнительно поздние времена. Как известно, религиозные представления дольше всего отражают воспоминание о ранних периодах развития народа. У чибчасов эти представления так тесно слились с местностями, в которых застали их испанцы, что, по крайней мере, сами чибчасы должны были считать себя туземцами. Предание их рассказывает следующее о происхождении первых людей: когда Чиминигагуа создал небо и землю и разослал своих приносящих свет птиц во все страны, из озера Игуаке, к северо-востоку от Тунхи, вышла красивая женщина по имени Бачуэ или Фурачогуэ, с трехлетним мальчиком на руках. Неподалеку оттуда, в цветущей долине, она построила себе хижину и стала обрабатывать свое поле и с любовью растить свое дитя. Когда мальчик сделался мужчиною, она сочеталась с ним и подарила ему столь многочисленное потомство, что вся страна вокруг была занята и заселена им. Состарившись, они вернулись оба к озеру Игуаке, простились со своим народом и в образе двух исполинских змей исчезли в озере, из которого некогда вышли.
Несмотря на это и другие сказания, сомнительно, чтобы первоначальная родина чибчасов находилась в области реки Магдалены. Во всяком случае, странно, что они были окружены там со всех сторон народностями, которые постоянно находились с ними в войне и не только не говорили на сходных языках, но так резко разнились в культурном отношении от чибчасов, что едва ли можно согласиться, будто речь идет здесь об одной семье народов, занимающей всю страну, и будто бы чибчасы составляют лишь ветвь этой семьи, достигнувшую высшей ступени, только благодаря особенному стечению благоприятных обстоятельств. Но, с другой стороны, у нас нет доказательств в пользу связи между чибчасами и прочими культурными народами юга. От их ближайших цивилизованных соседей, китусов, чибчасов отделяет глубокая впадина, по которой долина реки Исы и озера Кокна, к югу от истоков реки Магдалены, врезывается в Кордильеры; в культурном или религиозном отношении нет никаких точек соприкосновения между этими народностями. Точно также и к северу от чибчасов мы не встречаем ни одного племени, ни одной страны, относительно которых можно было бы утверждать, что чибчасы пришли оттуда и принесли с собою зародыши цивилизации, которая дала затем пышный расцвет в области реки Магдалены.
Область чибчасов, нужно полагать, распалась еще в древнейшую эпоху на множество мелких племенных общин. Их было приблизительно столько, сколько образовалось впоследствии городов, и над каждым из этих поселений и непосредственною округою его властвовал еще в позднейшее время кацик. Первоначально все эти правители были равноправны, жили независимо други от друга и связаны были в группы лишь общим почитанием священных мест. С течением времени, однако, некоторые из этих мелких правителей начали обогащаться насчет своих соседей. Вокруг этих центров группировались, частью добровольно, частью насильственно, другие племена, пока, наконец, вся территория не разделилась между пятью кациками и почти все остальные местные кацики не сделались зависимыми от них. Но этим дело централизации еще не закончилось. Каждый из пяти верховных кациков или «королей», как их называли испанцы, неустанно стремился возвыситься насчет остальных. Эпохе появления испанцев предшествовали ожесточенные битвы, результатом которых было бы несомненно дальнейшее упрощение государственной группировки на возвышенности Богота̀, если бы чужеземцы не подчинили себе безразлично всех королей и не сосредоточили бы в одних руках власть не только над всей этой областью, но и далеко за пределами древнего царства чибчасов.
Из пяти государств, которые разделили между собою область чибчасов в последние века до прибытия испанцев, первое носило имя своего правителя Циппа̀ или Богота̀, что́ означает солнце; этим же именем испанцы назвали главный город страны. Остальные четыре были: государство Цаке или Гунза с главным городом Тунха; государство Согамосо, духовные короли которого носили титул ирака̀; Гуатабита, расположенное на лагуне того же имени и, наконец, Тундама, которому принадлежал крайний северо-восток даже и за гребнем Кордильер до будущего Сан Хуана де лос Льянос. Хотя впоследствии центр тяжести политической власти находился в государствах Тунха и Богота̀, но в предании самих чибчасов сохранилось еще воспоминание, что это преобразование относилось лишь к позднейшему прошлому. Предание не устанавливало хронологического различия между государствами Тундама, Согамосо и Гуатабита. Но принимая во внимание религиозные и мифологические отношения, мы должны будем заключить, что Тундама всегда находилось ближе к периферии культурной области чибчасов; что Согамосо представляло политический центр области в тот период, который непосредственно предшествовал возвышению Цаке и Циппа̀; что, наконец, Гуатабита являлось древнейшим религиозным центром всей полосы земли, заселенной чибчасами. Здесь, у озера Гуатабита, совершились, по преданию, те события, которые предшествовали ныне существующим условиям. Так, прежде всего здесь разыгралась борьба между культурным героем чибчасов Бочикою, представляющим воплощение солнца, и его женою Чиа, столько же красивою, сколько и злою, которая является воплощением луны. Сказание говорит, что, при появлении их, чибчасы были еще полными дикарями и жили в долине реки Фунсы, которая в то время была окружена к югу скалами. Бочика явился, чтобы принести им благодеяния культуры. Он научил их возделывать маис и картофель, изготовлять одежду из волокон хлопка и жить в благоустроенных общинах. Но Чиа всюду тормозила его цивилизаторские стремления. Когда она увидела, что, несмотря на это, деятельность Бочики давала все лучшие и лучшие результаты, она заградила Фунсу, и воды реки наводнили всю долину так, что только немногие жители страны могли спастись на самые высокие вершины. Тогда гнев овладел Бочикою. Он изгнал Чиа с земли и указал ей место на небе в качестве луны. Своей молнией он расщепил стену, запрудившую долину, и воды нашли выход в виде мощного водопада Текендама. Одно лишь озеро Гуатабита осталось как воспоминание о всеобщем наводнении.
Уже в самом характере этого сказания отражается высокое почитание окружающей природы, составляющее характерный элемент религиозных представлений чибчасов. Горы и скалы, деревья и кустарники, а чаще всего воды, особенно ручьи и озера, оживлялись в их глазах божественными существами и были предметами особого почитания с их стороны. Форма этого почитания заключалась в процессиях с молитвами, плясках, торжественных воскуриваниях и, в особенности, в подношении ценных даров. Страна чибчасов изобиловала драгоценными камнями, всего более изумрудами и золотом, которое они умели весьма искусно натягивать в форме тонких дутых листочков на каменное ядро и придавать этим предметам самые изящные очертания. Так как эти предметы были весьма пригодны для украшений и для жертвенных подарков, то они являются существенной составной частью культа богов и даже характеризуют собою особое направление искусства. Без сомнения, это обстоятельство не мало способствовало своеобразному и высокому развитию, которого достигло у чибчасов ювелирное мастерство. Вследствие того, места поклонения богам и связанного с ним культа умерших, пещеры, озера и тому подобные места оказались богатыми и, к сожалению, нередко слишком легко доступными местонахождениями ценных древностей культуры чибчасов. Со времени испанского завоевания и до последнего времени в этих местах добывались сокровища, ценность которых измеряется тысячами. Огромная часть их была расплавлена и перечеканена в монеты. Только в самое новейшее время начали относиться с бо́льшим вниманием и почтением к этим остаткам своеобразной культуры. К счастью, благодаря неисчерпаемому богатству страны и на нашу долю осталось еще достаточное количество подобных древностей, чтобы мы могли составить себе понятие о них.
Любимыми местами для религиозных приношений были озера, и первенствующую роль между ними играло озеро Гуатабита. Торжественное жертвоприношение, которое совершали каждый вновь избранный правитель уже в позднейшее время на лагуне Гуатабита, послужило канвою для сказочной легенды (ср. выше стр. 196) о Дорадо, золотом человеке, который был брошен в озеро Гуатабита. Дело было так: во всех государствах чибчасов вступление нового правителя на трон сопровождалось повсеместными религиозными церемониями, которым предшествовал длинный и строгий пост. По окончании срока испытания, следовали жертвоприношения и празднества, которые сопровождались особой торжественностью. Но, в заключение, на Гуатабите происходила следующая церемония: в торжественных процессиях с молитвами стекались обитатели всей страны к берегам лагуны. В день восшествия жрецы приводили к озеру молодого правителя из места его испытания. Здесь ждал его плот, обильно нагруженный ценными приношениями, состоявшими из золота и изумрудов. Четверо из высших кациков, облаченных в богатые и блестящие украшения, всходили на плот, а будущий правитель оставался на краю озера, где воскуривался обильный фимиам, чему тотчас же подражала толпа, собиравшаяся на далеком протяжении. Жрецы торжественно раздевали его, смазывали клейкою землею и затем с головы до ног пудрили золотою пылью. Сияя, как солнце, от которого производят королей в большинстве государств чибчасов, он всходил на плот, занимал место среди кациков, после чего плот отчаливал и останавливался на средине лагуны. Здесь король начинал бросать богам, местопребыванием которых считалось озеро, собранные жертвоприношения, а вокруг толпа плясала и раздавались звуки самых причудливых музыкальных инструментов. Наконец, правитель возвращался к берегу и лично принимал участие в празднествах, длившихся много дней.
Хотя эта форма жертвоприношения составляла особенность Гуатабита, но самое жертвенное место часто посещалось правителями и подданными других государств чибчасов. Существовал целый ряд подобных священных озер, игравших роль жертвенных центров, и для удобства паломников они были соединены между собою дорогами, которые тщательно поддерживались. Во всех необычайных случаях, вроде голода или эпидемии, победоносного сражения и т. п., короли различных государств устраивали торжественные паломничества, в которых принимал участие весь народ. На них смотрели не только как на обязанность в отношении богов: это был вместе с тем праздник для простых людей, которым разрешено было в это время отдаваться самым разнузданным чувственным наслаждениям. Из всех мест паломничества наибольшее предпочтение отдавалось Гуатабите, которое составляло высшую святыню и наиболее почиталось в стране чибчасов. Вероятно, это озеро и ныне хранит множество драгоценностей, некогда брошенных в него. Повторные попытки осушить его увенчались, правда, не полным успехом, но уже одно исследование ближайших к берегу частей доставило золота в количестве тысячей пезосов (=4 маркам), хотя на самом берегу приносили дары лишь обыкновенные обыватели. Во сколько же раз больше сокровищ можно предполагать в самом центре озера! Каждый правитель Гуатабита и не только он: каждый усаке, гуэча, вообще, каждый стоявший выше простолюдина, отплывал подальше в озеро и там, ближе к центру святыни, опускал свои приношения. Когда испанцы проникли в область чибчасов, государство Гуатабита утратило свою самостоятельность и образовало составную часть царства Богота̀. Но некогда религиозный центр находился именно в Гаутабите, а не в новой столице: это следует из того, что в мифологическом предании и в сказаниях никогда не упоминается Богота̀, между тем как Гуатабита является средоточием самых обширных и разработанных сказаний.
Известное религиозное значение, кроме Гуатабиты, имело еще государство Согамосо (Сугамукси). Маленькое государство, носившее это название, лежало на восточной границе области чибчасов, там, где восточные Кордильеры, при посредстве немногих весьма трудных перевалов, сообщаются с низменностью льяносов. Здесь имели место соприкосновения, которые не остались без влияния на чибчасов; это вытекает из развития некоторых религиозных обычаев. В Гуатабите первое место занимал бескровный культ, который чибчасы посвящали окружающей природе, в особенности воде. Но религия их отнюдь не была проникнута столь невинными воззрениями. Наоборот, человеческие жертвоприношения составляли неотъемлемый элемент поклонения солнцу. Они допускали, правда, что солнце также было создано Чиминигагуа. Но этот загадочный творец миров едва ли где-нибудь пользовался действительным поклонением наравне с богами, а между тем культ солнца может быть указан везде (мы видели его и в церемонии Дорадо на озере Гуатабита). Ему служила и хорошо организованная корпорация жрецов, jeques, связанная строгими правилами, которая, как у всех молодых народов, пользовалась огромным влиянием на страну и народ. Образование, которое должны были проходить хексты, во многом напоминает способ, при помощи которого знахари приобретали славу святости среди дикарей Северной Америки; но здесь во всем была стройная система. Не каждый мог объявить себя посредником между людьми и божеством. Каста жрецов сделалась органом государства и достоинство жреца переходило от дяди к племяннику (обычный порядок наследования и у чибчасов, см. ниже стр. 296), причем испытание продолжалось много лет и в заключение требовалось утверждение верховного правителя. Помимо того каждый дом у чибчасов имел своего фетиша: это были маленькие, безобразные человеческие фигурки, у богатого из золота, у бедного из глины или дерева, почти всегда с углублением для помещения жертвенных приношений. Затем существовал еще целый ряд низших божеств, которые хотя и не имели своих жрецов, но пользовались у известных классов народа или в известных случаях всеобщим почитанием. Храмы с их сословием жрецов служили исключительно культу солнца, сильно проникнутому духом антропоморфизма. Все небесные явления считались спутниками этого светила.
Почти только один культ солнца сопровождался кровавыми преимущественно человеческими жертвоприношениями. Одна из самых простых форм жертвоприношения заключалась в том, что избранный для жертвы поднимался на вершину горы, которая рано освещалась лучами восходящего солнца. В тот момент, когда светило появлялось над горизонтам, жертву убивали и еще теплою кровью ее окропляли скалу так, что солнце как будто питалось этою кровью. Аналогичное представление лежало, по всей вероятности, в основании другой, особенно жестокой формы жертвоприношения. Жертва помещалась на самом месте, на вершине свай, похожих на мачты, и медленно истекала кровью под ударами стрел и копий; в это время жрецы собирали стекавшую кровь и подносили ее в храме изображениям богов. Несколько утонченнее были другой способ жертвоприношений, в котором мы снова встречаемся с идеей перевоплощения жертвы в божество, свойственной ацтекским обычаям (ср. выше стр. 241–253 и 264). Странно, что для этой цели употреблялись только мальчики, которые происходили из восточных льяносов. Едва ли это обстоятельство находится в связи только с восходом солнца на востоке; скорее оно намекает на связь предков чибчасов с племенами востока. В будущем Сан-Хуане де-лос Льянос производилась правильная торговля маленькими мальчиками, которым тотчас после рождения обрезывался пупок, чтобы отметить их как будущих жертв солнцу. Когда они достигали 6–8 летнего возраста, торговцы приводили их в города. Кацики, смотря потому, насколько они были богаты, держали у себя одного или нескольких подобных священных мальчиков. Их почитали почти как самое божество до 15 летнего возраста. Они жили в храмах, где жрецы были их слугами. Молящиеся видели в них посредников божества, и когда они, что случалось нечасто, покидали помещение храма, их носили, как королей и великих мира, на носилках, чтобы священная нога их не касалась пыли. Так проходила их жизнь до эпохи возмужалости. Если подобный жертвенный юноша случайно утрачивал свое целомудрие, то он становился непригодным для своего назначения; он изгонялся и сразу падал до степени обыкновенного смертного. В противном случае жизненный путь его завершался большим празднеством, на котором чибчасы давали полный простор своей любви к процессиям, пляскам и музыкальным представлениям. Юноша и здесь был героем празднества. В самый разгар последнего, при оглушительном шуме толпы, у него вырывали из тела сердце и внутренности, отрубали голову и как можно поспешнее подносили кровь и сердце к стопам божества. Полагали, что божество питается мясом и кровью жертвы. Сами чибчасы, в том числе и жрецы их, повидимому, никогда не ели человеческого мяса. Трупы жертвы тайно хоронились жрецами в предположении, будто солнце съело их.
К обязанностям сословия жрецов, само собою разумеется, относилось исправление календаря. То, что́ рассказывали о сложном счислении времени у чибчасов, об уравнении трех различных видов года, основано на вымысле, и мнимые календарные знаки чибчасов составляют лишь неумелую попытку обмана. Чибчасы совершенно не знали письма ни в какой форме: даже мнемонические вспомогательные средства перуанцев, кипу, у них не были в употреблении. Год их состоял из 12-ти лунных месяцев, которые, в свою очередь, дробились на меньшие отделы, соответственно фазам луны. По всей вероятности, вымышлено и то, что они посвящали 10 дней религиозному размышлению и воздержанию, 10 дней работе и 10 дней удовольствиям. Год из 360 дней, конечно, тотчас же поставил бы их в явное противоречие с временами года. Но так как жрецы из религиозных соображений вели тщательные наблюдения над солнцем, то они умели, конечно, по желанию устранять это несоответствие. Часто у народов, мало развитых в архитектурном отношении, находили колонны, которые называли колоннами солнца, гномонами. Тем более замечательно, что в области чибчасов, где до эпохи завоевания каменные сооружения составляли нечто совершенно неизвестное, найдено множество хорошо обтесанных круглых каменных колонн, которые, очевидно, не достигли еще места своего назначения. Они лежат здесь, производя такое впечатление, как будто были брошены во время переноски. Но действительно ли это солнечные колонны, сказать трудно, так как мы не имеем никаких сведений о них и не находим следов их в известных нам населенных местах.
С государством Согамосо связано древнейшее историческое предание чибчасов. Здесь, говорят, правил, как непосредственный наследник Бочика, король Номпанем, который облек учение этого культурного героя в форму законов. Но при последующих правителях чистота древнего учения утратилась. Идаканзас, правитель Согамосо, наиболее воспеваемый в сказаниях, держал своих подданных в подчинении не столько в силу своей добродетели и мужества, сколько при помощи хитрости и обмана. В позднейшие эпохи говорится лишь о распрях между различными кациками, подчиненными государству, из-за господства над Ирака̀. Во время завоевания испанцами политическое значение Согамосо совершенно отступает назад в сравнении с Цаке и Циппа̀.
Гуатабита и Согамосо, исторические предания которых находятся в связи с религиозными представлениями, образуют более древнюю группу государств. Наоборот, государства Цаке в Тунхе и Циппа̀ в Богота̀, как более молодая группа, представляют чисто политическое образование. Из предания видно, что они обязаны своим происхождением исключительно возмущению против древних государств. Первый правитель Тунхи или Гунзы был будто бы прямо назначен королем Согамосо. Именем его Гунзагуа, как говорят, был назван главный город Гунза; другие считают древней столицей правителей Тунхи Рамирики. Так или иначе, они, благодаря своей военной доблести, достигли в короткое время не только выдающегося положения, но и полной независимости. Когда государство значительно расширило свои границы во всех направлениях, правитель не довольствовался уже своим прежним титулом усакѐ, который носило большинство как самостоятельных, так и зависимых кациков. Он стал носить титул цакѐ, под которым правители Гунзы более известны, чем под своими собственными именами. Из преемников Гунзагуа упоминаются лишь немногие, и то в довольно легендарной форме. Так, Томагата представлял будто бы род человеческого чудовища с четырьмя ушами и длинным крысиным хвостом, но набожностью своею приобрел силу во всевозможных колдовствах, которые они применяли далеко не всегда на благо своих подданных. Другой правитель, царствование которого продолжалось, хотя и не в области чибчасов, до прибытия испанцев в Южную Америку, был также окружен сказочным ореолом. Он происходил будто бы прямо от солнца, от лучей которого зачала дочь кацика Гуачета̀. Как сын солнца, он пользовался высоким почетом еще за много лет прежде того, чем приобрел какую бы то ни было светскую власть. Но когда правивший цакѐ возбудил против себя народ жестокостями, Гаранчача стал во главе восставших и без труда одержал победу, благодаря которой он был возведен в звание цакѐ. Ему приписывают, с одной стороны, перенесение столицы Рамирики в Тунху (Гунзу), а с другой, с правлением его приводят в связь вышеупомянутые единичные каменные колонны. Он будто бы имел в виду построить вблизи Гунзы величественный храм своему отцу, богу солнца, и для этой цели повелел доставить издалека упомянутые колонны. Перенесение их производилось только по ночам, и народ думали, что сами боги доставляют материал для постройки храма. Но прежде, чем храм был окончен, до короля дошла весть о появлении испанцев на нижнем течении реки Магдалены, и постройка храма была приостановлена. Чтобы оценить значение этого предания, мы должны заметить, что в серии королей Тунхи, известной нам из истории битв с циппасами, не существует цакѐ по имени Гаранчача.
Единственное государство в области чибчасов, история и культура которого известны нам в более достоверном виде, есть государство Богота̀. Его короли играли такую же роль, как ацтеки в Мексике и инки в Перу, и, подобно им, настолько поглотили внимание завоевателей, что из-за них прочие племена и государства остались в тени. Правда, и в этом случае предание не заходит далеко назад. Этому не должно удивляться, так как не существовало никаких вспомогательных средств, которыми память могла бы воспользоваться. В древнейшую эпоху правитель Богота̀ (Баката̀) был не более как одним из подвластных королей (усакѐ) правителя Гуатабиты. Но так как ему особенно приходилось защищать юго-западную границу государства от нападения диких людоедов, муцосов и панчесов, то военное значение его вскоре дало ему заметный перевес над прочими усаке. Он сделался как бы генералиссимусом вооруженных сил царства Гуатабита.
Для охраны своих границ, правители чибчасов уже в раннюю эпоху образовали особое военное сословие гуэчасов. Для этой цели набирались люди во всех владениях правителя, получали известное образование под личным надзором его и по окончании обучения командировались в пограничные области. Так как усаке (кацики) вербовались исключительно из военной касты, то каждому, кто отличался особенной храбростью, был открыт путь к самым высоким постам. Вообще, аристократия усаке довольно резко обособлялась от низших классов. Даже в мирное время существовала известная военная организация: усаке пограничных областей были вместе с тем начальниками над находившимися там членами военной касты и командовали ими даже в том случае, когда битвы происходили не на охранявшейся ими границе, а в какой-либо другой части государства. Для этой цели отдельные усаке носили определенные знаки, по которым их можно было узнать как во время битвы, так и в лагере. Гуэчасы носили особую предписанную одежду. Подобно всем, принадлежавшим к нациям чибчасов, они никогда не ходили с обнаженной головою; под шапкою они носили коротко остриженные волосы, и в знак особой привилегии своего сословия, просверливали себе уши, носовую перегородку и губы. За каждого врага, которого гуэчас убивал в сражении, он имел право продеть сквозь нижнюю губу золотую палочку. Это украшение не мало усиливало дикое выражение лица. Гуэчасы были вооружены длинными копьем, боевой секирой, пращей и метательной дощечкой, при помощи которой они бросали короткие стрелы с острым концом. Объявлению войны, которое, большею частью, сопровождалось известными формальностями, предшествовали в течение недель религиозные церемонии. Усаке и гуэчасы наряжались тогда в свои блестящие одежды, украшенные перьями, золотом и драгоценными камнями, и отправлялись в поход, сопровождаемые бесконечным обозом женщин, которые везли съестные припасы, и, главное, большие количества опьяняющей чичи. Оригинальный обычай существовал при этом; на войну брали с собою мумифицированные трупы знаменитых воинов. Увешанные богатыми покрывалами, они вносились на носилках в место самого жаркого боя, окруженные избранною горстью наиболее храбрых воинов. На войне, как и при жертвоприношениях и в процессиях, играли большую роль пение, крик и затем не совсем мелодичные звуки их инструментов. Победа сопровождалась в течение многих недель празднествами, плясками и обильными жертвенными приношениями богам. Но и поражение также служило поводом к жертвоприношениям и торжествам покаяния с целью умилостивления будто бы разгневанных богов.
Из множества усаке, которым была вверена охрана южной границы, за два приблизительно века до прибытия испанцев выдвинулся правитель Мукета̀; но он был отличен титулом Циппа и Богота̀ лишь после того, как царство его сделалось самым значительным в области чибчасов. Независимость от Гуатабиты он, согласно преданию, завоевал таким образом, что однажды, воспользовавшись торжественным празднеством на священных озерах (куда он был приглашен, быть может, не без задней мысли), произвел неожиданное нападение, благодаря которому ему легко удалось одержать победу над своим верховным повелителем. Вначале он расширял границы своих владений исключительно насчет враждебных племен запада и юга. Но, благодаря быстрым успехам, он вскоре занял первенствующее место и среди соплеменников. Владения циппа росли частью при помощи оружия, частью же путем добровольного присоединения провинций, не всегда довольных своими правителями, и притом с такою быстротой, что он возымел мысль соединить под своим скипетром все племена чибчасов.
Обычный порядок престолонаследия был у чибчасов, как у многих американских народов такой, что дяде наследовал племянник, сын сестры. Но почему циппа избирался не из королевского рода Богота̀, а из усаке Чиа, – это объясняется следующим легендарным событием. Брат одного кацика Чиа вступил в любовную связь с одною из его жен и, когда это открылось и ему грозила смерть у позорного столба, он бежал ко двору циппа. Здесь он настолько отличился военной храбростью, что циппа, за отсутствием законного наследника, объявил его наследником своего престола. Когда брат Чиа достиг такой власти, последний начал бояться за свою личную безопасность. При посредничестве матери и сестры обоих правителей между ними состоялся договор, согласно которому сын этой сестры должен был прежде всего наследовать кацику Чиа, а за смертью циппа становился также его преемником. И эта форма престолонаследия сохранилась будто бы на все времена. Такой своеобразный обычай, который мы встречаем, впрочем, еще у какчикелей (но с другим основанием) вытекает, по всей вероятности, из стремления сильнее сплотить царства, составленные из множества мелких и мало зависимых государств. Для этой цели уже заранее намечался в наследники престола какой-нибудь могущественный вассал, чаще всего близкий родственник, и, в силу данных ему полномочий, он мог в решительную минуту фактически занять престол. Всякий, кто предназначался для управления большой или малою областью, должен был проходить довольно продолжительный период испытания. Связанные с этим пробы воздержания имеют нечто общее с испытаниями жрецов. При этом и самый контроль поручался жрецам. В заключение, юному правителю надевали ушные и носовые привески, составлявшие знак его сана. Вступление на престол сопровождалось затем необычайно расточительными пиршествами. Власть, которою обладал однажды признанный кацик, была почти неограниченна. Каждый усаке был в своей провинции таким же полновластным правителем, как его верховный властелин в своей центральной резиденции. Правда, усаке обязаны были безусловным повиновением ему, но они были далеко не так бесправны перед верховным правителем, как обыкновенные подданные; наоборот, сан их переходил от дяди к племяннику. И если каждый вновь избираемый правитель нуждался в санкции верховного короля, то право свободного назначения принадлежало последнему лишь при вымирании семьи кацика, в случае измены или возмущения.
Дань, которую обязаны были платить вассальные наместники, была не слишком тяжела и состояла из золота и хлопчато-бумажных покрывал. Строгость применялась лишь к тем, которые не доставляли эту дань. В царстве цаке ценную составную часть дани образовали изумруды. Богатые рудники Муцо находились еще в то время в руках враждебных дикарей и мало эксплуатировались. Названные драгоценные камни составляли также важную статью меновой торговли, которая велась на ряду с военными столкновениями, не только между отдельными государствами чибчасов, но и далеко за пределами их. Несмотря на то, что базарные дни бывали чуть не через день, в различных местах в пределах владений чибчасов устраивались в определенное время ярмарки, на которые стекались из отдаленных областей торговцы с самыми различными произведениями. Повидимому, здесь были даже в ходу меры емкости и длины, а также деньги, состоявшие из тонкого листового золота. Повидимому, практиковалась и срочная уплата по торговым обязательствам. Этим путем в руки чибчасов попадали чрезвычайно красивые и дорогие ценные камни; но, кроме того, они и сами серьезно занимались добыванием таковых. Так, в Сомондоко найдены были следы того, что чибчасы раскапывали жилы горных пород, в которых находились изумруды, и умели раскалывать их острыми инструментами, чтобы добраться до самых драгоценных камней.
Вся роскошь и искусство чибчасов в течение последнего полувека до завоевания сосредоточились при дворах цаке в Тунхе и циппа в Богота. Правда, дворцы этих правителей были построены лишь из дерева и соломы, но даже на испанцев производила впечатление их величественная и целесообразная архитектура. Двойная стена из деревянных столбов образовала галерею вокруг всего дворцового квартала, растянувшегося преимущественно в ширину, и крыша этой галереи состояла из непроницаемой хлопчатобумажной материи. Наружная стена из столбов местами прерывалась мачтами (см. описание обрядов жертвоприношения, стр. 293). Кроме того, она была украшена маленькими кусочками листового золота, которые свободно висели и колыхались при малейшем движении воздуха. Вследствие того они издавали при солнечном свете ослепительный блеск и, взаимно ударяясь, производили металлический звон. Внутренность двора содержалась в тщательной чистоте и заключала ряд покоев, предназначенных для правителя и ближайшей свиты его, а также для хранения его богатых сокровищ. Конечно, и те здания, в которых циппа̀ принимал подданных, поражали своими драгоценными украшениями. Как и в храмах, поддерживающие колонны во дворце циппа̀ покоились на трупах жертв, которые, вероятно, были положены живыми в яму и затем уже раздавлены поставленной колонной. Кровь их, принесенная в жертву богам, должна была предохранять дом от несчастий. Остальной материал его состоял из одного лишь дерева, а крыша из соломы; но внутри этого не было видно. Пол был устлан сплошными чистыми циновками; стены и потолок обиты цветными хлопчато-бумажными материями, богато разукрашенными золотом и драгоценными камнями. Здесь на деревянном, но богато обвешанном золотом троне, восседал правитель, окруженный своими верховными жрецами и сановниками. Никто из подданных не смел приближаться к нему без подарка. Всякий должен был входить с опущенною головою и со взором, поникшим долу. И это положение он должен был сохранять все время, пока находился вблизи правителя, или же отворачиваться от него: никто не считался достойным смотреть ему в глаза. Если кто-нибудь становился лицом к лицу с правителемъ, то это было равносильно смертному приговору. Нога государя никогда не должна была прикасаться к земле. Когда он покидал дворец при религиозных церемониях или по поводу военных действий, кресло его заменялось открытыми носилками, также богато украшенными золотом и драгоценными камнями; их несли на руках четверо мужчин. Правителя всегда сопровождала многочисленная свита. Шествие открывали служители, которые разметали впереди дорогу и расстилали ковры. Затем следовали музыканты и многочисленные телохранители, жрецы и сановники. Толпа, для которой каждый выход короля был празднеством, замыкала шествие.
Возле самого дворца, но все-таки не внутри окружающей его ограды, находились помещения для жен короля. У последнего циппа их было, как говорят, около 200. Но из них только одна имела значение настоящей супруги, и привилегии ее были не малые. Так, между прочим, она имела право предписать своему супругу, в случае ее смерти, определенный период воздержания. Каждый из усаке также имел обыкновенно множество жен, и рассказывают, что они имели право наказывать своих мужей за проступки ударами, так как действующие для всех законы не распространялись на них. Неверность жен влекла за собою чрезвычайно строгое наказание как их самих, так и любовников: по одному подозрению, из-за неосторожного слова оскорбленный муж мог убить жену. Мы уже упоминали (стр. 293), что не сыновья королей, а племянники наследовали королю, и отдельным кацикам, и только личное имущество усопшего переходило к женам и детям. У чибчасов точно также за королем и знатными лицами следовали в могилу некоторые из жен и слуг. Труп подвергался немедленному бальзамированию и связывался в сидячем положении. Затем, в течение многих дней совершались поминовения, которые сопровождались пением и потреблением напитков. После того жрецы тайно переносили труп в скрытое место и здесь хоронили его в глубокой могиле. В самом низу помещалась мумия, в наиболее драгоценных одеждах своих и с богатыми украшениями из золота и драгоценных камней. Выше следовал токий слой земли, на котором клали женщин, избранных в спутницы умершего и доведенных почти до бессознательного состояния, при помощи опьяняющих напитков и вдыханий, наконец, опять слой земли и на нем несколько рабов. Над всем этим часто еще нагромождалась земля в виде кургана. После погребения поминки продолжались еще несколько дней, а иногда повторялись в годовщину смерти. Но вообще интерес вскоре переходил к новому правителю, который подвергался описанным выше испытаниям (стр. 292).

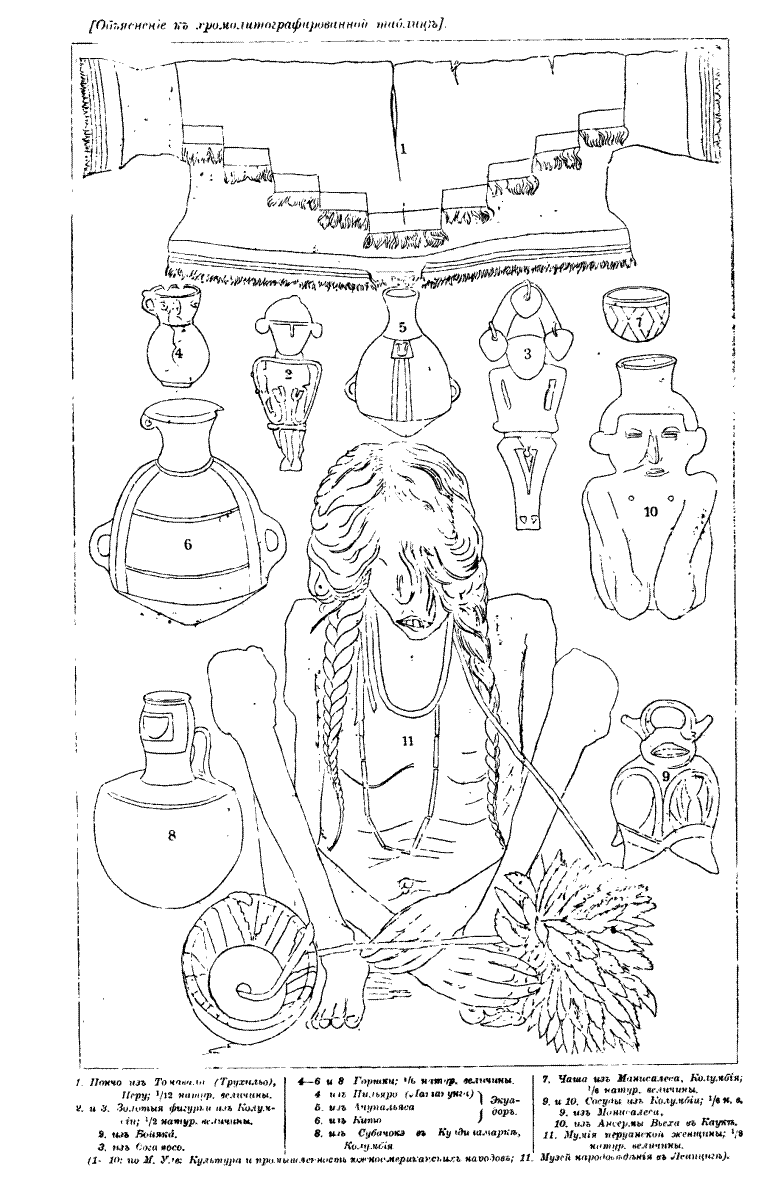
Около 1470 года на троне Богота́ сидел Сагуанмачика, который раньше, согласно порядку престолонаследия, управлял до смерти своего предшественника областью Чиа. Уже в то время царство циппа̀ достигло значительных размеров, но Сагуанмачика своими завоеваниями не мало способствовал тому, что оно заняло первенствующее положение в области чибчасов, какое застали, при своем прибытии, испанцы. Еще предшественники его обратили свое оружие не только против чуждых соседних племен, но покорили и многие из родственных чибчасских народов. Сагуанмачика двинулся против кацика Фузагазуга по ту сторону реки Паски и без труда одержал над ним блестящую победу. Результаты получились, однако, довольно неожиданные. Король Гуатабита, чувствуя себя в опасности, открыл враждебные действия, чтобы предупредить циппа̀. Сагуанмачика дал ему, правда, энергический отпор и, с своей стороны, проник в страну Гуатабита; но ему пришлось остановиться в своем победоносном шествии, когда второй по могуществу из королей чибчасов цаке Мичуа из Гунзы пришел на помощь Гуатабите и угрожал границам Богота̀. Повидимому, однако, никто из этих королей не был достаточно подготовлен к решительной битве. Положение дел еще раз вернулось к прежней точке. Кроме того, хищнические нападения диких соседних племен настолько поглощали внимание циппа̀, что ему приходилось из года в год откладывать поход против цаке с целью возмездия. Но когда Сагуанмачика умиротворил границы своего царства, он снова напал на страну Гуатабита и оттуда угрожал границам Гунзы. Прежде, однако, чем он успел дойти до этой области, Мичуа выступил против него с внушительной военной силой. Война велась с таким ожесточением, что оба предводителя пали. Хотя окончательная победа и досталась воинам Богота, но встревоженные смертью своего короля, они пренебрегли всеми выгодами победы и возвратились на родину.
Здесь на трон циппа̀ вступил Немекене, величайший правитель, какого имела эта страна. Он также был раньше кациком Чиа, и там ему наследовали сын его сестры, Тискезуза. Покоренные недавно Фузагазугою признали этот момент благоприятным, чтобы возвратить себе независимость. Ципакира, немзы и дикие панчи, наследственные враги ее, также напали на страну. Однако, Немекене оказался на высоте своего призвания: при помощи одного войска, он лично разбил внешних врагов, при помощи другого, Тискезуза подавил восстание. После этого он снова приступил к осуществлению завоевательных планов Сагуанмачики. Гуатабита досталась ему скорее путем хитрости, чем при помощи оружия. Из всех золотых дел мастеров в области чибчасов самые искусные находились в Гуатабите. Они лучше других умели отбивать тонкое листовое золото на каменных формах в виде маленьких, характерных для искусства чибчасов, фигурок, которые изображали людей и животных или группы их (см. табл. «Южно-американские древности», рис. 2 и 3), Поэтому каждый король, каждый усаке, каждый кацик желал иметь одного или нескольких таких рабочих из Гуатабиты. Но правитель Гуатабиты хотел извлечь пользу из этого мастерства своих подданных и требовал взамен каждого рабочего, отпускаемого им на чужбину, двух воинов. На этом циппа̀ построил свой план. Однажды ему и его кацикам вдруг понадобилось множество рабочих; взамен их были отправлены ко двору Гуатабиты лучшие воины Богота. Там они не только сговорились между собою, но, путем уговора и подарков, приобрели множество приверженцев среди прочих чужеземцев. Подобными же средствами циппа̀ приобрел в свои руки пограничную крепость Гуаску. И когда он однажды очутился внезапно перед столицею Гуатабиты, то не встретил ни малейшего сопротивления. Король был убит во дворце вместе со своею свитою, а страна его присоединена к царству Богота в виде новой провинции и правителем ее назначен один из братьев Немекене.
Первый, кто восстал против Немекене, был правитель Убаке. Он признал власть циппа лишь после многих месяцев ожесточенной войны и, кроме того, отдал за него двух своих дочерей. По мирному договору область циппа была значительно увеличена, хотя властитель Убаке сохранил власть в качестве вассала. В то время, однако, как Немекене округлял свое царство мелкими завоеваниями, внутри самого царства грозила миру серьезная опасность. Брату короля, назначенному наместником Гуатабиты, удалось занять частью при помощи подкупа, частью силою укрепление, в котором государь Убаке хранил свои богатые сокровища. Но прежде, чем грабитель мог увезти добычу, он был оцеплен людьми Убаке, доведен до голода и пал, наконец, при попытке пробиться силою, успев погрузить сокровище в соседнее озеро. Несмотря на правоту своего дела, Убаке все-таки страшился гнева циппа, который потерял в лице своего брата испытанного наместника. Богатые подарки, которые он послал Немекене, не были приняты, пока он сам не явился ко двору. Когда же он изложил королю правдиво и достойно положение дела, то Немекене отпустил его, признав неправоту своего брата.
Вообще любовь к справедливости была такою же отличительною чертою Немекене, как его военная слава. Все законы, которые найдены были испанцами в действии в области чибчасов, приписываются ему. Правда, число подобных предписаний было невелико и наказания жестоки. Смерть в различных формах назначалась за убийство, дезертирство, противоестественное совокупление, кровосмешение и содомию; трус одевался в женское платье и должен был заниматься женской работой. Простолюдину воспрещалось носить украшения и одежду привилегированных сословий. Одни лишь усакѐ пользовались преимуществом просверливать уши и нос и носить в них украшения. Один только король или тот, кому он это разрешал, как милость, мог быть переносим на носилках. Некоторые гражданские законы свидетельствуют о том, что правовое сознание уже вышло из первобытных грубых рамок: собственность того, кто умирал без наследников, переходила к королю; если женщина умирала во время родов вместе с ребенком, то муж должен был вознаградить семью жены; но вознаграждение не требовалось, как скоро ребенок оставался жив, и в этом случае отец брал на себя содержание его.
В течение всего своего правления Немекене никогда не забывал готовиться к решительной борьбе с цаке. В Тунхе Мичуа наследовал 18-летний Кемуэнчаточа; юность его была, вероятно, причиною того, что не он дал первый сигнал к борьбе. Немекене не мог отказаться от традиционных стремлений своих предшественников к первенству. Поэтому он начал при помощи значительной вооруженной силы подчинять себе вассалов цаке. Самому же цаке он предложил, после первых побед, признать его главенство, если тот не желает рисковать быть изгнанным силою из своего царства. Цаке, однако, не испугался. Он знал, что может расчитывать на поддержку всех, кому, подобно ему, угрожало властолюбие циппа. Вскоре в его распоряжении было огромное войско ирака̀ Согомосо. Борьба была жаркая и долго колебалась. Оба властителя, видные на далеком расстоянии, так как они на своих ослепительных золотых носилках выдавались над головами толпы, поспешно мелькали в группах сражающихся то там, то сям и воспламеняли храбрость своих воинов до высшей степени. Вдруг неприятельская стрела пронзила грудь циппа, который слишком смело выдвинулся вперед. Напрасно умолял он своих воинов быть стойкими: весть быстро распространилась в их рядах, и войска цаке, перейдя с удвоенным энтузиазмом в наступление, одержали полную победу. Войско, потеряв все прежние завоевания и не преследуемое серьезно цаке, возвратилось в Богота̀.
Немекене был доставлен еще живым в свою столицу, но на пятый день умер от ран. Наследник его Тискезуза, прославившийся еще, как наместник в Чиа, тотчас по вступлении на престол возобновил борьбу с цаке. Первый поход подчинил ему ряд усакѐ, которые были до тех пор вассалами короля Тунхи. Но когда он в третий раз собрался решительно померяться силами с противником, до него дошла весть о том, что в область чибчасов проникли чужеземные и сильные враги: в царство его ворвался Кеседа со своими спутниками. Здесь, как и всюду, испанцы при первом натиске легко одерживали блестящую победу, которою они были обязаны своим лошадям, внушавшим страх туземцам. Тискезуза бежал в леса, но был открыт там и убит. Преемник его покорился испанцам. Цаке ожидал испанцев в гордом спокойствии и без намерения сопротивляться. Он не был, поэтому, лишен трона, но вскоре умер естественною смертью. Некоторые из мелких правителей оказывали еще упорное сопротивление. Но после того, как самые крупные государства склонились перед иноземным владычеством, борьба их оказалась безнадежною и вызывала лишь со стороны испанцев жестокости, к которым они часто прибегали в отношении туземцев, не желавших добровольно подчиниться. Непрочно составленное государство чибчасов рушилось со смертью Тискезузы. Народ никогда уже более не находил в себе силы подняться в защиту своей независимости. В течение немногих лет испанцы уничтожили последние следы своеобразной туземной культуры частью путем угнетения туземцев, частью же благодаря существенному материальному прогрессу, который они внесли в страну. Этот прогресс, будучи быстро усвоен чибчасами, вызвал в провинции новую жизнь, но совершенно в ином духе.
b) Сан-Агустин
К югу от области чибчасов, на раcстоянии лишь нескольких миль, на небольшом плоскогорьи правого берега верховьев реки Магдалены находятся остатки совершенно своеобразной древне-американской цивилизации. Ныне эти развалины носят имя Сан-Агустин, принадлежащее бедной деревушке, которая была основана в предпрошлом веке искателями хинного дерева. Но каково было древнее название их и какой народ создал некогда эти замечательные древности, составляет пока загадку. Культура чибчасов никогда не достигала такой степени. Точно также мы не можем приписать эти древности никакому другому из племен, которых застали испанцы. Во время самого завоевания и раньше – правда, предания чибчасов не далеко простираются назад – эта местность была населена дикими ордами пацесов. То были племена людоедов и беспокойных охотников, которые стояли на очень низкой ступени и считались самыми опасными соседями для цивилизации чибчасов. Нужно думать, поэтому, что культурные памятники в Сан-Агустине были уже в то время в развалинах и покоились в густом дремучем первобытном лесу, как и три столетия спустя, пока дровосеки, в поисках за хинными деревьями, не проникли и в эти дебри. В подтверждение своих чудесных рассказов о многочисленных храмах с массою человеческих фигур, они извлекли из лесного мрака эти памятники, до сих пор украшающие базарную площадь Сан-Агустина.
В лесистых холмах верхнего течения ручья, который протекает чрез Сан-Агустин и носит его имя, дровосеки нашли множество маленьких храмов, конструкция которых не имеет себе равной на американской земле. Народ, который построил их, стоял еще на самых первых ступенях строительного искусства. Он не умел обрабатывать и наслаивать в виде стен камни, которые приносили с собою воды и разбрасывали на обитаемом им плоскогорьи и в окружности его. Поэтому храмы строились на половину в земле. Большие каменные плиты ставились одна возле другой, на подобие дольменов, окаймляя четырехугольное пространство, которое, однако, по своим размерам, было лишь настолько велико, что одна огромная плита могла служить ему кровлей. Можно было бы подумать, что эти помещения, похожие на клетки, служили могилами. Но в них не найдено ничего, что̀ говорило бы о могилах. Напротив, весь характер постройки безусловно заставляет принять ее за храм. Повидимому, постройки эти никогда не были замкнуты со всех сторон. Мы находим колонны с отчетливыми скульптурными украшениями, которые образовали вход в храм; на задней стене его всегда находилось большое изображение божества. В настоящее время едва ли найдется среди этих больших храмов хотя один, который сохранился настолько, чтобы можно было составить себе точное представление о нем. Но судя по описаниям и рисункам, оставленным нам первыми пионерами, мы должны заключить, что многочисленные покрытые скульптурою камни, которые ныне разбросаны в лесу и отчасти были перенесены в Сан-Агустин, сосредоточивались некогда в одной области храма, состоявшей из многих небольших священных келий. Судя по значительному числу памятников, здесь нужно предположить густо населенный центр.
По своему характеру, памятники Сан-Агустина распадаются на три класса: на столбы или подпорки, образовавшие вход в храм, алтарные плиты с изображениями богов, напоминающими людей, и на памятники различных других форм, которым нельзя указать определенного места в храмах.
В подпорках храмов искусство неизвестного народа высказывается в своем высшем развитии. Если архитектура этого народа развита слабо, то произведения его пластики достигают такого совершенства, которое предполагает длинный предшествующий ход развития. В противоположность изображениям богов, в которых символика препятствовала отрешению от архаических форм, мы видим в подпорках реалистическое индивидуализирование, которое подчас граничит с портретным сходством. Правда, художник обращает внимание лишь на лицо и его выражение, тогда как остальные формы тела редко бывают разработаны, и, встречаются, большею частью, лишь на столбах или плитах и почти никогда не отличаются соблюдением надлежащих пропорций. Обутые ноги и босые стопы всегда очень укорочены и часто более или менее сливаются с цоколем. Изображение тела заставляет угадывать различного рода одежду, то род талара, то скорее один лишь передник. Но верхняя часть тела представлена всегда как бы покрытою одеждою с рукавами, которые заканчиваются у кисти. На скульптурных изваяниях Сан-Агустина волоса на голове никогда не бывают непокрыты, что́ вообще свойственно южно-американским культурным народам. Все встречающиеся формы головных уборов, от угловатого шлема и до искусно завязанного платка, известны нам по золотым изделиям чибчасов и глиняным сосудам перуанцев.
Головы, которые так естественны, что дают возможность представить себе черты лица неизвестного народа, отличаются высоким носом с широкими крыльями, сильно развитыми скуловыми костями и резко выдающимися губами, производящими впечатление чувственности. Под бровями, часто стилизированными, обыкновенно находятся болыше глаза, миндалевидной формы, с резко оттененным зрачком. На столбах, особенно красивых, мы видим над головным убором еще символическое изображение животного с широкой, сравнительно плоской головою, толстым телом и длинным кольчатым хвостом. Оно напоминает скорее всего хамелеона или укороченную ящерицу. Но в виду многих сходных черт с памятниками третьего разряда, которые принимались иногда за обезьян, а вернее изображали пуму, американского льва, мы и здесь должны предположить нечто подобное. Наконец, эти «стражи святыни» держат в руках тяжеловесные палицы. Фигуры богов, если они вообще вооружены, также ограничиваются палицей или посохом.
В изображениях богов реализм выдержан несравненно слабее. Здесь преобладает символика, где живые формы часто переходят в орнаментальные украшения. Лишь изредка нос и глаза похожи на живые; иногда формы лица только намечены в виде трех узких прямоугольников (как мы это нередко встречаем в золотых изделиях чибчасов). Самую характерную черту в изображении богов состаляет рот. Часто он также изображается прямоугольным, но почти всегда в нем можно видеть двойной ряд крепких зубов, среди которых сильно выдаются четыре глазных зуба, которые заходят друг за друга. Эта оригинальная челюсть с зубами, повторяющаяся почти на всех изображениях, является одним из важнейших ключей к разрешению загадки происхождения этих памятников: мы встречаемся с нею в целом ряде глиняных лицевых ваз перуанского происхождения, которые были найдены в береговых долинах от Чиму до Санты. Если продолжать доискиваться идеи, которая могла лежать в основании подобного изображения лица, то, при помощи глиняной фигуры из Тиауанако, мы придем к выводу, что здесь имелась в виду челюсть пумы. Таким образом, мы имеем здесь дело с божеством, которому приданы аттрибуты кровожадного хищника. С этим прекрасно гармонирует факт, что иногда даже изображение богов в Сан-Агустине держит в своих руках, в уменьшенных формах, человеческие жертвы; это, конечно, не доказывает, что речь идет непременно о детях, предназначенных для жертвы.
Эти результаты важны и для понимания памятников третьего рода. Здесь мы видим, напр., животное с длинным кольчатым хвостом, которое держит в своих передних конечностях маленькую человеческую жертву. В этом хотели видеть обезьяну в момент совокупления. И так как открыто, по крайней мере, два фаллических изображения из страны этого неизвестного культурного народа, то полагали, что речь идет об изображении производительной силы. По всей вероятности, однако, и в этом случае изображено лишь божество, воплощенное в священном животном, пуме, которое поедает принесенную ему жертву. Из других изображаемых животных найдена один раз рыба в руках фигуры божества, в другом случае змея, в третьем прекрасно изображенная сова, которая пожирает змею. В развалинах Сан-Агустина число камней, покрытых скульптурными изображениями, значительно, но в единичных экземплярах они попадаются и в других местах между рекою Магдаленою и Попайяном, а равно в окрестностях этого города. В Кито подобные каменные изваяния неизвестны, но поклонение кровожадному богу Супай и все, что предание рассказывает о храмах в честь его, до того согласуется с находками в развалинах Сан-Агустина, что уже давно предполагали сношения между этими народностями. Точки соприкосновения встречаются, однако, еще на большом протяжении к югу. Так, в среднем Перу, там, где, Мараньон и Санта текут некоторое время к северу в двух параллельных долинах и, наконец, пробиваются сквозь Кордильеры, одна на восток, другая на запад, мы познакомимся с культурною областью (ср. ниже, стр. 313), памятники которой во многом напоминают памятники Сан-Агустина. Отсюда получается общий вывод: в древние времена возвышенные долины от 10-го градуса южной широты и на несколько градусов к северу от экватора были населены одним и тем же народом с своеобразной культурою. В обитателях долины Санты, в населении Кито и верхнего течения реки Магдалены мы должны признать рассеянные остатки этого народа.
С. Культурная провинция западного побережья Южной Америки
Сан-Агустин отделяется лишь горным узлом, который замыкает верхние долины рек Магдалены и Кауки, от самой северной провинции, принадлежавшей в эпоху испанского завоевания царству инков. Оно тянулось почти непрерывно, на пространстве свыше тридцати градусов широты, простираясь почти всюду от берегов Тихого океана до восточных склонов Кордильер, откуда бесчисленные потоки устремляются в великую южно-американскую низменность. Здесь испанцы во второй раз встретили в своей новой стране благоустроенное и богатое культурное государство.
Относительно царства инков Тауантинсуйю точно также господствовали до новейшего времени ошибочные представления и также, как в Средней Америке, по вине хроникеров. Роль, которую играли в Мексике Дон-Фернандо де-Альба Иштлилшочитль, внесший вместе с толтеками неисторический фактор в древнюю историю страны (сравн. выше, стр. 228), принадлежит в южно-американской культурной провинции (группа различных штатов, которые к концу XV века слились в великое царство инков) Гарсиласо де-ла Вега. Обыкновенно его называют Эль Инка, для отличия от одноименных писателей и в память происхождения его от королевского рода Куско. Он написал в конце XVI века историю Перу, которая, в виду отношений автора к туземцам, несправедливо пользовалась безусловным доверием. Из-за нее до новейшего времени относились с пренебрежением к рассказам других, более беспристрастных хроникеров. Книга Гарсиласо есть не более, как восторженный панегирик древним туземным правителям, который слишком ярко оттеняет все, заслуживающее похвалы, но в то же время умышленно не видит теневых сторон, или даже прямо отрицает их. Все завоевания, составляющие, вероятно, плод тысячелетнего развития, он приписывает одним инкам, хотя господство их обнимает лишь несколько веков и государство их, во всяком случае, было самым юным среди различных культурных государств южной Америки.
В обширной области стран, которые впоследствии вошли в состав царства инков, существовал с древнейших времен ряд культурных центров. Между ними много общих черт, которые заставляют смотреть на них, как на части одной культурной провинции. Кроется ли причина этого в том, что инки достигли известной высоты культуры еще до распадения их на множество племен и народностей, – это также трудно решить, как и относительно северной культурной области. В истории развития человека сходные условия всегда создают одни и те же явления. Поэтому было бы слишком поспешно приписывать сходные и родственные черты некогда существовавшей связи, а не простому влиянию соседей, живущих при аналогичных условиях. Если такая связь когда-либо существовала, то, во всяком случае, это было очень давно, до основания царства Перу, которое относят ко времени Рождества Христова. Это предание возникло под влиянием стремления, заметного и у мексиканских хроникеров, отыскивать синхронически соотношения между их историей и историей Старого Света. Различные культурные центры в области царства инков соответствуют прежде всего территории, по меньшей мере, трех племен, ясно различающихся между собою в лингвистическом отношении. Каждое из них, под влиянием географического положения, развивалось столь самобытно, что отличительные признаки, по крайней мере, уравновешивают сходные черты. Возможно, что между отдельными группами их связь была еще более тесною. Так, государства Кито, Чан-чан и южные береговые провинции стояли, повидимому, ближе друг к другу, чем к перуанцам возвышенности, кечуасам и аймарам. Едва ли можно сомневаться, что именно последние являются родоначальниками культуры, которую инки сделали впоследствии общим достоянием своих подданных.
Аймарам грозила в новейшее время опасность сыграть такую же роль в Южной Америке, какая была навязана толтекам в центральной Америке (см. выше, стр. 268). Сочинили несуществовавшую первобытную родину их на самой северной границе культурной провинции и приписали влиянию их переселений все следы высшей культуры, которые были открыты от Колумбии вниз до Чили и через восточные Кордильеры в Аргентинской провинции Катамарке. Но, с другой стороны, можно считать доказанным, что остатки своеобразной культуры, стоящей, по меньшей мере, также высоко, которые группируются на юго-востоке от Тауантинсуйю, вокруг озера Титикаки, принадлежат аймарам (см. ниже стр. 314). Быть может, влиянию этой первобытной образованности должно приписать следующее обстоятельство: на границах Гран-Чако, и теперь еще почти недоступного белому человеку, в области, которая с незапамятных времен была населена бродячими племенами индейцев, раскопки обнаружили весьма тонкую и художественную глиняную посуду, отличающуюся не только пестрыми орнаментами, но и пластическими украшениями, какие крайне редко встречаются за пределами древних культурных народов. Тем не менее, эти особенности культуры аймаров так определенны и так глубоко коренятся в географических условиях их родины, что не дают нам права искать исключительно в этом народе общее происхождение всей культуры. Скорее мы должны рассматривать культуру аймаров, так же, как и китусов и юнгов, только как один из факторов, из которых слагается совокупная картина южноамериканской культуры.
Самое северное из государств, которые ко времени испанского завоевания слились с царством инков, но имели за собою длинный период самостоятельного развития, есть Кито. Обитатели его называли себя карасами. Но они не утверждали, что именно в этой области находилась их первоначальная родина. Около IX или X века по Р. X. они будто бы насильственно вторглись в область, которую занимали в XVI веке, и там основали новое государство. О своей настоящей, первобытной родине они сами не имели ясного представления. Они двигались будто бы на плотах с юга вдоль берега Тихого океана. Затем в провинции Манта они высадились на берег и здесь продолжали идти вдоль мало заманчивого побережья, пока, наконец, течение Эсмеральды не открыло им пути в более богатые и здоровые долины гор. Жившее здесь довольно плотное, но грубое население не могло долго сопротивляться их более усовершенствованному военному искусству. Около 1000 года владычество этого племени было закреплено королем по имени Киту. Он организовал страну и дал ей монархическое, ограниченное олигархией правление, какое мы почти всюду встречаем у первобытных обитателей Америки. Он ввел поклонение солнцу и луне у всех народов, которых подчинил своему скипетру, и сделался основателем династии, правившей царством Кито в течение нескольких столетий. Преемники его расширили границы царства сперва к северу. В борьбе с первобытными народностями предел завоеваниям был положен лишь дальним расстоянием от центра и трудностью сообщений.
Иначе было на юге. Короли Кито, впоследствии называвшиеся сцирисами, обращали свое оружие и в эту сторону; но там они очень скоро встретили в хорошо организованном государстве пуруасов препятствие, которого не в состоянии были преодолеть. Померявшись несколько раз силами без всякого результата, оба государя заключили между собою союз, который должен был предотвратить на будущие времена всякие неприязненные отношения. Одиннадцать раз сменялся в это время на троне Кито отец сыном или, за отсутствием прямых наследников, по законам страны, дядя племянником. Но судьбе угодно было, чтобы у одного из сцирисов не было ни сына, ни племянника, способного заместить его; он имел лишь дочь. В этом случае подвластным князьям и кацикам предоставлялось право избрания нового сцириса. Королю удалось, однако, склонить их к изменению существующего порядка престолонаследия. И он заключил с королем пуруасов договор, в силу которого сын последнего вместе с рукою принцессы наследовал и трон Кито, и оба царства сливались в одно. Город Кито оставался по-прежнему столицею этого соединенного государства, тем более, что на юге страны поднимались грозные тучи перуанского нашествия.
Кито представляло не только обширную и богатую, но вместе с тем благоустроенную и цивилизованную страну. Оно могло, поэтому, служить приманкой для завоевательных стремлений чужеземного правителя. Если карасы не умели строить искусственных дорог и мостов, подобно перуанцам, то в общем они все-таки не были плохими строителями. Сады и дворцы, которые устроил король в Лирибамбе среди группы небольших озер, соединенных между собою каналами, не только образовали резиденцию, достойную могущественного короля, но и представляли крепость, в которой могли поместиться тысячи воинов и оказать противнику серьезное сопротивление. Воины карасов и пуруасов были вооружены, правда, одним лишь копьем и пращею, но ими они владели с поразительною верностью, что к невыгоде для себя испытали воины инков. При последних сцирисах воинственный пыл несколько ослабел; мир в течение многих поколений поднял благосостояние страны, увеличил ее богатство, но не способствовал поддержанию грубых военных доблестей. И когда инка Тупак Юпанки обратил свое оружие против Кито, он не встретил уже энергического сопротивления. Пограничные провинции, находившиеся лишь в слабой связи с государством, отошли, в силу одного мирного договора, большею частью, к инке, грозно надвигавшемуся во главе своих испытанных в бою войск. Правда, вступив на землю царства пуруасов, Тупак Юпанки должен был кровью искупать каждый шаг в стране; но когда полководец сцириса, надеясь на численный перевес своего войска, дерзнул на открытый бой, он потерпел такое решительное поражение, что инка почти без всякого дальнейшего боя овладел всем царством пуруасов. Он не проник, однако, до самого Кито. Оставив гарнизоны в завоеванных частях страны, он возвратился около 1460 года в Куско и сосредоточил свое внимание на других областях государства.
Через несколько лет после этих событий сцирис умер. Он состарился в мирной обстановке жизни и, когда нападение Тупака Юпанки возложило на него совершенно иные обязанности, он не был уже способен оказать надлежащее сопротивление. Но в сыне его, под влиянием многолетних битв, снова пробудились доблести, которыми отличались его предки. Едва успев вступить на трон своих отцов, он уже начал войну против вторгнувшихся врагов. Хотя ему и не удалось восстановить границы своих владений в прежних размерах, но все-таки он быстрым натиском отбросил перуанских инков, по крайней мере, из той области, которая некогда составляла царство его отцов. Прошло много лет прежде, чем инки в состоянии были снова обратить свое оружие против севера; только в 1475 году на границах Кито появился Гуайна Капак, но он нашел их лучше защищенными, чем в свое время Тупак Юпанки. Пуруасы в большом числе заняли берег Ачупаллы. Безусловно верные удары их пращей нанесли противникам чрезвычайно чувствительные потери и совершенно парализовали превосходство их тактики и вооружения. Но инка добился путем измены того, чего не мог достигнуть силою оружия. Мирные переспективы и на этот раз произвели впечатление на подчиненных гордого сцириса, а превосходство армии инки вызвало колебания у некоторых кациков. При помощи подобных изменников, инка открыл незащищенный переход через Ачупаллу. Пуруасы были обойдены и вынуждены оставить свою укрепленную позицию и отступить. Они еще раз отважились на открытый бой с перуанцами, но потерпели решительное поражение, после которого собственные подданные стали на всех пунктах отпадать от них. Сцирис потерял почти всю страну вместе с главным городом Кито и своей резиденцией в садах Лирибамбы. Он бежал в Гатун Таки в стране отабалов. Отвергнув безусловно, как и раньше, возобновленные мирные предложения инков, он погиб в борьбе из-за последних остатков своего царства. Гуайна Капак считали дело завоевания оконченным. Но тотчас после смерти сцириса снова образовалась партия сопротивления, которая сгруппировалась вокруг Пакчи, дочери и наследницы короля. Правда, она не выступила против инки с открытою силою, но дала ему понять, что с этой стороны будут постоянно грозить новые опасности. Чтобы устранить их, не прибегая к кровопролитию, он позволил себе отчасти нарушить законы своей страны и принял королевскую дочь в число своих законных супруг. И подобно тому, как некогда Кито и Пуруа слились этим путем в одно государство, так и теперь он достиг фактического слияния Кито с его царством, и история их отныне сделалась неразрывною.
Если верить сказанию, что карасы Кито были действительно оттеснены другим народом на берегах Тихого океана к северу, то это могла быть только нация мучиков, которых перуанские инки называли юнгами, а испанцы чимусами. Они долгое время владели всем побережьем от Гуаякильского залива почти до нынешнего Кальяо. Хотя далее к югу к владениям чимусов примыкали народности, говорившие на другом языке и имевшие другой политический центр, но они, во-первых, были так сходны в культурном отношении с северными соседями, что инки называли все береговые народы общим именем юнгов; во-вторых, между северными и южными береговыми обитателями, существовала такая тесная политическая связь, что невозможно разграничить их, особенно в виду скудости исторического материала.
Самый факт развития обширной государственной организации на перуанском побережье свидетельствует о том, что здесь жил народ, сделавший значительные успехи в борьбе с силами природы. Страна, которую занимало царство чимусов, далеко не благоприятствовала образованию плотного населения. Почва этой узкой полосы, которая тянется между подошвою Кордильер и морским берегом, не может быть названа совершенно бесплодною; однако, недостаток осадков и всемогущество тропического солнца превратили ее почти в пустыню. И только местами, где быстрые горные потоки приносят на столько влаги, что делают возможным развитие и поддержание растительной жизни, могли возникнуть кое-какие оазисы. Но и эти реки с их неукротимой стремительностью опасны для человека. В периоды сухости почва жадно впитывает влагу настолько, что часто ни одна капля не доходит до моря. Но когда в предгорьях Кордильер разыграется буря с яростью, свойственною тропикам, то достаточно нескольких часов, чтобы река далеко выступила из своих берегов. При этом она с несокрушимою силою низвергает все, что встречается на пути ее бешеного течения. Нужно было много времени для того, чтобы человек решился приютиться на клочке земли, где его ждет столько опасностей. Он сумел, однако, преодолеть все трудности и вырвать у природы средства к пропитанию населения, которое своей численностью значительно превосходило настоящее; это доказывают распространенные древние города, сохранившиеся в выходах почти всех долин, простирающихся от гор до моря.
Первое условие для образования прочных поселений в этой стране составляла победа над водою. Если народ, поселившийся там, не принес с собою знаний, касающихся искусственного распределения вод, из прежних местопребываний своих (это искусство издревле применялось и в горных частях Перу), то здесь он, во всяком случае, блестяще применил их. Реки у самого выхода их из гор делились или пересекались при помощи больших каналов и в дальнейшем течении как самые реки, так и каналы раздроблялись в бесконечную сеть все меньших и меньших рукавов. Этим достигалась двоякая цель. Во-первых, устранялась самая крупная опасность: вследствие бесконечного дробления делались невозможными бурные наводнения и чрезмерная масса воды превращалась в обильный источник благосостояния. Во-вторых, получалась обширная поверхность орошаемой почвы, которую можно было употреблять для посева маиса, бататов, юкки и хлопка. Дальнейшим доказательством интенсивной обработки земли, существовавшей у народов побережья, служит знакомство их с оплодотворяющим действием гуано. Перуанские инки, применявшие гуано, как удобрительное средство, могли научиться употреблению его только от береговых племен, в области которых они нашли почти неисчерпаемые отложения этого ценного материала и которые одни были настолько знакомы с мореходством, что могли доставлять его с островов. В древнейшую эпоху были, без сомнения, заселены лишь немногие из перуанских береговых долин. И так как обширные песчаные пустыни между узкими полосами растительности устьев рек делали почти невозможным сухопутные сообщения, то нужно думать, что отдельные поселения долгое время вели вполне изолированное существование. Но чем более расла численность населения в подобном оазисе, тем больше увеличивалась потребность в новых землях для обработки. Климатические различия и враждебные отношения между племенами гор и побережья служили препятствием к расширению границ вверх по течению рек. Поэтому юнги старались отыскивать новые земли, годные для возделывания, вдоль морского побережья и постепенно захватили выходы почти всех долин, спускающихся с Кордильер.
Предание говорит, что расширение шло в направлении с севера к югу. Этому противоречат, однако, археологические данные. Уже у карасов Кито мы встречаем предание о движении переселений с юга. Родство их культуры и даже культуры Сан-Агустина с культурою среднего Перу едва ли можно было бы объяснить, если бы исходный центр движения находился вблизи Гуаякильского залива. Кроме того, владения чимусов простирались к югу не дальше широты Лимы. Спрашивается, каким образом в более южных полосах мог возникнуть оазис, сходный с их культурою до мельчайших подробностей? Поэтому скорее есть основание думать, что заселение побережья шло с юга и что народы севера постепенно один за другим втягивались в сферу этой культурной области, или что южная культура оттесняла их от побережья все дальше к северу и в горы. Так, очень рано возникла полоса однородной культуры, которая охватила все побережье от Рио Мауле до Гуаякильского залива и еще несколько горных племен на северо-востоке. Эта культура состарилась и одряхлела задолго до того, как инки приобрели значение в горных странах. Некоторые государства и племена выделились из общего союза; политического единства, вероятно, никогда не существовало. Под влиянием местных особенностей развития исчезло также единство религии и языка. С течением времени вблизи северной границы, в долине чимусов, образовался новый центр власти, из которого ряд энергичных королей начал распространять свое владычество в обратном направлении, т. е. к югу, и сплотил вновь в одну политическую единицу народности, некогда находившаяся в близком родстве между собою. Пока шло такое сплочение на побережье, инки начали аналогичное завоевательное движение в горные страны. Воспоминание об этом движении, которое еще было свежо в эпоху испанского завоевания, породило ошибочное мнение, будто культивирование побережья подвигалось в том же направлении. В XVI веке помнили еще очень хорошо, как короли чимусов, двигаясь к югу, подчинили себе ряд других более мелких государств. Долины Виру̀, Санты, Непеньи, Гуармея, Супе и Гуачо, в отдельности или группами, давно уже пользовались сравнительно цветущим состоянием культуры прежде, чем были поглощены царством чимусов. Южнее лежало еще несколько мелких государств: жреческое государство Пачакамак, затем государства, платившие дань Куисманку и группы государств, которыми правил Чупиманку. Одни из них вынуждены были с оружием в руках сопротивляться завоевательным планам чимусов, а другие, как, напр., Пачакамак, обязаны были сохранением независимости своим святилищам и храмам, куда стекались для поклонения массы из разных стран. Во всяком случае, многочисленные и тщательно исследованные остатки этих древних культур свидетельствуют о том, что к северу и к югу от царства чимусов существовала однородная, высоко развитая культура.
Береговая область была еще чрезвычайно плотно населена до и в эпоху инков. Чанчан, главный город царства чимусов, вблизи нынешнего Трухильо, представляет далеко не единственный город, обнимающий площадь более, чем в 100 гектаров. Такие же величественные развалины встречаются в Пачакамаке, в Гуадке; а кладбище в Анконе, вблизи Лимы, это неисчерпаемое место находок перуанских древностей, также доказывает, что страна имела в течение долгого времени густое население. Все эти остатки городов поразительно похожи друг на друга: почти все постройки, на обширном пространстве развалин, прямоугольны и соприкасаются друг с другом под прямыми углами. Побережье не имело ни дерева, ни камня в достаточном количестве, чтобы можно было пользоваться ими, как строительным материалом; поэтому береговые жители строили частью из мелкого кирпича и, главным образом, из битой глины. Вследствие того приходилось возводить довольно толстые стены; но толщина кверху уменьшалась, и пространство помещений было вверху шире, чем на земле. Впрочем, это касается лишь храмов и дворцов, единственных построек, стены которых представляют следы декоративного украшения в форме лепных орнаментов. О кровле трудно составить себе ясное представление. Немногие сохранившиеся крыши также состоят из битой глины; но немыслимо, чтобы таким образом покрывались огромные залы, встречающиеся между развалинами: это было бы слишком непрочно. Окна были совершенно неизвестны, и помещения, которые, большею частью, группируются вокруг двора, получали воздух и свет через дверь, часто занимавшую всю переднюю сторону. Но самые главные развалины не принадлежат к жилым помещениям. Последние строились из глины, вероятно, только для привилегированных каст; жилища простой массы, за недостатком даже дерева, по всей вероятности, состояли из камыша и тростника. Остатки обширных стен, которые и теперь еще дают нам понятие об окружности древних городов, принадлежат толстым наружным валам и в некоторых городах тянутся двойными рядами с расположенными по углам воротами. Кроме того, множество более тонких стен разграничивают город на округа, как бы на отдельные большие дворы; полагают, что каждый такой округ был отведен одному клану или одной административной общине.
Дворцы, а также храмы возвышались, повидимому, большею частью, на окраине города. В храмах мы нередко снова встречаемся со ступенеобразными террасами, стены которых были построены из кирпича, а средина заполнена насыпью. Некоторые храмовые пирамиды служили вместе с тем гробницами, но, без сомнения, только для королей и верховных жрецов. В различных местах, особенно к югу от царства чимусов, встречаются обширные кладбища, вроде Анконского. Здесь мы находим мумии, погребенные в сидячем положении то по одиночке, то группами, в закрытых могильных камерах, в огромных глиняных сосудах или без всякого прикрытия. Нередко могилы располагаются несколькими ярусами, но всегда вместе с погребенными положены всевозможные украшения и предметы утвари, которыми они пользовались при жизни. Простой человек, вероятно, не всегда в состоянии был покрыть расходы даже на такую могилу и поэтому хоронил своих усопших под полом своего жилья. Этим объясняется, почему почва городов часто усеяна, как улей, подобными могильными клетями.
Само собою разумеется, что народ, оказывавший такое почтение умершим, должен был верить в загробную жизнь, приближающуюся по форме к земной жизни; но более точных сведений о религиозных воззрениях их мы не имеем. Почему обитатели перуанского побережья, перед глазами которых так наглядно обнаруживалось изнуряющее действие солнечных лучей, не сделали культ солнца средоточием своей религии, нам легко понять. Столь же понятно, что они прежде всего стали поклоняться воде, от благодетельного влияния которой гораздо непосредственнее зависела их жизнь. Правда, главное божество чимусов составляла луна и рядом с нею они поклонялись Плеядам и трем звездам, образующим пояс Ориона. Но вместе с тем они считали божеством и море, которое своими рыбами содействует питанию человека, является посредником в сношениях одного народа с другим и своим прохлаждающим дуновением смягчает беспощадный зной солнца. Аналогичный культ самого моря или воды вообще распространен на всем побережье. Рыбы, как создания воды, также являются частицею этого культа. Бог Пачакамака, главной святыни всей побережной области, изображался с рыбьим хвостом.
В Пачакамаке соединяются религиозные представления, которые исходят из различных оснований. Мы познакомимся впоследствии на Перуанском плоскогорье с широко распространенным поклонением божеству, которое имеет некоторые сходные черты с Кецалкоатлем-Кукулканом средней Америки. Первоначально это был, вероятно, бог солнца, но впоследствии он настолько антропоморфизировался, что народ представлял себе его не иначе, как в образе человека законодателем и носителем культуры. Он находился как бы в противоречии с солнечным культом инков. Таким же божеством был первоначально Пачакамак береговых народов: будучи сыном Кона, он мифологически сливается с богом гор и олицетворяет причину всего существующего, быть может, даже самое понятие о божественном, так что все прочие боги суть лишь проявления его. На побережье все элементы священной воды приводились в связь с ним, когда он, напр., расстилая свою мантию в виде лодки над волнами, исчезает над морем или когда он в шуме потока, под именем Римака (бушующего), прорицает в качестве оракула. Поэтому его изображали с рыбьим хвостом и поклонялись рыбе, символу его, как фетишу.
Наконец, чимусам приписываются еще фаллические культы; это, повидимому, подтверждают глиняныя фигуры, сохранившиеся в береговых провинциях. Нет ничего странного в этом: побережные народы представляли вместе с тем дряхлеющие культурные нации, у которых почти всегда возникают подобные представления. Они не только разбогатели, но изнежились среди этой роскошной жизни, и культура их, во многих отношениях превосходившая культуру горцев, рушилась, тем не менее, от натиска последних.
Первые туземцы в Перу, с которыми встретились испанцы, были индейцы Чиму. На своих судах, похожих на плоты, они отважились уходить довольно далеко от берега в открытое море. Безлюдные пустыни, отделявшие долины побережья друг от друга, делали невозможным интенсивные сухопутные сношения между городами, чего можно было бы ожидать в виду их громадности и богатства. Согласно сказанию о переселении, даже первые обитатели почти всех побережных стран пришли сюда морским путем. Завоевательные походы чимусов, которые не знали даже ламы, живущей в горах, возможны были только этим путем. Но им недоставало дерева не только для постройки домов, но и судов; челноки, распространенные по всей Америке, не были известны на Перуанском берегу. Чимусы и юнги пользовались родом плота, который держался на крепких связках камыша; воздух, заключенный в стеблях последнего, придавал ему значительную устойчивость. «Тихий» океан вполне оправдывает свое название на перуанском побережье, и при помощи этих первобытных средств можно было поддерживать оживленное и довольно безопасное сообщение. Совершенно аналогичные средства для плавания, которыми пользовались обитатели озера Титикаки, вероятно, первоначально были построены колонистами побережья и занесены туда после завоевания инками, так как природа давала там мощные стволы, которые представляли несравненно более пригодный материал для судостроения. Этим материалом, повидимому, пользовались еще носители древнейшей культуры, строители Тиауанако.
Береговые племена в различное время подпали под власть инков. Более южные долины подчинили еще Пачакутек, не встретив при этом упорного сопротивления. Точно также Куисманку и Чупиманку по первому требованию присоединились к перуанским инкам, надеясь при помощи их ускользнуть от ига, которым грозили им короли чимусов. Жреческое государство Пачакамак также перешло без серьезного кровопролития к инкам, которые уже тогда научились облегчать другим народам присоединение к своему царству путем религиозной терпимости. Рядом с храмом Пачакамака они выстроили новый и более роскошный храм солнцу, но вместе с тем оказали почтение и богу побежденных, за что жрецы отблагодарили их благоприятными предсказаниями. Уже с этого момента начинаются столкновения между инками и чимусами. Но дело приняло решительный оборот, когда, после долгих кровавых столкновений, инка Тупак Юпанки, после первого похода против китусов, двинулся с гор в центр царства чимусов, город Чанчан в долине Отуско. И на этот раз правитель названного царства оказал отчаянное сопротивление. Но сатрапы его отпадали один за другим и этим покупали милость инки. Когда же этот последний стал грозить, что отрежет воду от побережья, то дальнейшее сопротивление сделалось бесцельным, и правитель отдал себя и царство свое победителям в лагере у Кахамарки.
Еще до эпохи инков на перуанской возвышенности существовало, по крайней мере, два центра сравнительно высоко развитой культуры. В среднем Перу, там, где река Санта течет на большом протяжении к северу параллельно с Мараньоном, между Черными и Белыми Кордильерами, задолго до того, как она перерезывает первые и поворачивает к Тихому океану, жил сильный, воинственный народ, посвященный вместе с тем в искусства мирного времени и основавший большое царство. Историческое предание ничего о нем не рассказывает, так как упомянутый выше Куисманку из Кончукоса есть, быть может, только результат недоразумения. Правда, Кончукос, расположенный у небольшого притока Мараньона, принадлежит к сфере этой культуры, и неподалеку от него открытые развалины Сипа с их каменными гробницами, высеченными из больших глыб в форме кубов, являются одним из интереснейших мест находок, дающих нам представление о культурном развитии этих племен. Но царство Куисманку, которое инка Тупак Юпанки без боя покорил во время своего похода против чимусов, помещается большинством хроникеров ниже вдоль побережья. Далее, центр тяжести государства, часть которого составлял Кончукос, находился не у Мараньона, а в долине Санты. В самой верхней части этой долины лежали главные города страны, несмотря на то, что эта часть граничила с холодными, бесплодными степными возвышенностями (перуанцы называют их пунами). Здесь, идя навстречу реке в местностях Гуарасе, Чавин-де-Гуантаре и, наконец, почти на водоразделе от реки Паско, в Гуануко, мы встречаем следы древних городов, укреплений и храмов. Они очень сходны между собою и с остатками в соответственных широтах долины Мараньона, но заметно отличаются от соседних областей.
Народ в долине Санты достиг значительного совершенства в строительном искусстве, что, без сомнения, отчасти является следствием географических условий. В горах они находили превосходный строительный материал, гранит и песчаник, и когда во время таяния снегов горные реки превращались в бурные потоки, стремительно низвергавшиеся в глубокие долины, то они приносили эти валуны и плиты почти к самым воротам городов. Строительное искусство давно уже не ограничивалось простым утилизированием естественных условий. Строители умели тщательно обрабатывать материал и вмазывали глыбы в цемент, который держался веками. Громадные плиты, из которых состояли отчасти стены их храмов, могли быть поставлены на место только при условии большого опыта в деле передвижения масс. Самым большим из городов является Гуануко. Но так как здесь жили еще перуанские инки, то невозможно разграничить, как в других местах, что принадлежит им и что древней культуре. Наоборот, Чавин-деГуантар, с его знаменитым храмом, был разрушен еще инками и с тех пор покинут. Храм, как говорят, имел не менее пяти этажей, ходов и келий, которые так тесно примыкали к стене долины, что их часто принимали за подземные. Характерно, что священные помещения его расположены все в ночном мраке, и в эти кельи никогда не проникал ни единый луч дневного света. В кельях мы снова встречаемся с изображениями богов, у которых два ряда оскаленных зубов ограничиваются справа и слева сильно выдающимися клыками. Мы уже знаем из Сан-Агустина (ср. выше, стр. 303), что эти зубы составляют подражание льву-пуме. Такое предположение подтверждается тем, что пума чрезвычайно часто повторяется в каменных изваяниях Чавина, Гуараса и Гуанако и неоднократно играет роль при образовании обозначений мест (Пумакайян, Пумаканча). Кроме того, изваяния в долине Санты еще тем напоминают Сан-Агустинские, что пропорции человеческого тела укорочены и голова стилизирована в виде орнамента. О случайных совпадениях здесь не может быть и речи.
Короли этого царства расширили границы своей области в направлении к морскому берегу. Там, где Санта пробивается сквозь Кордильеры, и недалеко от выхода ее в береговую равнину, находятся остатки храмов и укреплений, которые, подобно сооружениям верхней долины, построены из гранитных глыб; то же относится к долинам Касмы и Непеньи. Преобладание укрепленных мест заставляет думать, что между правителями горной страны и королями чимусов, в руках которых находилось побережье, происходили постоянные войны. По всей вероятности, однако, насильственное разрушение, несомненные следы которого представляют развалины храмов Мохеке в долине Касмы и Чавина в долине Санты, должно быть приписано не чимусам, а инкам; последние после завоевания старались уничтожить прежде всего очаги мрачного культа народов долины Санты и вместо него ввести поклонение своему богу солнца.
Лучше изследована вторая до-инкская культурная нагорная область; и предание здесь не совсем немо. Ареною ее служил южный и западный берег озера Титикаки, и одним из самых величественных остатков этой культуры являются развалины Тиауанако. Загадки, с которыми здесь сталкивается исследование, едва ли когда будут разрешены. Нужно считать твердо установленным, что эти сооружения воздвигнуты древней нацией из племени аймаров. Часть развалин, известная под именем Ак-Капана, составляла храм: на невысокой пирамидальной террасе возвышался храм; у подошвы ее находилось священное место, окруженное каменными столбами. В Ак-Капане эти столбы ограничивают четырехугольную площадь, тогда как вблизи озера Умайо аналогичное место имеет круглую форму; но в сущности оба они должны быть признаны однородными. Имеют ли эти ограды из каменных столбов какое-либо отношение к каменному культу, который был широко распространен в этой части перуанской возвышенности, весьма сомнительно; развалины Тиауанако говорят скорее против, нежели за это. Здесь речь идет, главным образом, о поклонении богам, которым придавался человеческий образ. Подтверждением этого могут служить остатки статуй, и теперь еще уцелевшие на месте развалин; согласно описаниям древних хроникеров, в прежние времена их было несравненно большее количество. Статуи этой древнейшей культурной эпохи своим отсутствием художественной свободы напоминают изваяния Чавина и Сан-Агустина: и здесь, как у всех неразвитых народов, жизненная правдивость страдает под гнетом обильных символов и стилистических украшений. Но боги Тиауанако были иные, более кроткие, чем в упомянутых выше очагах культа; формы их не так враждебны человеку и поклонение им не скрывалось от дневного света.
В архитектурном отношении Тиауанако также занимает особое положение. На обширном пространстве развалин нельзя встретить ни одного закрытого здания. Между тем, строители имели представление о подобных зданиях и строили даже многоэтажные постройки; это доказывает глыба, в которой был высечен, точно на модели, фасад двухэтажного здания. Но в том виде, в каком разбросаны большие каменные глыбы в Пумапунгу, другой груде развалин Тиауанако, они, наверное, никогда не образовали здания. Из этих камней нельзя воссоздать ничего определенного, хотя многие из них несомненно были обделаны по известным образцам и пригнаны для соединения с другими камнями. Точно также нельзя принять за часть здания монолитные ворота, которые издавна обращали на себя особенное внимание; подобно египетским пилонам, они служили только оградою и входом в священные места, подобно каменным столбам в Ак-Капане. И действительно, самые замечательные из таких ворот встречаются в этой области. Их нельзя признать самой массивною из глыб, разбросанных в Тиауанако; но все-таки это самые большие и тяжелые из сохранившихся ворот и вместе с тем единственные, которые украшены богатыми скульптурными орнаментами (см. табл. «Монолитные ворота Ак-Капана в Перу»). Изваяния на этих воротах сохраняют вообще стиль перуанских образцов, напр., узоров на тканях; в центре находится большое изображение божества, которому, повидимому, поклоняются ряды фигур, вырезанных по бокам.
Из атрибутов на самих этих фигурах и рядом с ними нужно думать, что здесь изображен культ Уиракочи. И так как этот культ или аналогичный с ним составлял общее явление среди всех народностей Перу, как на возвышенности, так и на побережье, то неудивительно, что следы его встречаются на памятнике, который должен был принадлежать древнейшей перуанской культуре. Уиракоча (иногда встречается полное имя его Кон-Тикси-Уиракоча) означал, вероятно, первоначально бога солнца; но, как источник света и всякой жизни, он был с течением времени преобразован в творца человека и отца культуры вообще. В этом виде он разносил лично или через своих послов из Тиауанако во все города и веси Перу мирные искусства и культурные блага и, наконец, исчез на дальнем севере, на берегу океана. Ни одно божество не пользовалось таким всеобщим поклонением на обширном пространстве, как Уиракоча, хотя и под различными названиями. Инки первые отклонились от исключительного поклонения солнцу и рядом с ним признали культ Гуиракочи; это был единственный из богов подчиненных им народов, которому они не только поклонились, но приняли его и в свою мифологическую систему. Родина его – древняя южная культурная область, в которой Тиауанако занимает выдающееся положение.
В ближайшей окружности озера Титикаки лежит еще целый ряд других священных мест, тесная связь которых с культурою Тиауанако выступает не так ясно лишь потому, что включение их в культ солнца у инков произошло в позднейшую эпоху. Первое место между ними занимает остров озера Титикаки. Легенда из эпохи инков изображает дело таким образом, что этот остров был исходным пунктом поклонения солнцу; но затем священное место было заброшено, пока инка Тупак Юпанки не отправился туда на поклонение и не возвратил этому месту его прежнего значения. Смысл этого предания, во всяком случае, тот, что Тупак Юпанки был одним из первых инков, который посетил и признал святыню Уиракочи на озере Титикака. До того времени южный берег озера вместе с островом упорно отстаивали от перуанских инков враждебные им племена
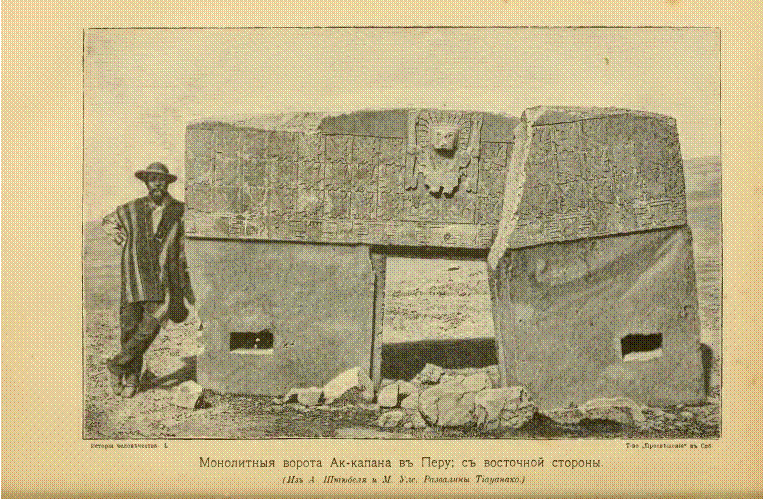
Объяснение рисунка
Монолитные ворота Ак-капана представляют самый замечательный памятник среди развалин Тиауанако, расположенных недалеко от южного берега озера Титикаки. Он едва ли имеет отношение к каменному сооружению, похожему на стонгендж и известному под именем Ак-капана: нынешнее местонахождение его отнюдь не первоначальное. Так как весь памятник имеет лишь около 3 метров вышины, то просвет ворот едва пропускает взрослого человека. Материалом служил твердый трахит, обделанный с большим искусством. С обеих сторон, спереди и сзади, соблюдена строгая симметрия. Скульптурная отделка задней стороны изображает, повидимому, двухэтажное здание с окончатыми нишами. Представленная здесь передняя сторона покрыта рельефными изваяниями; но они выполняют только верхнюю часть ворот. Средину занимает большая фигура божества, обрамленная венцом из перьев, с сильно укороченными ногами. Вероятно, она изображает Уиракочу. Ему поклоняются, опустившись на колени, крылатые фигуры со скипетрами, с каждой стороны по 24, расположенные в три ряда, один над другим. С каждой стороны девять фигур с наружного края вырезаны позднее и менее искусной рукою, чем остальные 15. Снизу фриз замыкает скульптуры. На нем сильно стилизированные человеческие головы разграничены меандровыми полосами, которые украшены головами кондора (но не змей) и пумы. Стиль до-инкский. По всей вероятности, скульпторы принадлежали к племени аймаров.
* * *
колласы. Следовательно, здесь не может быть речи о том, что инки раньше владели этой святыней и что она оставалась лишь долгое время в пренебрежении. Они воздвигли там впоследствии многочисленные и монументальные постройки; но в самих священных местах, у скалы, позади которой солнце останавливалось, пока творец (Уиракоча) снова не приводил его в движение, памятники носят вполне характер до-инкских построек. Вообще эта святыня представляет не храм, но, подобно Ак-Капану и другим первобытным местам культа, открытое пространство, окруженное лишь оградою.
Другое место, находящееся в связи с культом Уиракочи, Кача, лежало на половине пути между Куско и озером Титикака, в долине Уилканоты. Найденная там развалина храма, судя по архитектурным особенностям ее, должна быть отнесена лишь к периоду инков. Тем не менее, это был храм Уиракочи, построенный, согласно легенде, в воспоминание о том, что здесь бог бросил с неба огонь и воспламенил горы с целью наказать не признававших его учения индейцев-канао и заставить их уверовать в его божественность.
До-инкская культурная область юга обнимает еще несравненно бо̀льшую территорию; но она принадлежала не исключительно к культурной области Тиауанако. Последний был разрушен не инками: когда перуанские инки вторглись с завоевательною целью в страну колласов, он уже давно лежал в развалинах, как и теперь, и воспоминание о нем отошло в туманную даль сказаний. Древнее царство Тиауанако погибло еще раньше от натиска переселенческих волн. Если даже сами колласы не разрушили Тиауанако, то, во всяком случае, они основали свое царство рядом и на почве Тиауанако, который также достиг высокой культурной ступени помимо влияния инков. Им, вероятно, принадлежат замечательные башенные могилы (чульпы) на озере Умайо, вблизи Силлустани; большие каменные глыбы этих могил, гладко обтесанные и прекрасно приспособленные к округлой поверхности, едва-ли уступают тесаным каменным работам Тиауанако. Но религия колласов заключалась не в поклонении Уиракоче, а в каменном культе, который, во всяком случае, не остался без влияния на священное место на озере Титикака, когда оно подпало их владычеству. Главная святыня находилась, впрочем, на южном конце озера, в Копакапане. Раньше, чем инки навязали колласам свою религию солнца, здесь пользовались особым почитанием два синих камня, из которых один изображал только лицо, а другой фигуру, обвитую змеями.
На развалинах всех этих культур и, без сомнения, под бо́льшим или меньшим влиянием каждой из них в отдельности возникло царство инков. История этого большого и могущественного государства наполняет лишь ничтожную часть того времени (каких-нибудь два столетия), которое потребовалось для того, чтобы культура народов этого царства достигла своего развития. Но так как в момент завоевания они случайно играли еще руководящую роль в южной Америке, то потомство ознакомилось с их историей и историей родственных им народов, главным образом, с точки зрения инков. В действительности, однако, инки не были носителями ни особой национальности, ни особой культуры. Заслуга их заключается в том, что они приобщили к своеобразной культуре своего народа обширные области и на почве других культур создали оригинальные и подчас замечательные учреждения. В своем государстве, которое состояло под конец из большого числа народов, говоривших на различных языках, они ввели, как официальный язык, наречие кечуа. Но оно не было их родным языком. Инки представляли лишь клан племени аймаров, с древней культурою которых мы познакомились в Тиуанако. Быть может, они при крушении этого царства направили свои шаги к северу и поселились в долине Уилкамайа, откуда предприняли затем победоносное движение в направлении всех четырех стран света (поэтому они назвали свое царство Тауантинсуйю, т. е. четыре страны света). И так как они не желали разоблачить перед взорами толпы незаметных начал своего могущества, то сложили легенду о своем происхождении, в которой их светская власть и религиозное мировоззрение сводятся к одному источнику. Этим они сами возвысились над обыкновенными смертными и приблизились к богам.
Предание рассказывает, что до появления инков люди жили на перуанской возвышенности еще в совершенно диком состоянии. Земледелия они не знали, оседлых местопребываний не имели, другой одежды, кроме шкур животных, у них не было, и питались они сырым мясом этих животных. Видя это, бог солнца Инти, наконец, сжалился. И он посадил на острове озера Титикаки двух своих детей, которых родила ему его сестра и жена Килла, богиня луны, Манко Капака и его сестру и жену Мама Окло. Он дал им золотой посох и велел идти по долинам на север до того места, где золотой посох, коснувшись земли, исчезнет в ней. Там они должны были поселиться и склонить живущих вокруг людей к поклонению богу солнца и познакомить их с благами культуры. И он обещал им свою защиту и поддержку, чтобы благотворное влияние их постепенно распространилось на все народы земли. С этим поручением брат и сестра пустились в путь вниз по долине Уилкамайо. В нескольких милях от Куско, у горы Уанакауре, золотой посох внезапно провалился, и Манко Капак начал здесь строить дом для себя и своей сестры-супруги. Здесь же он вскопал землю и посадил картофель, киноа и другие растения. Мама Окло хозяйничала в доме и у очага, варила, пряла, ткала, словом, занималась всеми искусствами, которым научили ее небесные родители. Устроив таким образом собственное житье, Манко приступил к выполнению своей божественной миссии среди обитающих кругом людей. Дикари, жившие по близости от Куско, с изумлением глядели на Манко и его сестру, одетых в светящиеся одежды с блестящими украшениями, и с благоговейным трепетом внимали посланникам бога солнца. И когда под их руководством они также стали приобщаться к благам культуры, когда мужчины научились обрабатывать землю и строить дома, а женщины прясть и ткать, они поняли, какое благодеяние ниспослано им в лице Манко Капака. Они охотно избрали его своим правителем, а бога солнца своим богом. И маленькое государство, которое возникло таким способом вокруг хижины первого сына солнца, росло и процветало, видимо, под благословением своего небесного отца.
В этой легенде мы можем признать позднейшую и официальную форму первоначального сказания об инках. Связь с озером Титикака дает право заключить, что она возникла не раньше, чем совершилось примирение между культом солнца инков и культом Уиракочи обитателей возвышенности, священным центром которого является озеро Титикака. И так как этот религиозный компромисс совершился лишь при инке Уиракоче, восьмом в ряду королей инков, то и эта версия первоначальной саги имела позади себя, вероятно, немногим больше столетия, когда испанцы пришли в Перу.
Древнейшая форма легенды совершенно в ином свете рисует события, предшествовавшие поселению Манко. Однажды с высоты Паккаритамбо, в девяти испанских милях к югу от Куско, пришли четыре пары братьев и сестер, которые также назывались детьми солнца; в числе их находились Айар Манко и Мама Окло. Но самый большой и сильный из них был Айаръ Качи, супруг Мама Гуако. Его братья и сестры, ощущавшие страх перед ним, решили отделиться от него. Хотя все они вышли на свет в праздничных одеяниях и богатых украшениях, но еще более обильные и блестящие сокровища были оставлены ими в пещере. Они стали просить Айара Качи достать эти сокровища. Когда он скрылся внутри пещеры, они подкатили к входу огромные каменные глыбы и так хорошо закрыли его, что Айар Качи не мог выйти обратно. Ужасна была ярость силача, когда он открыл коварный обман: он сильно раскачал гору, которая обрушилась на пещеру, и вся земля на далеком расстоянии задрожала; но все-таки он не проложил себе выхода к свету и, в конце концов, внутри скалы, сам превратился в камень. Остальные братья и сестры пустились в путь дальше к северу и остановились сперва на горе Уанакауре прежде, чем двинуться ближе к Куско. Когда они прощались с Уанакауре, еще один брат, Айар Утчу, добровольно превратился в каменное изображение, за что остальные дали обет в будущем молиться ему. Но он расправил свои мощные каменные крылья и полетел вверх к их общему отцу, солнцу, от которого вернулся, возвестив, что Айар Манко должен взять на себя руководящую роль под именем Манко Капака, спуститься вместе с братьями и сестрами к близ лежащему Куско и там начать свою цивилизаторскую миссию; а он, Айар Утчу, останется на Уанакауре в виде каменного изображения, чтобы служить на будущее время постоянным посредником между ними и отцом их, солнцем.
В этой версии сказания о происхождении важны два момента. На горе Уанакауре находился до самого прибытия испанцев один из наиболее почитаемых храмов всего царства Тауантинсуйю, основание которого, конечно, приводилось в связь с легендою о происхождении. В позднейшую эпоху он преобразовался в храм солнца, как все официальные святилища инков. Но сказание о происхождении не оставляет никакого сомнения в том, что здесь, как и в пещере Паккаритамбо, мы имеем дело с священным местом из времен каменного культа, который был преобладающим до распространения солнечной религии инков не у одних колласов к югу и западу от озера Титикаки, но и в области Куско и еще гораздо далее к северу. Этим объясняются своеобразные ступени и площадки, высеченные в естественных скалах Монте Родадеро, в непосредственном соседстве Куско, и другие сходные памятники, несомненно находящиеся в связи с каменным культом: близ Конкичи, в верхней долине Апуримака, затем каменные кресла Гуилки-Гуамана в Пампасовой долине и так называемый трон инков в Кахамарке, на дальнем севере. Все эти святыни, поклонение которым в эпоху инков едва ли подлежит сомнению, делают весьма вероятным, что каменный культ не преследовался инками с такою строгостью, как прочие формы идолопоклонства. Если прибавить к этому предание о превращении двух сыновей солнца в камни и способ примирения их почитания с солнечным культом, то мы придем к заключению, что инки древнейшей эпохи вступили как бы в религиозно-политический компромисс с каменным культом, который в полном расцвете окружал их со всех сторон. Спустя столетие, они из политических соображений точно также отнеслись к культу Уаракочи. Благодаря устранению противоречия между каменным и солнечным культом, первый имел возможность пустить глубокие корни среди туземцев Перу. И не только во времена инков, но даже чуть ли не по настоящий день носильщик тяжестей из туземцев, пробираясь сквозь одно из бесчисленных горных ущелий этой страны, которая состоит из одних лишь долин и горных хребтов, обязательно прибавляет от себя новый камешек к грудам камней, накопившихся от приношений его предшественников: это – дань, подносимая Апачете, «который дает силу носить тяжести».
Не менее важно то, что рассказывает легенда о поселении инков в Куско. По всей вероятности, еще до прибытия инков в стране находилось многочисленное население, которое давно вышло из состояния грубого варварства, навязываемого официальной традицией всем перуанцам до-инкской эпохи, и поднялось до благоустроенной жизни. Город Куско был резиденцией правителя по имени Алькависа, который управлял также и ближайшими окрестностями города. От него Манка Капак и небольшая кучка его спутников получили разрешение поселиться вблизи города. Вскоре, однако, после их появления соседи почувствовали неприятные стороны их соседства. Не успели пришельцы утвердиться в одном из кварталов города Куско, как повели интригу против правителя и жрецов культа, существовавшего в старом Куско, и стали вербовать прозелитов для своего культа, который заключался в исключительном поклонении богу солнца. Эта вражда партий мало-по-малу перешла в открытую борьбу, завершившуюся изгнанием Алькависы и его приверженцев. Так перуанские инки овладели городом, которому суждено было в течение веков служить центром обширного царства их.
Перуанское предание не дает возможности установить, хотя бы приблизительно, момент, когда первый правитель из племени инков завладел властью. Связки шерстяных ниток различного цвета, так наз. кипу, при помощи которых перуанские ученые закрепляли в памяти факты, повидимому, не употреблялись с целью хронологических записей. Способ их употребления вообще доказывает, что они не были пригодны для этой цели и никаким образом не могли заменить настоящего письма. Устное предание играло, во всяком случае, главную роль в изучении исторических событий в школах, где ученые, амауты, воспитывали юношей инкской крови и сыновей привилегированных лиц из союзных и подчиненных племен. Но все, что уцелело из этих знаний до прибытия испанцев, слишком недостаточно для хронологического определения древности царства инков. Мы не знаем даже в точности числа правителей, которые сидели на троне Куско от Манко Капака до Атауальпы. Данные хроникеров колеблются между 10–13 правителями, предками враждующих братьев Гуаскара и Атауальпы; их было никак не менее одиннадцати. Достойно внимания, что неточность относится не к самой древней эпохе. Напротив, относительно первых пяти королей инков не существует серьезных сомнений. Но затем в королевской семье наступили, повидимому, распри, которые изменили обычный порядок престолонаследия. Стремление затушевать этот факт привело к тому, что получилось два различных описания средней эпохи правления инков; они во многом противоречат друг другу и сильно затрудняют выяснение действительной связи. Кроме того, позднейшие инки чаще были известны под своими прозвищами, так как имена их мало различались. Вследствие того существует путаница относительно трех или четырех предшественников Гуайна Капака, и точная хронология и история начинаются лишь с правления этого короля. Если средний период правления каждого из одиннадцати королей считать равным тридцати годам (отец и сын всегда неизменно следовали друг за другом), то утверждение этих правителей в Куско должно быть отнесено приблизительно к 1200 году христианского летосчисления. Таким образом, царство инков в момент своего крушения имело за собою около 330 лет существования; принимая во внимание непрочность условий в древней Америке, такой период должен быть признан скорее слишком большим, нежели слишком малым.
Хотя Манко Капак не есть настоящее собственное имя, тем не менее, мы должны признать существование его, как исторической личности. Возможно, что амауты умышленно предавали забвению его собственное имя с целью затемнить историческую связь правителей инков с прочими древне-американскими государственными образованиями и сделать для народа более очевидным прямое происхождение их от бога солнца. На языке кечуа, который признается официальным наречием государства инков, капак значит богатый, сильный. И этот титул обыкновенно присваивали себе не только инки, но и другие начальники, помещая его впереди или рядом с своим собственным именем. Слово Манко имеет тот же смысл. Правда, происхождение его и настоящее значение установлены не так твердо; но предание называет именем Манко целый ряд королей, особенно в странах, которые находились в западной и северо-западной части царства инков. Поэтому Манко Капак следует переводить: «могущественный король». Такое имя вполне пригодно для того, чтобы импонировать народу и окружить туманом скромное начало владычества инков в Перу. По поводу правления Манко Капака после утверждения его в Куско, говорится лишь в самых общих выражениях, что он распространил в своем народе цивилизацию, ввел культ солнца и расширил пределы своего царства не столько силою оружия, сколько путем мирного образования. Согласно легенде, Манко Капак положил основание всем тем учреждениям, которые характеризуют позднейшее государство инков, хотя множество приписываемых ему законов были бесцельны и отчасти даже неосуществимы, если принять во внимание ничтожность территории, на которую первоначально распространялась власть правителя. Государство инков, которое вызывало изумление завоевателей XVI столетия и еще до сих пор справедливо возбуждает величайший интерес, было создано, главным образом, четырьмя правителями: Уиракочей, Юпанки, по прозванию Пачакутек, Тупак Юпанки и Гуайна Капаком. Правда, они лишь продолжали строить на фундаменте, который был положен их предками, но радикально пересоздали весь строй государства. Вот почему чрезвычайно трудно составить себе ясное представление о том, чем было царство инков в эпоху, предшествовавшую этим правителям.
Относительно первых трех правителей, следовавших за Манко Капаком, предание сообщает столь же мало достоверных фактов, как и о нем самом. Во всех источниках они носят название Синчи Рока, Льоке Юпанки и Маита Капака; отношения между ними были, как отца к сыну. Сведения расходятся, однако, уже по поводу имени и родственных отношений их жен и матерей. Согласно официальному преданию, брак Манко Капака с сестрой его Мама Окло состоялся по повелению бога солнца в подражание бракосочетанию солнца с его сестрою луной. Здесь, очевидно, распространяется на древнейшие эпохи царства инков позднейший закон, согласно которому право престолонаследия принадлежало только тому сыну инки, которого он произвел в браке с сестрою или, за отсутствием таковой, с ближайшей родственницей чистой инкской крови. Другое предание, поводимому, более достоверное, утверждает, что не только ближайшие наследники Манко Капака, но большинство инков до Юпанки Пачакутека произошли от браков между правителями Куско и дочерьми соседних государей. Все восхваляют правителей вплоть до Маита Капака за мирную работу их с целью расширения царства. Впрочем, иногда и официальное предание говорит относительно того или другого из древнейших инков, будто он взял себе в жены дочерей соседних правителей, а не из рода инков. И в самом деле, каким образом Гуайна Капак после завоевания Кито дерзнул бы взять наследную принцессу этого царства в число своих жен, если бы с самого основания династии брак с сестрою или с ближайшей по крови родственницею соблюдался, как религиозный закон?
Впрочем, такая брачная политика инков совершенно естественна. Они представляли небольшую кучку чужеземцев, вторгнувшихся в долину Уильканоты. Насильственное устранение правителя Куско едва ли способно было вызвать сочувствие к ним соседних правителей, из которых многие, вероятно, находились в дружественных и родственных отношениях с Алькависой. Кроме того, отчуждению их способствовало то обстоятельство, что они держались вообще враждебно в отношении религий, распространенных на возвышенности, именно каменного культа и поклонения Уиракоче, и ввели вместо них культ, правда, менее чувственный и жестокий, но вместе с тем и менее понятный для масс. В течение первого века правления своей династии, инки были не более, как мелкие территориальные правители среди множества других. Они были далеки от того, чтобы навязывать соседям свои государственные и религиозные обычаи; для них было уже достаточно, что их самих оставляли в покое. При таких условиях самая разумная политика заключалась в том, чтобы при помощи союзов упрочивать свое положение. Заключая родственные связи, они имели в виду изгладить воспоминание о том, что они являлись поздними и чуждыми пришельцами в кругу королей горной страны. Мы можем верить древним преданиям, что инкам удалось при этом привить свою высшую культуру менее цивилизованным, хотя отнюдь не диким и грубым народностям; что они мирным путем приобретали приверженцев, наглядно показывая им преимущества самой тщательной обработки земли и строгого проведения принципа разделения труда. Эти приверженцы охотно оставляли соседние страны и отдавались под покровительство инков. В благодарность за материальное улучшение своего положения, они принимали едва понятную им религию. Быть может, они даже объясняли прогресс и благосостояние инков могуществом их божества. Тем не менее, при первых четырех инках царство Куско очень мало увеличилось. К этому царству не присоединились еще в то время ни чанки, которые жили непосредственно на западе долины Куско, между Андагуайласом и Айакучо, и царство которых стояло несравненно выше инков, ни кечуасы, язык которых сделался впоследствии официальным органом царства инков и которые были его северными соседями еще при Маита Капаке, ни, наконец, канасы и канчесы, которые жили между Куско и озером Титикака. В то время власть инков не распространялась даже на самое ближайшее соседство их главного города. Со всеми мелкими правителями, называвшими себя королями владений, которые были расположены на расстоянии 3–5 часов пути в окружности Куско, их связывал лишь договор, заключенный на почве равноправности. И только Уиракоча, восьмой правитель на троне инков, превратил этот договор в фактическое господство. В конце концов, Маита Капак не чувствовал себя безопасным даже в собственной столице, так как алькависки, потомки рода, правившего в Куско до прибытия Манко Капака, даже в его время продолжали смотреть недружелюбно на более счастливых соперников. При четвертом короле инков потребовалось даже кровавое сражение для того, чтобы окончательно изгнать из города беспокойных приверженцев древней королевской фамилии.
Битва, в которой Маита Капак победил возмутившихся алькависков, прямо признается первым случаем, в котором инка обнажил меч для расширения своей власти. При преемниках его дело совершенно изменилось. Три следующих инки, Капак Юпанки, инка Рока и Яуар Гуакак, правление которых в совокупности едва обнимает столетие, знаменуют собою начало завоевательной политики, которая повела к расширению границ их власти во всех направлениях. С ближайшими соседями они все еще оставались в отношениях союзников, но вместе с тем призывали на службу к себе все молодое поколение, способное носить оружие, и, таким образом, приучали их смотреть на себя, как на предводителей. Этим путем, а равно при помощи богатой военной добычи, они незаметно обеспечили себе перевес над прочими членами союза, и с течением времени это преимущество приняло характер действительного господства.
Капак Юпанки начал свое правление с того, что обеспечил себе власть в собственном доме. Маита Капак оставил нескольких сыновей, которых сделал почти независимыми правителями соседних владений. И когда Капак Юпанки дал им ясно понять, что требует от них не дружбы, а повиновения, то они составили заговор, имевший целью устранить его самого и посадить на его место более сговорчивого правителя. План их был, однако, обнаружен, и вместо инки пало под ударами меча большинство заговорщиков. Чтобы смягчить впечатление этой трагедии и дать исход жажде деятельности многих юных инков, Капак Юпанки предпринял ряд походов сперва к северу (Кондесуйю) и к северо-востоку (Андесуйю), по направлению рек.
С тех пор инки обнаружили необычайную агрессивность и стремление к расширению. И все-таки едва ли найдется на всем земном шаре второе государство, которое, оставаясь в целом ряде поколений с оружием в руках, выказало бы столько умеренности в способе ведения войны, столько человечности, как инки. Всегда готовые прибегнуть к решению дела мечем и обладая геройской храбростью, инки в каждом отдельном случае старались испробовать мирные способы прежде, чем перейти к открытому наступлению. Военные походы их ничем не напоминали приемы диких и полуцивилизованных народов остальной Америки, которые привыкли совершать неожиданные нападения, истреблять при этом возможно большее число врагов и как можно быстрее возвращаться к домашнему очагу с награбленным добром. Ведение войны у инков имело определенную систему. Они никогда не нападали на противника внезапно, но предварительно отправляли послов, которые от их имени предлагали добровольно подчиниться мягкой власти инков. Инка, сын бога солнца, говорили они, пришел не для того, чтобы причинить им вред, а с целью освободить их от всего устарелого и дурного и дать взамен этого благодеяния более культурного образа жизни и более просвещенного почитания богов. И чем больше царство инков приобретало власти и территории, тем более распространялась весть, даже среди отдаленных наций, что эти обещания – не пустой звук, и что положение подданных в царстве инков несравненно лучше, чем в областях, которые не желали подчиниться им. Инки почти никогда не лишали трона род правителей, который добровольно подчинялся их владычеству. Правда, положение правителя, присоединенного к царству инков и превратившегося из независимого властелина в вассала сына солнца, сидевшего в Куско, изменялось; преобразовывались и отношения короля к своим бывшим подданным, сообразно с духом учреждений господствующего государства; но инки меньше всего были фанатическими доктринерами. Они всегда щадили национальные особенности тех, кто подчинялся их скипетру, насколько это было совместимо с требованиями правительственной политики. Лишь с течением времени, в силу требований управления и администрации, местные учреждения отступали все более на задний план и, наконец, совершенно исчезли.
Менее всего древнейшие инки придерживались этой примирительной политики в религиозной сфере. Они довольно беспощадно уничтожали туземные формы поклонения богам у народов, которые раньше других подпали под их власть. Говорят, что еще Маита Капак однажды приказал подданным соседних местностей доставить в Куско все их каменные изображения богов, будто бы для того, чтобы устроить общие для всех пышные празднества. Но когда каменные идолы были собраны вместе, он велел разбить их и заделать в стену храма солнца, чтобы наглядно показать народам бессилие богов, которым они молились. Но и в этой области последующие поколения инков стали держаться несравненно более разумной тактики, в чем играла немалую роль политическая необходимость (ср. ниже, стр. 328 и след.).
Часто походы инков, не смотря на большие военные силы, оканчивались без всякого кровопролития. Тем не менее, они всегда были готовы сломить даже самое упорное сопротивление. Вследствие многочисленности войск и трудности путей сообщения на всем пространстве своего владычества, инки подвигались вперед очень медленно. Особенно впоследствии когда царство их приняло обширные размеры, случалось далеко нередко, что поход продолжался по два, по три года и дольше. Войско не только было обучено военному делу, но умело и прокормить себя. В покоренных странах приходилось иногда устраивать большие вооруженные лагери и силою оружия подавлять восстания; случалось также, что поход, предпринятый с целью нападения, затягивался на долгое время. Во всех таких случаях, воины, оставаясь вооруженными, принимались за возделывание земли. Впрочем, к этой крайности, вероятно, приходилось прибегать только в исключительных случаях, так как продовольственная часть, обозы и смена частей были такие же образцовые, как и военная организация войск. Обязательная работа, которая была всюду введена в царстве инков (см. ниже, стр. 334 и след.), давала возможность правителям накоплять в мирные времена значительные запасы съестных припасов, одежды и других предметов необходимости. Во всех провинциях имелись большие магазины для хранения их, и в военное время или на случай голода и болезней эти амбары открывались. Подобные учреждения, в связи с блеском, которым умели окружить себя инки, делали часто излишними оружие в борьбе с менее культурными племенами, населявшими горные долины и негостеприимное побережье: чувство собственного бессилия у этих племен было лучшим союзником инков.
Инки не отказывались от своей примирительной политики даже в тех случаях, когда на требование добровольного подчинения получали отказ. Правда, за этим следовало с их стороны вооруженное нападение, которое, в виду превосходства их военной организации и вооружения, было почти всегда равносильно победе. Но вслед за тем послы инков вновь являлись с мирными предложениями. И даже в этом случае туземные правители сохраняли свое положение, если только они не продолжали сопротивления до крайности. Едва ли среди государств с которыми инки сталкивались в своих завоевательных походах, существовало хотя бы одно, настолько сплоченное, чтобы решиться на сопротивление до полного уничтожения. Правда, находились правители, которые считали себя равными инкам и не желали купить сохранение своей власти ценою признания верховных прав инков, но им приходилось чувствовать на себе всю силу гнева последних. В подобных случаях добровольными союзниками инков являлись вассалы их противников, находившиеся в слабой зависимости, и соблазнявшиеся заманчивыми предложениями инков. Но инки умели быть и беспощадными: следы этого сохранялись на территории Перу еще в эпоху испанского завоевания. Они не колебались в подобных случаях приводить в движение громадные силы и разрушали до основания даже такие твердыни, как Мохеке, гигантские глыбы которой до сих пор еще образуют огромное поле развалин, или храмы, как, напр., Чавин де Гуантар, пользовавшиеся почитанием на большом пространстве. Этим они желали лишить врага точки опоры на случай будущих войн или произвести на него впечатление быстрым разрушением того, что создано было бесконечными усилиями. Там, где целый народ повторно восставал с оружием в руках против мягкого владычества инков, они поступали еще решительнее: во вновь завоеванных областях ставились многочисленные гарнизоны, которые постоянно находились на полувоенной ноге и, кроме того, молодое поколение, способное носить оружие и составлявшее наиболее воспламеняющийся элемент, отправлялось в самые отдаленные провинции и поселялось там среди племен испытанной преданности.
Эта картина воинственной политики инков может быть отнесена к эпохе правления Капака Юпанки лишь с известными ограничениями. Войска его были еще не настолько многочисленны и расстояния, на которые он предпринимал походы, не так велики, чтобы можно было предъявлять особые требования к организации военного дела. Преемник его, инка Рока, быть может, не менее сделал для будущего величия царства Куско, чем Капак Юпанки, но совершенно в другом направлении. Правда, он, как и преемник его, Яуар Гуакак, предпринимал иногда военные походы за пределы царства; но все-таки оба они не были воинственными монархами. С другой стороны, инка Рока, как думают, положил первое основание расширению и украшению столицы Куско. Все сделанное там в его правление не оставляет сомнения в том, что уже в то время инки в состоянии были сосредоточивать силы своих подданных для осуществления грандиозных задач. Ему и койе его (так называли законную супругу королей инков) приписывают сооружение древнейших больших водопроводов, которые издалека доставляли чистую и всегда свежую ключевую воду в столицу, принявшую большие размеры и успевшую развить в себе утонченные потребности. Эти водопроводы не следует смешивать с другими сооружениями, служившими для накопления воды и для орошения почвы на большом пространстве царства инков: этого требовали, с одной стороны, своеобразные климатические условия, а с другой, интенсивное хозяйство, необходимость которого вызывалась густотою населения. Инки и в этой области доказали дальновидность и заботливость своей политики сооружением по истине изумительных построек. Не они, однако, первые изобрели искусство распределения воды: его знали и применяли на обширном пространстве почти все народности, покорившиеся инкам, еще до присоединения своего к царству инков. Вообще легенда о том, что Манко Капак открыл и научил найденным в царстве инков способам обработки земли, неосновательна.
Но самым выдающимся памятником, которым обессмертил себя инка Рока, был дворец, который он начал строить в своей столице. Правда, строительное искусство достигло значительного совершенства еще до инков и независимо от них, и они, во всяком случае, не заслуживают похвалы, будто они довели это искусство до высшего расцвета. В сравнении с техникою, которую раскрывают нам величественные сооружения на развалинах Тиауанако, искусство инкских строителей в Куско представляет даже несомненный шаг назад. Если признать Тиауанако продуктом строительного искусства, которое работало при помощи гигантских глыб, как это свойственно циклопическим постройкам во всех частях света, то, во всяком случае, здесь это искусство доведено было до совершенства: мера и модель каждой отдельной части были расчитаны заранее. Напротив, дворец, построенный инкою Рока, должен быть отнесен к циклопическим постройкам обыкновенного типа. Глыбы лишь на столько велики, чтобы можно было осилить их при помощи ограниченных технических средств, и обтесаны в самые причудливые формы, смотря по месту, которое они занимают в постройке. Так, один особенно замечательный камень имеет не менее 12 углов. Однако, несмотря на то, что наружная сторона этих камней, большею частью, лишь очень поверхностно сглажена, и форма их совершенно неправильна, они так хорошо скреплены, что даже теперь еще невозможно ввести в спайки между ними клинок ножа, хотя тогда не употребляли ни цемента, ни другого связующего средства. Один из позднейших инков велел еще раз снести большую часть города Куско для того, чтобы вновь перестроить город по одному плану. Тем не менее, множество зданий не вошло в эту программу уничтожения, что доказывают обширные сооружения из неправильных многоугольных глыб, которые сохранились до настоящего времени и резко отличаются от строительного искусства позднейших инков. Самый значительный памятник этого стиля представляет дворец инки Рока, который находился в улице Куско, называемой calle del triunfo; стена его, искусно составленная из многоугольных кусков, являлась желанным фундаментом для сооружений позднейших времен.
В более поздние эпохи архитектурное искусство перуанских инков значительно усовершенствовалось. Пристрастие к большим сооружениям всегда оставалось их особенностью, и притом в такой степени, что даже там, где природа отказывала им в твердых каменных породах, служивших обыкновенным строительным материалом, и они вынуждены были, по примеру подвластных народов, пользоваться для построек кирпичами, отдельные камни в их постройках все-таки отличаются необычайно большими размерами. Впрочем, в эпоху наивысшего расцвета царства инков при постройках храмов и дворцов исключительно употреблялись четырехугольные камни, чрезвычайно тщательно обтесанные. При этом все они были одинаковой величины и так тщательно пригнаны друг к другу, что в некотором расстоянии вся стена здания казалась сделанною как бы из одного куска, а вблизи они производили впечатление равномерных полос вдоль фасада. Несмотря на эту замечательную технику, постройки перуанских инков никогда не были красивыми. Длпнные, массивные, громадные стены их почти всегда были лишены расчленения. И так как инки не в состоянии были делать сводчатых крыш, хотя бы в первобытном стиле центральных американцев, то здания их, необычайно растянутые в длину в сравнении с вышиною, производили подавляющее впечатление.
При этом в царстве Тауантинсуйю почти совершенно отсутствовала скульптура. На сооружениях инков мы лишь в очень редких случаях встречаем какое-либо скульптурное украшение. Немногие ворота, украшенные львиными головами, представляют, быть может, только остатки зданий, разрушенных инками, послуживших им материалом для новых построек. Религия инков отвергала всякие скульптурные изображения и вела, особенно в более древнюю эпоху, беспощадную истребительную борьбу против идолов подвластных племен. Вследствие того выработалось отрицательное отношение к воспроизведению живых существ на камне вообще. Между тем, как постройки инков обнаруживают поразительную технику в обработке самых твердых каменных пород, а гончарные работы их также доказывают, что они замечательно верно воспроизводили живые формы с соблюдением пропорций, все скульптурные изображения, найденные на перуанской почве, принадлежат не царству инков, а более древним эпохам. Сами инки позаботились о том, чтобы легко было отличить произведения их искусства от работ их предшественников и потомков. Большею частью, достаточно бывает исследовать каменную работу, чтобы решить, относится ли она к эпохе инков или нет: ни до, ни после них отдельные части не соединялись с такою тщательностью, которую можно объяснить не иначе, как шлифовкой.
Постройки инков имеют еще один характеристический признак: – трапецоидальную форму всех отверстий. Правда, окна встречаются в их постройках лишь в виде исключения и немногочисленны. что еще более увеличивает мрачное, гнетущее впечатление. Но во внутренних стенах всех этих зданий довольно часто находятся ниши, который, вероятно, заменяли шкафы. Эти ниши, также, как и двери, через которые проходил свет и воздух в помещения, почти всегда сгруппированные длинными рядами вокруг открытого двора, представляют ту особенность, что боковые косяки наклонены друг к другу так, что верхняя поперечина всегда несколько короче нижней. Эта особенность сохраняется во всех постройках инков, не смотря на перемену материала и окружающей обстановки, от озера Титикаки до Кито и от Куско до побережья Тихого океана; поэтому она представляет легко уловимый отличительный признак. Но особенно некрасива и неприятно поражает крыша в постройках инков. Камнем они не могли пользоваться для этой цели; точно также скудная вообще древесная растительность давала недостаточный материал для солидных деревянных построек. Поэтому даже в самых монументальных постройках крыши делались из камыша и соломы, которая держалась на сравнительно тонких деревянных балках. Наружными украшениями зданий служили исключительно плиты и искусно сформованные кусочки благородного металла; но, конечно, подобные украшения встречаются почти только на храмах и разве еще на дворцах. В руках простого человека золото и серебро не имели цены и употреблялись почти лишь для подношения даров богам и почти равным им по положению королям.
Инке Рока приписывают, далее, основание первых школ в царстве. Перуанцы имели особое сословие ученых, амаутов; но они представляли лишь подразделение касты инков. Инки были очень далеки от того, чтобы желать распространения образования во всех народных классах, и держались мнения, что слишком много знания и умения создает лишь недовольство и самовозвеличение и для простого человека не пригодно. Поэтому проникнуть в класс амаутов было возможно лишь для людей инкской крови. Школы в Куско были открыты, кроме молодых людей инкского племени, только для детей вассальных князей, которым инки разрешали это, как особую милость: впрочем, эта милость имела и политическую цель – воспитать юных княжеских сыновей в духе идей, на которых покоилась власть инков. В этих школах молодые люди получали основательное и целесообразное воспитание, которое соединяло с развитием умственных способностей упражнение физических сил и, таким образом, удачно разрешало, сообразно с тогдашними требованиями, трудную задачу гармонического развития души и тела.
Существенный предмет преподавания составляли языки. Инки королевской фамилии говорили между собою на особом языке, и амауты обращали на знание его самое тщательное внимание. Но с уничтожением расы инков, до и во время испанского завоевания, этот язык настолько утратился, что уже при инке Гарциласо не было ни одного человека, который говорил бы на нем. Едва ли это был, однако, особый независимый язык, а скорее, вероятно, наречие аймаров, на котором говорили Манко Капак и племя, уничтожение которого послужило поводом к переселению инков в Куско. Со стороны инков было актом предусмотрительной государственной мудрости то, что они избрали органом своего царства не этот грубый и бессильный язык, a наречие Кечуа, весьма распространенное на севере и на западе Куско и отличавшееся менее жесткими и легче заучиваемыми звуками и формами. Это наречие пустило столь глубокие корни, в эпоху инков, между всеми племенами, подчиненными их скипетру, что на нем до сих пор говорят почти на всем пространстве бывшего царства Тауантинсуйю. Наоборот, от национальных языков подчиненных племен сохранились лишь скудные остатки; некоторые диалекты не оставили и этих следов.
Высшая ученость оставалась, конечно, достоянием одних амаутов и приобреталась не в общих школах, а в особых ученых учреждениях. Так, одни амауты были посвящены в систему кипу – пестрых шнуров, нанизанных связками на поперечный шнур; узлы на них служили единственным средством для укрепления памяти. Может быть, они и были пригодны для статистических данных, которых требовала система управления в царстве инков; но видеть в них замену настоящего письма и действительное средство для обмена мыслей или для передачи форм речи, во всяком случае, было бы не верно. В ученых школах амаутов ревностно культивировалось сохранение исторического предания. Полагают, что амауты сохранили также, в эпоху инков, эпические и лирические произведения; но, вероятно, это достигалось исключительно путем устного распространения, без помощи кипу, которые могли кое-что сохранить, но никак не объяснить или перевести. Драма Оланта, которая считалась долгое время продуктом духовного развития древних индейцев, относится лишь к XVII веку и, следовательно, обязана своим происхождением испанскому влиянию; это установлено неоспоримо.
Наконец, амауты должны были хранить жреческую мудрость, с которою, как всегда и особенно в царстве солнечного культа, были тесно связаны астрономические знания. Календарная система инков была, повидимому, гораздо менее развита, чем у многих других американских народов. Быть может, они были слишком горды, чтобы заимствовать знания других народов, а собственная культура их оказалась еще слишком юною для изобретения самостоятельного календаря. Главный праздник, по которому велось счисление времени, Inti Raimi, исходил из непосредственного наблюдения над солнцем: это был день, в который тень гномона, называемаго Inti huatana, не представляла более увеличения северного склонения солнца, – следовательно, праздник поворота солнца к зиме, около 21 (9) июня. Таким образом, исключалась разница между продолжительностью действительного и гражданского года. Повидимому, однако, перуанцы достигли этого результата не путем вычисления. Почти все праздники их сообразуются с фазами движения солнца и луны. Им были еще известны и считались священными утренняя и вечерняя звезда под названием Часка, а также Плеяды; но только инка Пачакутек ввел подразделение года на 12 месяцев.
Учреждения, которые приписываются инке Рока, доказывают, что в эпоху его правления царство инков достигло уже высокого материального и интеллектуального развития. Но, как видно из последующих событий, организация его была вообще непрочная и далеко не соответствовала представлениям, которые возникают при чтении источников, описывающих устройство государства в эпоху завоевания. Дело внутреннего закрепления и развития государства инков принадлежало непосредственным преемникам инки Рока. Правление Яуар Гуакака, инка Юпанки перуанские амауты считают периодом несчастия; имя его означает: «тот, кто плачет кровью.» История первых шести правителей инков передается всеми источниками более или менее одинаково, лишь с незначительными вариантами. Но по поводу королей между инкой Рока и инкой Юпанки Пачакутеком в древних преданиях господствует такая путаница, что нельзя установить ни числа, ни имени, ни даже деяний, приписываемых отдельным королям. Верно лишь то, что в этом периоде не только государство инков, но и династия инков перенесли тяжелые потрясения и внутреннюю борьбу.
Опасности, возникшие для государства инков, были несомненно следствием стремления прочнее утвердить власть королей над соседними народами, которые были до того времени скорее союзниками их, нежели подчиненными. Шаг в этом направлении сделал Яуар Гуакак, который потребовал от племен горных долин, привыкших приносить инкам лишь добровольные подарки, дани и признания его главенства. Это обстоятельство еще раз поставило царство инков на край гибели. Чанки, воинственное племя, занимавшее обширную территорию на северо-западе от Куско, между Андауайласом и Арекипою, двинулись, с королем Усковилькою во главе, против Куско. Войско их было настолько грозно, что Яуар Гуакак не осмелился ожидать врага в открытом городе и бежал на юг.
В этот момент к опасностям, грозившим государству инков извне, присоединились новые, коренившиеся во внутренних династических отношениях. Из рассказов довольно ясно видно, что правильность престолонаследия была еще раз нарушена. Официальное изложение, которое стремится скрыть всякое нарушение порядка в государстве, изображает дело таким образом, что законный наследник трона своим юношеским высокомерием возбудил гнев своего отца; последний грозил лишить его права на престол и возложил на него, в виде покаяния, обязанность, стеречь священные стада в горах. Там однажды ему явился во сне один из его предков, принц королевского рода, по имени Уиракоча и указал на опасность для государства вследствие возмущения чанков. Тогда принц, вопреки запрещению отца, поспешил в город. Отец не поверил этому откровению. Но когда он бежал от приближавшихся врагов, королевский сын сумел внушить растерявшимся гражданам столицы новое воодушевление и не только отразил нападение противников на Куско, но, при помощи небесных воинов, посланных ему Уиракочей, одержал даже победу в открытом поле и покорил неприятеля скипетру инков. Легенда еще долго останавливается на том, как победоносный королевич, не смотря на настояния благодарных участников победы, отказывался принять королевский титул и покорно стремился умилостивить своего отца, пока, наконец, сам король сложил с себя королевское достоинство и признал себя первым вассалом своего сына.
В действительности, однако, дело происходило, вероятно, таким образом. В виду приближения чанков, король инков и ближайшая свита его упали духом. Брожение так широко охватило государство, что он не мог полагаться на большую часть своих подданных. И так как город Куско с его ближайшей окружностью не представлял надежного убежища, то инка, вместе с своими наиболее преданными приверженцами, решил скрыться в горы, захватив сокровища. После такого недостойного бегства правителя, снова подняли голову, среди предоставленных самим себе граждан, приверженцы до-инкского правления, почитатели древнего бога страны Уиракочи. Они и помимо чанков положили бы конец владычеству пришельцев, если бы в самом народе не успела образоваться могущественная партия инков, благодаря многолетнему благодетельному правлению молодой династии. При таких условиях из среды колебавшихся выступил потомок рода инков, правда, не имевший законного права на престол, муж инкской крови и обладавший храбростью инков. Прежде всего нужно было устранить несогласие, которое, вследствие бегства правителя, с новою силою обнаружилось между потомками древних обитателей и приверженцами инков. Для этой цели он придумал сказку о появлении бога Уиракочи: бог древнего народа будто бы избрал его, инку, спасителем своего народа. Этим путем он приобрел многочисленных союзников и среди соседних племен возвышенности и при помощи их одержал победу. Понятно, что избранник Уиракочи не имел ни малейшего желания повергнуть пальму победы, доставшуюся ему вместо бежавшего инки, к ногам последнего; но в то же время он не дерзнул идти против обширной партии тех, кто существенно способствовал его победе и открыто злоупотребить властью короля инков. Таким образом, случилось, что правитель Куско, потерявший уважение народа, благодаря своей трусости, но все-таки остававшийся единственным законным королем, пребывал в течение многих лет вдали от столицы, а счастливый соперник его, держа фактически бразды правления в своих руках, все еще не осмеливался возложить на себя титул короля. В конце концов, они пришли к компромиссу: состарившемуся королю было обеспечено мирное окончание жизни, а фактический правитель получил желанный титул.
Инка, принявний имя бога Уиракочи, был обязан спасением Куско и победою над чанками содействию своих южных соседей, канесов и канчей. Они шли, однако, под его знамена не в силу вассальных обязанностей, а по союзному договору, который давал им богатое вознаграждение из военной добычи. Это еще раз доказывает, что царство инков тогда было еще далеко от своего позднейшего расцвета как в отношении обширности, так и внутренней организации. Но в правление Уиракочи, обладавшего государственною мудростью, оно сделало гигантские шаги вперед. Прежде всего подчинение чанков доставило ему многочисленный класс безусловно преданных воинов, которых он наградил почестями и имуществом. Но в то же время среди мелких правителей в окружности Куско, находившихся в слабой зависимости от государства инков, нашлись и такие, которые не пожелали оказывать новому правителю повиновения, вынужденного по отношению к его предшественникам на троне. Уиракоча вышел из этого затруднения с замечательною ловкостью таким образом, что придал недостаточно твердым отношениям правителей Куско к их непосредственным соседям характер настоящего суверенитета. Так как приверженцы старого инки не имели мужества противиться открыто, а отдельные правители не могли сговориться для общего действия, то они один за другим сделались вассалами короля. Когда канесы и канчи отказались уплатить дань и этим признать верховную власть инков, на них пошли войною, и, несмотря на храброе сопротивление, они были побеждены. После этого, однако, они сделались самыми верными и испытанными подданными инков: на них возлагалась почетная служба поставлять носильщиков для королевских носилок, так как инка, подобно правителям чибчасов и китусов, совершал свои путешествия не иначе, как на носилках.
В течение своего долгого последующего правления инка Уиракоча успешно обращал свое opyжие против враждебных стран в различных направлениях; но своими победами он всегда был обязан столько же мудрости своей политики, сколько храбрости своих войск. Он доказал это в особеннности своим вмешательством в распри колласов. На западном и южном берегу озера Титикаки боролись за первенство два правителя, Кари из Чукуито и Сапана из Гатунъ-Колла; оба они были недостаточно осторожны и обратились к помощи Уиракочи. Он воспользовался этим поводом и, первый из рода инков, проник до священного острова Титикаки и до развалин Тиауанако. Он стал на сторону более слабого и отдаленного Кари, который охотно вступил в вассальные отношения к инке, чтобы отразить более сильного противника. Этим умным маневром Уиракоча подготовил поглощение обоих государств царством инков. Внуки его, Тупак Юпанки, воспользовавшись вспыхнувшим там возмущением, завершил его дело.
Важным обстоятельством, обеспечивавшим новому инке быстрые и блестящие успехи, была измененная ими религиозная политика. Солнечный культ, который инки возвысили до степени династической и государственной религии, едва ли мог внушать симпатии народам возвышенности. То была смесь поклонения силам природы и культа предков, который был так тесно связан с фамилией инков, что подданные другого происхождения имели скорее повод к уклонению от этого культа, чем к признанию его. Для обитателей суровой, голой возвышенности солнце, с его благодетельным, согревающим и оплодотворяющим действием, являлось, во всяком случае, добрым божеством в самом высоком смысле, а Уиракоча, в том виде, как первоначально поклонялись ему кечуасы и другие соседние народы, происходил по их мнению, от бога солнца. Инки, хотя и представляли себе бога солнца, Инти, в человеческом образе, как своего родоначальника, тем не менее, изгнали из своего культа всякие антропоморфические формы. В особенно торжественных случаях поклонялись непосредственно самому светилу, а вообще символом его служил лучезарный золотой диск. Но пластическому изображению не только собственного, но и всех прочих богов инки всегда противились. В походах против враждебных народностей они считали уничтожение храмов и изображений богов существенной задачею. Народы, которые не охотно преклонились передъ игом инков, не чувствовали себя ближе к культу последних оттого, что они в храме Куско превратили зал бога солнца в зал предков: вдоль стен были сгруппированы набальзамированные мумии усопших правителей, плеяда сынов солнца вокруг своего отца, бога солнца. Несомненно, этот культ создал лишь преграду между инками и их подданными. Решение нового инки признать почитание Уиракочи, имя которого он присвоил себе лично, являлось, таким образом, желательным поворотом в области религиозной политики. Но тот же инка, который был слишком просвещен, чтобы найти удовлетворение своего религиозного чувства даже в культе солнца, не мог, конечно, вернуться к первобытному идолопоклонству, которому было равносильно почитание древнего бога возвышенности. Бог, которого почитали амауты и инки под именем Уиракочи, выше бога солнца, Инти, как высшего властителя и творца всех вещей, как первоначальный источник всякой жизни, – этот бог не мог быть идолом, сделанным из камня. Он не мог быть изображаем в вещественной форме, так как сам был не материален и, в качестве мощной силы, проникал и приводил в действие все частицы вселенной.
Предание говорит, что во время одного из актов религиозного церемониала, когда король приветствует восходящее светило дня, инка Уиракоча будто бы предложил собравшимся вокруг него жрецам и амаутам вопрос: возможно ли, чтобы Инти был высшим богом и властителем над всеми существами и вещами, как скоро он сам, в своей, вечно одинаковой, правильной и утомительной деятельности, совершает кругооборот вокруг земли. Если бы он был свободен и могуч, то неужели у него не явилась бы когда либо охота отдохнуть или изменить путь, который он привык делать изо дня в день и который должен был ему смертельно надоесть? Подобные проявления разумного скептицизма и эклектизма замечались, как рассказывают, и у преемников его. Они, по всей вероятности, и послужили поводом к введению того, что инки считали своим культом Уиракочи. Для народа они не только воздвигли в Каче знаменитый храм Уиракочи, развалины которого, непохожие ни на архитектурный стиль инков, ни на стиль всех прочих перуанских народов, сохранились до сих пор как неразгаданный сфинкс, но, кроме того, устроили в Куско и других местах, в честь этого божества, алтари, перед которыми ставилось его изображение в обычной форме старца в длинном одеянии. Другие народные культы, которые раньше подвергались преследованию, также отпраздновали теперь свое восстановление. В одной из версий легенды относительно победы над чанками, согласно которой она была одержана при содействии пурурауков, каменных статуй-воинов, оживавших по зову инков и бросавшихся в ряды врагов, отражается, во всяком случае, воспоминание о восстановлении каменного культа. В отношении одного из последующих инков это доказывается еще более убедительно: после посещения Тиауанако он повелел воздвигнуть аналогичные памятники вблизи Куско. В связь с этим приказанием приводились найденные в Монте Родадеро, близ Куско, своеобразные ступеньки, площадки и сиденья, высеченные в естественных скалах. Впоследствии инки признали и другие культы подвластных народностей и перенесли их в Куско, как, напр., культ Пачакамака, главного божества народов, живших на побережье Тихого океана. В эпоху испанского завоевания Куско представлял сборное место не только для князей и наместников, но и для богов и жрецов всех племен, принадлежавших к царству инков. Это был настоящий арсенал идолов самых различных форм и значений.
Инке Уиракоче суждено было иметь своим преемником на троне правителя, который сумел продолжать и развивать начатое им в его духе. С внешней стороны правление инки Юпанки, с прозвищем Пачакутека, представляло почти сплошное триумфальное шествие. На востоке он расширил границы своего царства до того места, где горные потоки умеряют свое бурное течение в бесконечных льяносах. На юге он неоднократно одерживал победы над королем Гатун-Колла и сделал своим вассалом короля Чукуито. К северу он расширил свое царство до Кахамарки и Кончукоса. И так как на западе отец ничего не оставил ему для завоевания в области горных долин, то он спустился к берегам Тихого океана, за долину Римака, и подчинил все побережье скипетру инков. Эти походы, которыми он руководил лично или поручал их своему брату, а впоследствии наследнику, часто длились годами. Под его управлением военная организация достигла описанного выше (стр. 322) совершенства. Особых мероприятий требовала война на морском побережье. Первые попытки проникнуть туда стоили инке необычайно больших потерь. Его воины-горцы не могли переносить жаркого климата побережья, и лихорадки явились грозными врагом, против которого они в начале оказались бессильными. Но когда он стал сменять войска, сражавшиеся в береговой области, через короткие промежутки свежими силами, отправляя их для отдыха в горы, то ему удалось стать твердою ногою вплоть до самого моря. Раз достигнув его, он нашел в самих береговых племенах привычных к климату наемных воинов. Обычай выступать против врага сильно вооруженным и затем строить ему золотые мосты к отступлению, был и его обычаем. В горах, как и на морском берегу, многочисленные племена и правители преклонились перед его необычайным могуществом, и ему не пришлось даже дать им почувствовать силу своего меча. К тем, которые покорились добровольно, принадлежало и жреческое государство Пачакамак в долине Лурина. Времена, когда инки являлись разрушителями храмов, отошли в область дальнего прошлого. Пачакутек лично поклонился богу, который пользовался таким же всеобщим почитанием на побережье, как Уиракоча в горах, и оставил неприкосновенным храм со всеми его сокровищами; он и сам прибавил к ним несколько ценных даров. Он лишь поставил побежденным условие, чтобы на вершине, которая возвышалась над городом и храмом Пачакамака, был воздвигнут новый, большой и роскошный храм его богу Инти, солнцу, подобно тому, как он приказал построить храм для Пачакамака в Куско.
Власть инков в обширных, недавно покоренных областях, еще не настолько окрепла, чтобы Пачакутеку не приходилось иногда там и сям подавлять восстания. Чанки весьма неохотно переносили иго инков. Ни постоянные гарнизоны в их стране, ни повторное ослабление их сил, путем отправки колонистов в более спокойные части царства, не в состоянии были сломить их мужества и умиротворить их. Когда они убедились в своем бессилии, они приняли решение скорее отказаться от старой родины, чем от независимости. Они поднялись массами и двинулись на северо-восток, где основали в Чачапойасе колонию, которая только при последнем инке снова соединилась с царством. Пачакутеку приходилось выдерживать еще другого рода столкновения внутри государства, но они уже не представляли серьезной опасности. Среди мужей инкского происхождения все еще было не мало таких, которые сознавали – ценою какого нарушения законности обязана была троном Куско династия, из которой происходил Пачакутек. В тиши образовался широко ветвившийся заговор, с целью устранить инку Пачакутека и вместо него посадить на трон потомка древней королевской фамилии, инку Урко. Пачакутек узнал, однако, своевременно об этих изменнических интригах и прежде, чем кто-либо из заговорщиков догадался об открытии интриги, инка Урко исчез из королевского дворца, чтобы никогда более не возвращаться.
Победоносные походы Пачакутека доставили ему огромную славу в направлении всех четырех стран света, и он с заслуженною гордостью мог назвать свое царство Тауантинсуйю, т. е. четыре страны света. Но еще более великий памятник он воздвиг себе внутренней организацией государства инков. Эта организация далеко превосходила все, что создано было в этом направлении на американской почве. Рассматривая Перу инков, как социалистическое государство, этим доказывают полное непонимание фактических отношений. Правление в царстве инков было теократически-абсолютическое; во главе его стоял инка, сын бога солнца и верховный жрец его, совмещавший в одном лице светскую и духовную власть. Он был неограниченным властелином над телом и жизнью, над имуществом и кровью своих подданных. Единственным законом для него были его собственная воля и обычай, и даже этот последний он мог изменять по желанию. Отсюда следует, что один лишь инка обладал настоящей собственностью; ему принадлежало все обширное царство и все, что в нем жило и трудилось. Всем остальным принадлежало лишь право пользования землею. Звучит несколько жестко, когда источники говорят, что треть земли служила на пользу государя, другая треть принадлежала культу солнца и только одна треть – народу. В действительности, однако, инка и солнце представляли нынешнюю казну, и значительная часть народа жила на их счет. Кроме того, народу предоставлена была часть земли по близости деревень и местечек. И так как первоначально они строились только на земле, годной для обработки, то отсюда следует, что лучшая часть почвы принадлежала народу. Далее, к земле солнца и инков относились обширные поверхности пун, высоких горных хребтов, на которых обработке земли мешала низкая температура. Здесь паслись большие стада лам, которые также принадлежали инке или солнцу: простому человеку воспрещалось обладать подобными животными.
Лама – единственное крупное домашнее животное, которым располагали туземцы. Правда, в некоторых местностях приручались и разводились различные виды домашней птицы, а также мелкие породы собак; но они служили только для питания человека и до некоторой степени заменяли дичь, все более исчезавшую. Одна лишь лама играла у древних американцев роль домашнего животного в высшем смысле слова, и человек пользовался ею и при ее жизни. В более ранние эпохи она никогда не служила ни для верховой езды, ни вообще для езды. Но ею широко пользовались, как вьючным животным, перуанцы возвышенности (климата побережья лама не выносила и поэтому не встречается там даже в эпоху инков). Не менее ценилось это животное, благодаря его шерсти. Шерсть ламы можно стричь, как у овцы, от времени до времени, при жизни, так как она вскоре заменяется новою. В царстве инков эта шерсть перерабатывалась почти в фабричных размерах. Как и самое животное, она составляла исключительное достояние инков, т. е. государства. Стрижка производилась слугами его. Затем чиновники должны были распределять между жителями сырую шерсть, сообразуясь с рабочими силами и потребностями народа; жители перерабатывали ее в готовый ткани не только для собственной одежды, но и для погашения государственных податей. Фабричное тканье шерсти производилось в домах дев солнца, акласах: это был род монастырей, где часто сотни девушек занимались, главным образом, прядением и тканьем. Здесь перерабатывалась во всей своей совокупности более тонкая шерсть вигони, дикой разновидности ламы, которую ловили, посредством больших облав, на время, исключительно для стрижки. Эти тонкие ткани предназначались не для простолюдинов; инки одевались почти исключительно в них. Для королевской фамилии и в особенности для правящего инки девы солнца должны были изготовлять большие запасы тончайших материй, так как обычай требовал от короля, чтобы он постоянно одевался в безупречно чистые, новые одежды. В провинциях акласы, без сомнения, перерабатывали и более грубые сорта шерсти ламы, которыми наполнялись королевские магазины, хранившие, особенно на случай войны, большие запасы шерстяной одежды для войска. Наконец, лама играла большую роль для поддержания жизни: охота не отличалась разнообразием и изобилием и поэтому не имела значения для народного питания. Правда, большая часть жителей держала и разводила птицу в домах и вблизи их; но затем оставалось только мясо лам, и известное число их ежедневно убивалось к столу инков. Но стада были так многочисленны и так сильно размножались, что от времени до времени ламы убивались большими массами и распределялись в народе, причем сам правитель кормил его. Лама обособилась, как вполне стойкая разновидность, от своих диких предков и родичей, гуанако и вигони, на что потребовался, конечно, огромный период времени. Отсюда следует, что приручение этого животного совершилось задолго до владычества инков. Но если этому культурному завоеванию начало положено и не ими, то все-таки они первые систематически занялись разведением и утилизированием ламы.
Во время одного из своих первых завоевательных походов инка Пачакутек покорил также местность Уилькабамбы и нашелъ здесь золотые рудники, которые обрабатывались туземцами. Хотя горное дело ограничивалось исключительно надземными работами, и первобытные способы разработки давали возможность эксплуатировать лишь самые богатые руды, тем не менее, изумительные запасы золота и серебра, найденные испанцами в царстве инков, показывают, что эта работа была не убыточна. Народ был обязан работать для инков и в рудниках. Но работа, которая от него требовалась, была не особенно тяжела; ему всегда оставлялось достаточно времени для удовлетворения своих личных потребностей. Но горнорабочий имел так же мало права на благородные металлы, которые он добывал, как не мог считать своей собственностью ни хлеб, возделываемый на земле инков, ни шерсть ламы. Золото и серебро, составляющие ныне мерила ценности во всем цивилизованном мире, не представляли собою в государстве инков, даже отдаленным образом, богатства и силы; они являлись лишь праздным украшением, лишенным цены в руках отдельных личностей и предназначенным, в действительности, для богов и королей.
В государстве, которое не имело денег и почти не знало собственности, отдельный гражданин не обладал ничем, что́ могло бы быть предметом налога. И сам он был только собственностью, рабом государства, которому служил, следовательно, частью своей рабочей силы. В более крупных поселениях значительная часть жителей уплачивала свою подать в форме различнейших ремесл, которые отчасти развились до заметного совершенства. Шерстяные и хлопчатобумажные ткани древнего Перу, хотя и изготовлялись при помощи весьма первобытных орудий, но все-таки отличались высокою степенью тонкости и прочности. Употребляя пряжу различных цветов, ткачи умели создавать сложные и искусные узоры. Еще более поражают перуанские гончарные работы разнообразием и почти всегда изяществом форм, богатством и стилем цветных украшений (см. рис. 4–6 и 8 табл. «Южно-американские древности»). В гончарных работах почти исключительно проявилось пластическое искусство их. До нас дошли почти из всех провинций царства инков сосуды в виде фигур в реалистических, но иногда и в очень фантастических формах (см. рис. 9 и 10 той же таблицы).
Поселянин отбывал барщину тем, что стерег стада лам или обрабатывал землю, принадлежавшую инке и Солнцу. Перуанцы не знали плуга и вскапывали землю посредством орудия, похожего на заступ. Они работали всегда в большом числе, располагаясь рядами, и поля их должны были иметь изборожденную поверхность. Земледелие служило основою государства инков. Оно считалось занятием, предписанным божеством, и каждый подданный государства был знаком с его приемами. Когда наступала пора для полевых работ, правитель инков, окруженный всем своим придворным штатом, с большой пышностью отправлялся в поле, посвященное Солнцу, вблизи Куско и, с религиозными обрядами, собственноручно открывал работы. Его примеру должен был следовать каждый из придворных. После этого, во всей стране чиновники приглашали подданных приступить к обработке поля. Каждый глава дома получал ежегодно определенный клочек земли для удовлетворения потребностей своей семьи. С увеличением семьи возрастал и надел, именно на половину нормальной доли на каждого сына и на четверть на каждую дочь. Самая земля оставалась собственностью государства и переходила к нему обратно со смертью или выселением владельца. Обработка производилась сообща под руководством надсмотрщика. Порядок работы был таков, что прежде всего возделывалась земля Солнца, затем земля отдельных граждан, в том числе бедных и больных, а также чиновников, и под конец земля инки. В местностях с более мягким климатом возделывались многочисленные разновидности маиса. Маньок, некоторые виды тыквы, бобы и еще некоторые овощи возделывались не столько в поле, сколько в садах, расположенных возле жилищ. Но на обширном протяжении царства инков эти питательные растения не прививались вследствие суровости климата. Здесь главный элемент земледелия составляло возделывание картофеля.
Перуанские инки не только обрабатывали обширные пространства земли, но применяли и интенсивную культуру. Они были знакомы одинаково хорошо и с орошением, и с удобрением полей, для чего после завоевания побережья пользовались гуано. Путем огромной затраты труда, они увеличили в своих узких горных долинах площадь земли, годной к обработке. На протяжении многих миль крутые горные склоны были разбиты на террасы, для чего потребовалось возвести каменные стены, и эти террасы заботливо орошались посредством каналов из реки, протекавшей по долине. Понятно, что это поле принадлежало исключительно инке, так как сумма труда, необходимая для его обработки, была выше сил отдельного лица и требовала для своего осуществления строгой организации. Наименьшую административную единицу образовала группа из 10 человек; она находилась в ведении низшего чиновника, который должен был заботиться о ней и вместе с тем контролировать ее. Каждыя десять подобных групп образовали округ, и чиновник, которому вверялась эта высшая единица, являлся вместе с тем контролером над чиновниками, поставленными во главе десятков. Следующую высшую административную единицу составляли каждые десять сотен, а десять тысяч, большею частью, соответствовали провинции страны. Высшее управление находилось, конечно, в руках инки, который имел для этой цели государственный совет в Куско. Кроме того, наместники провинций, избираемые преимущественно из класса инков (по скольку управление завоеванных областей не было оставляемо в руках прежних княжеских родов), а также начальники меньших округов, должны были, от времени до времени, отдавать отчет центральному правительству частью лично, частью с помощью кипу. Таким образом, правительство имело всегда точные статистические сведения не только о числе жителей каждой провинции и работоспособности их, но и о запасах и вспомогательных средствах, которыми располагал каждый округ для покрытия своих потребностей и излишков их. Кроме чиновников высшей категории, надсмотрщики часто контролировались еще ревизорами. Если где-либо обнаруживалось упущение, то наказывали не только виновного, но и начальника, который должен был с точностью ознакомить своего подчиненного с его обязанностями и удостоверяться в выполнении их.
Простолюдин, гатунруна, не обладая собственностью, платил повинность еще военной службою. Инки не имели постоянного войска. Повидимому, более тщательное и продолжительное военное образование давалось лишь инкам и сыновьям благородных лиц из подвластных провинций. Каким образом гатунруна приобретал знания и навык, которые ему были нужны для участия в частых и дальних походах инков, это остается невыясненным. Но так как упоминается, что войска, отправлявшиеся в поход, и гарнизоны, содержавшиеся в беспокойных частях страны, регулярно сменялись, то нужно думать, что здесь существовала система, сходная с прежней системою в Пруссии. Гатунруна, после кратковременной действительной службы, возвращался к своей земле, а в известных случаях снова призывался к оружию, большею частью, лишь на ограниченный срок.
Существенная задача надсмотрщиков в десятках заключалась в том, чтобы следить за выполнением рабочей повинности, лежавшей на народе и распространявшейся и на женщин. Впрочем, на последних возлагались, главным образом, работы по дому и по хозяйству, уход за садом и домашней птицей, а в особенности прядение и тканье, которыми, как мы видели (стр. 332), они должны были удовлетворять не одни только домашние потребности. Лень считалась в государстве инков проступком, заслуживающим наказания. Женщины брали с собою работу даже тогда, когда отправлялись в гости к соседям, за исключением тех случаев, когда посещаемая принадлежала к высшему рангу, чем посетительница; в этом случае последняя должна была просить о предоставлении ей какой-нибудь работы. Чиновник общины обязан был уделять каждому жителю столько земли, сколько требовалось для пропитания его самого и жены его. Если случалось, что для осуществления этого не хватало земли, назначенной для народа, то бралась земля инков. Когда население во всей провинции настолько увеличивалось, что земля не в состоянии была надолго обеспечить его, то отправляли колонистов, носивших название mitimaes, или в места, реже населенные, или в новые провинции. Взяв на себя обязанность заботиться о пропитании каждого отдельного индивидуума, государство устранило бедность с наихудшими последствиями ее, нищенством и бродяжничеством; последнее предупреждалось, впрочем, еще обязательностью работы и воспрещением самовольно менять место жительства. Государство признавало также обязанность брать на себя, в чрезвычайных случаях, попечение о подданных. Благодаря всеобщему труду, хлебные магазины, находившиеся во всех провинциях, были всегда наполнены различными запасами в достаточной мере, чтобы удовлетворять всякой возникавшей нужде.
Понятие частной собственности было не совсем чуждо обывателю в государстве инков. Правда, земля и дом считались общей собственностью и после смерти владельца переходили к обществу. Но существование каждого было обеспечено с излишком, и этот излишек он мог употреблять, по своему усмотрению и желанию, так как о необходимом заботились государство и община. Находки в перуанских гробницах доказывают, что даже простонародье не было вполне лишено предметов роскоши, и эта личная собственность почти всегда клалась с усопшим в могилу.
Как скоро семья увеличивалась вследствие рождений, ей давался бо́льший надел. Юные граждане царства инков наслаждались беззаботною и продолжительною молодостью. Правда, родители обязаны были воспитать их и обучить домашним работам, но государство предъявляло требования к молодежи не ранее достижения 24-го года жизни. 25-ти лет их женили. Этот акт так же строго регулировался законами страны, как и вообще во всей жизни перуанского инки от колыбели до могилы исключалась всякая самостоятельность. Чиновники должны были вести списки лиц обоих полов, которые ежегодно в их округе достигали брачного возраста. Каждый год назначался определенный день, когда во всем государстве происходили бракосочетания. Молодые мужчины и молодые девушки, одетые в свои лучшие костюмы, являлись к чиновнику своего округа, который публично, но без особого церемониала, вручал каждому юноше молодую девушку. В тот же день этот акт совершался в Куско самим инкою по отношению к юношам аристократической крови. Симпатия молодых людей была для закона необязательна, но все-таки он принимал ее во внимание, по скольку не было к этому препятствий. Не разрешалось лишь жениться на девушке из своей местности. Юные пары получали нормальный надел земли, и община заботилась о постройке для них простого жилища. Так они вступали в ряды гатунрунов и принимали на себя все сопряженные с этим обязанности. Впрочем, в первый год, считавшийся медовым годом их брака, они освобождались от отбывания барщины. Рабочая повинность продолжалась до 50 года жизни. С этого времени, а равно в случаях временной или окончательной неспособности к труду, община брала на себя попечение об индивидууме до конца его жизни.
Подобно тому, как на мужчинах лежала воинская повинность, так инка и с женского пола брал кровный налог. Ежегодно чиновники должны были выбирать самых красивых и лучших молодых девушек на службу правителю и Солнцу. В каждой провинции инка имел свой дворец и при нем дом, в котором содержались эти молодые девушки, ведя трудовую, но комфортабельную жизнь. Каждый раз, когда инка приезжал в эту местность, он из их числа выбирал себе наложниц. Если эта связь влекла за собою беременность, то молодая мать возвращалась на свою родину, где она и ребенок ее содержались в высоком почете. Иною была судьба избранницы для служения Солнцу. Подобно королевским невестам, они также жили в монастырском уединении, и вели трудовую, но привилегированую жизнь. Для них, однако, являлось безусловно обязательным сохранение целомудрия. В случае нарушения этого закона, деву Солнца и ее соблазнителя ожидала мучительная смерть.
Едва ли можно допустить, чтобы инки отнимали у родителей детей в нежном возрасте с целью приносить богу Солнца кровавые жертвы. Возможно, что в древнейшую эпоху подобные жертвы и приносились богу Солнца и божествам многих народов, покорившихся впоследствии власти инков. Но при последних инках этот обычай был совершенно чужд самому духу государственной религии. Религия была в государстве инков гораздо более предметом политики, чем догмата. Поэтому позднейшие инки не препятствовали своим подданным различного происхождения молиться всем богам, каким они желали поклоняться. С их стороны было также лишь актом государственной мудрости, когда они разрешили в Куско жрецам строить храмы всех религиозных форм: этим достигалось согласие с властями, громадное влияние которых на массу было очень хорошо известно инкам. Но рядом с этим, главным образом, из политических соображений, они вводили в каждой вновь завоеванной провинции культ Солнца, как высшую и общую форму поклонения божеству. В Куско существовал верховный жрец бога Солнца, как бы управлявший жрецами всех святынь в стране, но настоящим религиозным главою был сам инка. Происходя от бога Солнца, он стоял ближе к последнему, чем высший из его жрецов. После своей смерти, он, как сын Солнца, возвращался к своему праотцу и сам становился предметом божественного поклонения. Недоразумения между королем и жрецами, которые так часто возникали в культурной области центральной Америки, здесь устранялись в силу полубожественного положения инков. По этой причине крутой переворот, произведенный инкой Уиракочей в сфере религиозной политики, нигде и никогда не вызывал ни малейшего осложнения, несмотря на то, что инка этим сразу создал армию опасных соперников для жрецов Солнца. Правда, за ними сохранилось их привилегированное положение и право владеть третьей частью земли; но даже сами короли инков приносили храмам Уиракочи и Пачакамака многочисленные и чрезвычайно ценные дары.
Трудовая жизнь масс нарушалась лишь празднествами, которые устраивались в честь бога Солнца. Ежемесячно жители каждой местности созывались чиновниками, по меньшей мере, один раз на праздничное пиршество. По этому поводу съедалось мясо ламы, пожертвованное народу инкою, и выпивалось изрядное количество маисового пива, известного под именем «аки». Пляска и песни увеличивали веселье. Такие же празднества устраивались по окончании всякой крупной работы: ими завершались полевые работы, сбор жатвы или какой-нибудь экстраординарный труд, напр., постройка дома, проложение дороги и т. п. Кроме того, существовало еще четыре больших праздника, общих для всей страны: Гатун-Раими, Куски-Раими, Ситуа-Раими и Уиракуи.
Гатун или Инти-Раими праздновался во время поворота солнца к лету (около 21 июня, ср. стр. 326). Это был первый и самый большой праздник, от которого велось летосчисление. Девять дней продолжалось празднество в честь возвращения согревающего светила, после того, как солнце достигало своего наибольшего северного склонения и начинало поворачивать назад. Первые три дня торжества были посвящены приготовлениям: каждый обитатель царства инков воздерживался от всякой пищи за исключением немногих сырых зерен маиса и небольшого количества воды, а женатые должны были воздерживаться и от половых сношений. Все огни тушились. В эти дни молодые девушки должны были испечь в каждом доме священный хлеб; то же самое делали девы Солнца для дома инки и его двора. Это было первое, что разрешалось есть по окончании поста. Самым торжественным моментом было утро четвертого дня. Как только забрезжит день, весь народ устремлялся из жилищ на площадь, на которой жрецы ожидали восхода дневного светила. Босоногая толпа широким кольцом размещалась вокруг жрецов в сидячем положении и неподвижно выжидала минуты, когда солнечный диск всплывет над горизонтом. Его приветствовали торжественным жертвоприношением.
Само собою разумеется, что праздник имел наиболее блестящий характер в самом Куско, куда к этому дню стекались высшие и почетные лица из всех провинций государства и собирались на главной площади Гаукайпата, окруженной королевскими дворцами. Одетые в богатые праздничные наряды с украшениями, они, также босые, смиренно выжидали, склонившись к земле, момента восхода солнца. Тогда король инков поднимался первым. В этот день он, как сын Солнца, вмещал в себе сан верховного жреца. В каждой руке он держал по чаше из золота, наполненной до краев акою. Приветствуя торжественною речью восходящее светило, он выливал чашу в правой руке в стоявший перед ним золотой резервуар, из которого дар проводился по золотым трубам до храма Солнца. К чаше в левой руке он сам прикасался губами и затем предлагал ближайшим к нему лицам и тем, кого он желал отличить, черпать из этой чаши напиток маленькими золотыми кубками. После этого инка вместе с верховными жрецами и высшими сановниками направлялся в храм, чтобы поклониться здесь изображению бога. Инка Пачакутек радикально обновил храм Солнца и расширил его, и этот храм, благодаря своим обильным украшениям из благородного металла, стал известен под названием Кориканча, т. е. «золотая оправа». Он представлял обширное собрание зданий, окруженных искусно сложенными стенами, и тянулся от базарной площади к горам. В большом дворе его и кругом возвышалось множество построек, из которых самою священною постройкою считался Зал Солнца. Здесь находилась святая святых: большой золотой диск, окруженный сиянием и расположенный таким образом, что каждое утро лучи восходящего солнца должны были падать на него. Стены и потолок, так же, как и алтарь перед этим диском и другими святынями храма, были в изобилии покрыты золотом, а вдоль стен располагались мумии усопших инков на своих носилках, тщательно сохраненные и обряженные в драгоценные одежды. Позади Зала Солнца находилось такое же помещение с изображением луны и мумий кой, королевских супруг, подаривших государству наследника; здесь все украшения состояли из серебра. Далее, шли святилища меньшей величины для других светил, небесных спутников Инти, и для земных – жрецов.
Когда во всех этих святилищах принесены были жертвы в виде питья и курений, инка возвращался на площадь, где ждала толпа. В этот день приносились большие жертвы не в закрытом дворе храма, как обыкновенно, но на открытой базарной площади. Прежде всего жрецы приносили в жертву молодую черную ламу: черные животные с равномерной окраской всего тела считались более благородными, чем белые, у которых всегда попадались темные места. Вообще черный цвет признавался священным и предпочитался инками. Жертвенное животное не привязывалось, но жрецы низшего разряда держали его в то время, как верховный жрец вскрывал ему живот обсидиановым ножем и вырывал сердце и внутренности, по которым предсказывал будущее для наступающего года. Затем животное разнималось на части и подвергалось жертвенному сожжению. Дла этой цели верховный жрец, при помощи зажигательного зеркала, которое он носил на сочленении левой кисти, зажигал новый огонь, и от этого огня получали новую пищу все очаги в городе. Этим исчерпывались главные церемонии, и всеобщее веселье вступало в свои права. Убивалось бесчисленно множество обыкновенных лам, при чем только кровь и внутренние части их приносились в жертву богу, а мясо съедалось народом. Следующие дни ознаменовывались едою и питьем, плясками, песнями и всякого рода увеселениями и разгулом, часто даже оргиями. Для народа праздник оканчивался девятым днем, шестым днем увеселений; инка и его свита продолжали пировать целый месяц и, несмотря на это, сетовали на кратковременность праздника.
Второй из всеобщих праздников, Куски-Раими, был посвящен земледелию. Он праздновался перед началом жатвы и представлял как бы процессию с молитвами, во время которых – после того, как руками человека сделано было все для созревания посева, – обращались с мольбой к богу Солнца, чтобы он своим небесным благословением даровал обильную жатву. Праздник завершался разгулом в течение многих дней, имевшим целью дать народу отдых после полевых работ.
Иной характер имел третий праздник, Ситуа Раими, совпадавший с временем весеннего равноденствия (в сентябре). Мнение, будто всякое несчастное или поразительное событие, относилось ли оно к отдельному человеку или ко всей стране, вызвано грехом, существовало и в царстве инков и нашло себе отражение в законах. Но если вина отдельного лица могла быть искуплена покаянием и карой, то все-таки она продолжала тяготеть над общиною, которой приходилось выносить на себе гнев злых духов, наполнявших воздух и землю. Праздник имел целью умилостивление или изгнание этих духов. Ему также предшествовал трехдневный пост и приготовление священного хлеба. Но, кроме этого хлеба, изготовлялся еще другой, с примесью жертвенной крови; им натирался каждый на восходе солнца четвертого дня, выкупавшись предварительно в текучей воде, чтобы освободиться от грехов. Утром главного праздничного дня происходило важнейшее торжество перед крепостью Саксагуаман. Инка Уаракоча начал строить это громадное укрепление в пять этажей из исполинских четырехугольных камней на возвышенности, господствовавшей над городом с северо-восточной стороны, еще в то время, когда нападение чанков грозило уничтожить совершенно беззащитный город. Пика Пачакутек довел это гигантское сооружение до благополучного конца. В день Ситуа-Раими четверо юношей из рода инков выходили из ворот крепости в полном вооружении и, размахивая копьем над головою, быстро направлялись на все четыре стороны, через город и поля. На встречу им всюду стремился из своих жилищ празднично одетый народ и приветствовал их громкими кликами, размахивая одеждой. На известных расстояниях их ждали в таких же одеяниях другие сыновья инков, которые принимали от них копье и несли дальше и дальше до границы полей. Здесь копье глубоко вонзалось в землю: этим изгонялись с полей злые духи. Ночью инки махали зажженными факелами и тушили их по ту сторону границ в водах, течение которых направлялось из страны. Этим изгонялись также духи тьмы. Последующее дни вновь посвящались увеселениям.
Если уже в праздник Ситуа-Раими инкские юноши играли главную роль, символически освобождая народ от грозивших опасностей, то четвертый большой праздник Гуаракуй был почти исключительно праздником класса инков, на котором народ мог только принимать участие в общем увеселении. Это было завершение испытаний, которым должны были подвергаться юноши инкской крови и сыновья благородных лиц из провинций, прежде, чем вступить в права взрослых.
Хотя инки употребляли все старания для поддержания верования, будто весь класс инков происходит от Манко-Капака и через него от бога Солнца, тем не менее, они не могли уничтожить воспоминания о том, что часть их касты не в состоянии была доказать своих родственных отношений к основателю династии. В древнейшие времена, кроме правителя Куско, еще некоторые другие мелкие члены династии присвоили себе титул инки Перуанского плоскогорья. Первоначально этот титул, как и названия Капак и Манко, означал лишь сан, а не родовое имя. Сомнительно, чтобы им оставлено было имя инков вместе с правами их после присоединения к государству сына Солнца. Существовал, однако, другой класс населения, который, без видимых родственных отношений, пользовался всеми преимуществами класса инков. Когда Манко-Капак явился в Куско, он был окружен небольшой группою приверженцев, с помощью которых вытеснил из города алькависков. Понятно, что эти спутники заняли в молодом государстве привилегированное положение. Впоследствии когда население столицы беспрерывно расширявшегося царства состояло из самых разнородных элементов, они и потомство их занимали самое почетное место среди жителей Куско и пользовались всеми существенными преимуществами, наравне с чистокровными инками.
Кроме того, род инков быстро увеличивался путем естественного размножения. Простолюдин не мог иметь более одной жены, но для всей касты инков этот закон не был обязателен, и правитель властен был делать исключение и для других; что же касается его самого, то он не только имел право обладать многими женами, но ему вменялось даже в обязанность оставлять по возможности многочисленное потомство. Правда, из всех жен правителя только одна носила королевский сан; она называлась коей и принимала широкое участие в приемах, обязательных для инки. Лишь инка Пачакутек издал закон, что коей может быть только родная сестра или ближайшая родственница правящего инки, с целью, по возможности, сохранить чистоту крови детей Солнца. Но помимо кои, инка мог иметь столько жен, сколько хотел. Если жены принадлежали к классу инков, то они и дети их считались законными. Часто, однако, случалось, что инка просил руки дочери одного из своих вассальных князей. Это считалось великою честью, как и тогда, когда инка выдавал своих законных или незаконных дочерей за сановников или вассальных князей. Браки между мужскими и женскими членами касты инков заключались таким же образом, как и в народе, с тою лишь разницею, что в Куско сам правитель совершал обряд бракосочетания. Юноша инкской крови мог выбирать по собственному почину только одну супругу и рядом с нею иметь наложниц. Часто, однако, правитель, после какого-нибудь выдающегося поступка родственника по крови или по какому-нибудь торжественному случаю, награждал его еще одною или несколькими женами. Некоторые правители оставляли после себя более сотни детей. Каждый из них делался основателем рода, название и отличия которого сохраняли воспоминание об общем происхождении. Все представители рода сходились в храме Солнца для поклонения мумии своего общего прародителя. По закону король был такой же неограниченный господин над телом и жизнью инков, как и над прочими своими подданными. На практике, однако, каста инков пользовалась привилегированным положением в государстве Тауантинсуйю. Так, рабочая повинность, обязательная для каждого в государстве инков, на них не распространялась. Они пользовались правом восседать за столом инки, когда инки были еще небольшой кучкою среди чуждого народа. Впоследствии этот обычай видоизменился таким образом, что из трети земли, принадлежавшей инке, он должен был содержать всю касту инков, как и всех вообще чиновников царства, хотя бы они не принадлежали к этой касте. Высшие светские и духовные посты занимались сыновьями из рода инков; тот, кто умел выдвинуться заслугами в своем положении, мог быть уверен в благодарности правителя, многие сыновья инков в столице и провинции обязаны были милости правителя большими дворцами и толпами слуг.
Привилегии, которыми пользовалась каста инков, оправдывались воспитанием, выпадавшим на долю ее. Молодыя девушки (ньюста) получали в более утонченной форме тоже воспитание, что и дочери народа и девы Солнца. Наоборот, молодые мужчины (ауки) не только получали тщательное образование, как было упомянуто выше (стр. 325), но и строгое воспитание, и систематическое физическое развитие. Все это завершалось по достижении ауки 16-ти летнего возраста, испытаниями, которые предшествовали празднику Гуаракуй и давали им право носить имя и знаки отличия инков. Испытания заключались в состязательном беге, единоборстве человека с человеком, роты с ротою и, наконец, двух отрядов войска, из которых один должен был защищать крепость, а другой нападать на нее. Они должны были выносить усилия и боль, не издав ни одного звука, а также доказать, что сами умеют изготовлять себе одежду и доспехи. После счастливого окончания испытаний, юноши были представляемы королю их учителями, опытными инками и амаутами. Король награждал их знаками их нового сана; отныне они носили титул ауки и имели право называться инками. Каждому из них король просверливал золотою иглою ушные мочки, в которых они могли носить серебряные и золотые украшения. Это было настолько характерно, что испанцы назвали инков орехонет (orejones, т. е. ушастыми), так как ушные мочки, оттягиваемые вниз привесками, достигали очень большой длины. До этой поры юноши одевались просто, почти бедно. Но в этот праздничный день ближайшие родственники надевали на них тонкие сандалии, какие носили взрослые инки, опоясывали «уару» из тонкой шерсти вигони, и обвязывали повязкой (llautu) волосы на голове, которые они с этого времени коротко стригли. Все эти знаки отличия делил с ними и сам правитель; с его «льяуту» спускались тонко скрученные бахромки из красной шерсти (у достигшего совершеннолетия наследника они были желтого цвета), до бровей. Правый висок его украшала толстая кисть такого-же цвета, «паича» (paicha).
В государстве, правитель которого является источником всякого права и закона, не может быть речи о настоящем правосудии. Чиновники, которым был поручен надзор за народом, решали вместе с тем, что́ дозволено и что́ наказуемо. Так как собственности не было, то не возникало и денежных споров, не существовало и денежной пени. Кто совершал преступление, тот являлся нарушителем повелений инки, наместника высшего божества, и поэтому почти всегда наказывался смертью через задушение, избиение, сбрасывание со скалы или пронзание стрелами. Одна лишь дева Солнца, утратившая целомудрие, замуровывалась живою в стену, а соблазнитель ее, а с ним и вся семья, которая родила и выростила такого изверга, были умерщвляемы; место, где находилось его жилище, посыпалось солью, – и там больше никогда никто не селился.
По мере расширения царства инков, приобретали все большее значение средства быстрого сообщения. Уже в раннюю эпоху внимание инков было обращено на вопрос о том, как одолеть высокие горные кряжи, пересекавшие отдельные горные долины, как перейти бурные потоки, низвергавшиеся оттуда в более низменные места. Когда инка Пачакутек предпринял поход против Гуилькабамбы, враги его думали остановить войско инки разрушением мостов черезъ Урубамбу. Однако, для инки это не послужило непреодолимой преградой: он вызвал мастеров из столицы и рабочих из всей страны, и не прошло нескольких недель, как был готов новый прочный мост. Здесь, как и везде, инка Пачакутек оказался великим организатором: он велел построить от Куско вниз до Кахамарки, на протяжении почти 100 миль, через проходы и долины, через болота и скалы, искусственную дорогу, остатки которой сохранились до сих пор. Еще в эпоху испанского господства эта дорога служила главной артерией сообщений, так же, как и дополнение ее, построенная инкою Юпанки параллельная дорога, которая вела на западе от дороги Пачакутека к побережью и вдоль последнего до Тумбеса, самого северного берегового пункта царства инков, недалеко от Гуаякильского залива. Перуанцы не знали повозок, и тяжести переносились только людьми и разве еще ламами; поэтому ширина дороги не превышала 5–8 метров, но с обеих сторон она была окаймлена несколько возвышенной оградою. В местах крутых отвесов дорога становилась еще у̀же, а там, где горные хребты разделяли долины, она шла нередко через перевал в виде ступенек. Там, где не было брода, через реки перебрасывались каменные, а в горах висячие мосты, сплетенные из волокон конопли и лиан; на болотах парамосов и на водоразделах основанием дороги служили длинные мостки из толстых досок. На определенных расстояниях устраивались рядом с дорогою станции, тамбосы: это был окруженный стеною двор для вьючных животных, к которому примыкали 2–3 открытых комнаты для путешественников. Меньших размеров станции на еще меньших расстояниях служили на всех важных путях сообщения исключительно общественным интересам. Здесь останавливались гонцы, которые должны были в короткое время доставлять в столицу вести о важных событиях из отдаленнейших провинций. Какое значение придавалось быстрому бегу, видно уже из того, что он входил в программу испытаний для сыновей инков (см. выше стр. 325 и 340). У простого народа служба скорохода составляла одну из форм повинностей. На маленьких почтовых станциях всегда находилось несколько скороходов. Как скоро туда прибывал с какого-нибудь пункта утомленный гонец, он передавал поручение, устно или в виде кипу, другому, который с такою же быстротою доставлял его на следующую станцию. Служба была так превосходно организована, что, как передают, свежая морская рыба на столе правителя далеко не составляла редкости.
Быть может, несправедливо по отношению к прочим королям инков приписывать все благодетельные учреждения одному инке Пачакутеку. Но уже имя его доказывает, что он свершил нечто необычайное: Пачакутек значить «устроитель мира». Ему наследовал на троне Тауантинсуйю старший сын его, Тупак Юпанки, который, подобно отцу, совмещал военную славу с сильным, дальновидным внутренним управлением. Уже при нем царство инков достигло почти во всех направлениях тех размеров, какими оно обладало в эпоху завоевания. Он завершил подчинение царства чимусов (см. стр. 311) и простер свои завоевания вглубь Кито. С другой стороны, он превратил союзы с правителями, жившими в окружности озера Титикака, в прочное главенство, которое он расширил в направлении Чили, до Рио Мауле. Инки не придерживались той политики, чтобы во вновь покоренных областях тотчас вводить во всей целости организацию старых провинций, так тщательно обдуманную до мельчайших подробностей. Там, где они заставали уже аналогичные, более или менее установившиеся учреждения, как в царстве чимусов, процесс ассимиляции, вероятно, подвигался сравнительно быстро. Но другие провинции, древние установления которых существенно отличались от инкских, могли быть введены лишь постепенно в социальный строй инкского государства. Это доказывают частые возмущения против ига инков. Лучшим средством для борьбы с этими возмущениями правители инков считали колонизацию, и Тупак Юпанки, повидимому, применял ее в особенно больших размерах. Еще в эпоху испанского завоевания на озере Титикака не совсем исчез язык инков среди митимаесов (mitimaes), которых переселил туда Тупак Юпанки после завоевания царства чимусов. Этот инка был рьяным почитателем Уиракочи, к святилищу которого на острове Титикаки он предпринял паломничество после покорения Гатун-Коллы. Он воздвиг здесь новые постройки, а рядом с ними храм Солнца и дом для дев Солнца. В этом видна политика религиозных компромиссов, которая руководила инками со времени инки Уиракочи.
Когда на престол вступил сын его, Гуайна Капак, испанцы вступили уже на американскую почву. Трудно допустить, чтобы слухи об этом не достигли Куско. Подданные инков, жившие на побережье, привыкли вести широкую торговлю вдоль берега Тихого океана со своими северными соседями, и нет сомнения, что эта торговля велась при содействии и под контролем государственных органов. Но инки были слишком уверены в собственном величии, чтобы какое-нибудь предчувствие близкого конца могло смущать их благодушное настроение. Правление Гуайна-Капака характеризуется его отношениями к царству Кито, которые оказались столь роковыми для судеб его династии. Одним из первых актов его правления была месть жителям Кито за кровь убитых перуанских инков, которые поплатились жизнью при отпадении провинций, завоеванных инкою Тупак Юпанки. Это отвлекло его на целые годы от столицы. Уже в его время у инков развилось заметное предпочтение более мягкому климату северных областей. В Тумебамбе, где была его главная квартира во время похода, он построил дворцы, храмы и сады, отличавшиеся такою роскошью, какая до сих пор была известна только в одном Куско. Когда ему удалось, наконец, завершить покорение царства Кито, то, чтобы прочнее прикрепить эти владения к своей личности и своему царству, он взял себе в жены единственную дочь последнего правителя, принцессу Пакчу.
В домашней жизни Гуайна-Капак был не особенно счастлив. Еще при жизни своего отца, он, как наследник престола, согласно новым законам страны, взял в законные жены старшую сестру; но она не наградила его потомством. Тогда он взял еще двух жен из рода инков, младшую сестру и двоюродную сестру, с тем, что та из них, которая первая родит ему сына, получит права супруги. Вскоре после этого сестра его подарила ему наследника Гуаскара. Но во время его продолжительной отлучки в Кито мать и ребенок стали ему чужими; а Пакча, которую он, вопреки династическим законам, сделал настоящей супругой, хотя она не происходила из рода инков, стала ему вдвое дороже после того, как родила мальчика, отличавшегося уже в детстве живым умом и сердцем отца. Естественно, что Гуайна-Капак должен был неоднократно появляться в Куско, как центр государства; но каждый раз, окончив там необходимые государственные дела, он возвращался в свое любимое Кито. Здесь он провел большую половину своей жизни.
Северная граница была теперь почти единственною, где еще возможно было расширение царства инков. На западе океан являлся на протяжении тысяч километров границею страны. На юге владения инков простирались до Чили, горные страны которого, чем дальше, тем все более суровые, казались не заслуживающими труда завоевания. На востоке скипетру инки покорялось все, что населяло плодородные долины Кордильер. В пограничных бесконечных девственных лесах низменности оставались лишь дикие орды кочевников, которых немыслимо было покорить, так как они бесследно исчезали с приближением войск инки. И вообще нездоровый климат и невозможность отыскать необходимые для пропитания средства побудили инков отказаться от завоевательных планов в этом направлении. На одном лишь севере манили к себе страны, где жизненные условия напоминали родину. Здесь Гуайна-Капак неоднократно пробовал силы своего оружия. Кито представляло для этой цели удобное место отдохновения и сборный пункт. Едва-ли когда-нибудь Пакча сопровождала своего супруга в Куско, где она не могла ожидать доброжелательного приема со стороны инков, ревностно оберегавших чистоту крови. С другой стороны, мать Гуаскара также едва ли сопровождала своего супруга в Кито. Но молодой принц, в сопровождении большой свиты старших родственников, побывал там, по меньшей мере, один раз, чтобы услышать из уст отца, какого порядка желал бы он в государстве после своей смерти. Гуайна-Капак не мог решиться совершенно лишить престола своего любимого сына, Атауальпу, который развивался быстро к величайшему удовольствию своего отца, сопровождал всюду во время путешествий и особенно в походах, и живой ум которого сделал его любимцем войска. Наоборот, Гуаскар развивался медленно; он обладал серьезным, тихим характером. Двор, покинутый правителем, брошенная и страдавшая койя и витавшая над ним самим опасность лишиться трона – все это легло мрачною тенью на его юность. Гуайна-Капак не решался, однако, сделать крайний шаг, изменить порядок престолонаследия. Но он постановил, чтобы царство Кито, как независимое государство, управлялось его любимым сыном, Атауальпою; Гуаскар должен был получить царство инков в том объеме, в каком принял его сам Гуайна-Капак при вступлении на престол. Гуаскар с радостью взял на себя обязательство не тревожить брата в его владениях и оставаться в хороших дружественных отношениях с соседом. Для него такой порядок означал освобождение от кошмара гнетущих забот. С другой стороны, и для Атагуальпы это был благоприятный исход: более блестящее положение едва-ли когда-нибудь занимал второй сын инки. В нем снова как бы возродился королевский род Кито. Недовольны были только легитимисты при дворе Куско. Им казалось преступлением такое нарушение единства царства в силу произвола Гуайна-Капака и потеря для страны Солнца провинции, которая при двух королях была куплена кровью их подданных, – и все это ради незаконного, бесправного ребенка. Однако, перед неограниченным могуществом Гуайна-Капака все должно было преклониться. И когда он через несколько лет погиб в своем любимом Кито от оспенной эпидемии в полном расцвете сил, то мог закрыть глаза с твердою уверенностью, что совершил все и для блага государства, и для своего любимца.
Рано развившийся Атагуальпа, который в течение многолетнего участия во всех военных и мирных предприятиях отца до некоторой степени познакомился с делами правления, тотчас же стал сам править государством, созданным для него волею отца. При этом он оставил при себе всех, кто стоял близко к Гуайна-Капаку при его жизни. Наоборот, в Куско крепко держались старых обычаев. В виду несовершеннолетия Гуаскара, принял бразды правления Совет регенства, образовавшийся из старейших родственников умершего правителя. В их глазах последние распоряжения Гуайна-Капака были недействительны, так как противоречили династической традиции; они признавали Атагуальпу лишь наместником инки в провинции Кито и потребовали, чтобы он, наравне со всеми членами королевской фамилии, явился присягать новому королю в Куско. Но когда на их вызовы Атагуальпа отвечал молчаливым отказом, регенты не дерзнули перейти к открытому нападению. Перемена наступила лишь с того момента, когда Гуаскар, после обычных приготовлений, среди блестящих празднеств, вступил на престол правителей Куско. Чтобы выяснить отношение, господствовавшее в Кито к требованиям, предъявленным легитимистами, Гуаскар потребовал от Атагуальпы возвращения и отсылки в Куско жен и сокровищ умершего правителя, остававшихся в Кито. Атагуальпа отверг это требование, ссылаясь на последнюю волю Гуайна-Капака; но при этом он ясно дал понять желательность дальнейших переговоров. Вслед затем Гуаскар отправил в Кито посольство, которому Атагуальпа обещал в самом близком будущем явиться в Куско. Он попросил лишь срока, чтобы подготовиться и предстать с торжественностью, соответствующей его сану, а также разрешения взять с собою большую свиту. Ослепленный инка охотно согласился на эти требования. В Кито начался период лихорадочной деятельности. Все старые военачальники Гуайна-Капака, которые оставались при дворе Кито из симпатии к принцу и из уважения к воле его отца, были приглашены к Атагуальпе и получили предписание реорганизовать свои отряды. При помощи сокровищ старого короля, нетрудно было вооружить солидное войско, которое двинулось против Куско небольшими отрядами, будто бы для образования свиты на пути верноподданнического путешествия Атагуальпы.
Когда инка понял, наконец, в чем дело, ему легко было, правда, призвать к оружию большие массы своих подданных; но эти толпы еще не составляли войска. В нескольких милях от Куско, недалеко от того места, где некогда инка Уиракоча в кровавой стычке отразил чанков, встретились войска обоих братьев. Молодые войска Гуаскара не могли долго держаться перед превосходною тактикою неприятеля. Сам Гуаскар, пытаясь пробиться сквозь неприятельские ряды в Куско, попал в руки победителей. Этим окончилось всякое сопротивление в государстве, и столица беспрекословно открыла ворота победоносному войску. Нельзя сказать, чтобы Атагуальпа благородно воспользовался свой победою. Под предлогом переговоров относительно будущего разграничения сфер владения между ним и Гуаскаром, он призвал в Куско всех, кто был инкской крови. Здесь полководцы его, установившие тиранический режим, схватывали и убивали каждого, вступавшего в город. Атагуальпа не мог простить, что инки не пожелали признать равным его, сына чужеземки, он пощадил лишь тех, кто с самого начала принял его сторону. Куско перестал быть сердцем государства. Атагуальпа избегал этого места, как свидетеля его жестокой мести. И в тех случаях, когда реорганизация государства должна была исходить из Куско, он возлагал ее на своих уполномоченных: сам он ограничился объездом центральных областей. Но еще до возвращения из этой поездки, до сведения его дошла весть, что на крайнем севере государства пристали к берегу чужеземные люди. То был Писарро с его спутниками.
Испанцев неоднократно упрекали в том, что они безжалостно уничтожили на почве Нового Света культуру, которая едва ли уступала их собственной и подавала наилучшие надежды на будущее. Романтическое увлечение жизнью и нравами прошлого, охватившее человечество в первую половину нашего столетия, распространилось и на Новый Свет. Цивилизация государства ацтеков, и еще более царства инков, изображалась как идеал государства, в котором правитель и народ, связанные взаимною преданностью, самым удачным образом разрешили задачу всякой политической мудрости – полнейшее соглашение высшей свободы и индивидуального счастья с общим благом. Но все вышеизложенное доказывает насколько подобное воззрение не соответствует действительному положению вещей в государстве инков. Нет сомнения, что государство инков замечательно разрешило задачу попечения государства о благе каждого подданного в отдельности в широком масштабе. Но эта цель достигнута была лишь беспримерною опекой, которая превратила отдельную личность в безвольную машину в общем механизме государства и почти совершенно лишила ее личной свободы.
Ошибочно также представление, будто можно было ожидать еще многого от дальнейшего развития древних американских культур. Ни царство ацтеков, ни царство инков не представляли высшей ступени непрерывно развивающейся эволюции. На культурной почве нового материка господствовали те же передвижения народных волн, как и на широких пространствах его, занятых нецивилизованными народами. И там, как и в Старом Свете, всякое появление на сцене новой расы на первых порах сопровождалось культурным регрессом. Так, господство майясов сменилось менее цивилизованными нагуасами, а перуанские инки или предшественники их вытеснили строителей Тиауанако, обладавших более высоким культурным развитием. Прогресс, которого они сами достигли на пути цивилизации, далеко не достигал общей культурной ступени их предшественников. И едва ли бы они особенно далеко подвинулись вперед. если бы не последовало вторжения испанцев. Царства ацтеков и инков в момент появления испанцев одряхлели и отцвели. В центральной Америке только незадолго перед тем всеобщая ненависть против ацтекского владычества разрушила союз трех государств, окружавших озеро – союз, который один только обеспечивал дальнейшее существование их; восстание же в тескуканской стране легко могло воспламенить общий пожар, который повлек бы за собою крушение царства Монтесумы. Что же касается царства инков, то оно, правда, переживало уже не раз внутренние династические революции, которые, однако не могли задержать его развития. Но едва ли оно также легко вынесло бы переворот, который должно было вызвать падение династии инков вследствие ожесточенной ненависти Атагуальпы. Кроме того, и в этом случае, не взирая на замечательную централизацию управления, размеры царства почти достигли пределов возможного для того времени. Только дряхлостью обеих культур и накопившимися в них зародышами разложения можно объяснить невероятно быстрый успех Кортеса и Писарро, которые, при помощи горсти голодных авантюристов, в состояни были разрушить огромные государства.
4. Открытие и завоевание
А. Христофор Колумб
а) Морской путь в Индию
В тех представлениях, которые существовали в XV веке относительно очертания земной поверхности, не оставалось уже места для новой части света. Правда, в ученых кругах тогда перестали сопротивляться учению о шаровидной форме земли. Но в народ оно едва только начало проникать, а множество других ошибочных воззрений было одинаково распространено и в ученых, и в неученых сферах. Книга Пиера д’Алльи (Petrus de Alliaco: «Imago Mundi») все еще служила катехизисом географических знаний, и с нею не в состоянии было состязаться ни одно из более новых сочинений по этому предмету. Вместе с тем и самый интерес к географии был долгое время очень ограничен. Схеластическая ученость с ее конструктивным методом испытывала такое полное самоудовлетворение, что не считала даже достойным труда изучать что-либо лежащее за пределами ее. Не от нее исходили также импульс, который, в конце концов, привел к тому, что человечеству сделался известным обитаемый им земной шар, во всей его совокупности.
Даже Крестовые походы, которые бесспорно дали значительный толчок к расширению знакомства с землею и обитателями ее, в общем все-таки вращались в пределах света, известного уже из преданий древности. Они способствовали, конечно, освежению этих знаний, там и сям вновь укрепили нити, порванные событиями промежуточных веков, но существенного и непосредственного обогащения географических знаний они не принесли с собою. Впрочем, Крестовые походы косвенно привели к этой цели путем более тесных соприкосновений между христианским и мусульманским культурными кругами. Учение Магомета уже в то время распространилось за пределы света, известного древним. Вызванные религиозными предписаниями оживленные сношения между священным городом Меккою и всеми странами, где жили приверженцы Магомета, обогатили прежде всего географические познания арабов; через них эти знания распространились и в Старом Свете и дали толчок к первым путешествиям, совершенными предприимчивыми итальянскими купцами, вроде Николо де Конти, Марко Поло и др., вплоть до дальнего Востока. Весть о неисчерпаемых богатствах и красотах крайнего Востока, в царстве великого хана, в городе Катае и на острове Сипангу. т. е. в Китае и Японии, очевидцами которых были сами путешественники или о которых они рассказывали со слов очевидцев, породила прежде всего в среде торгового сословия мощный импульс к расширению своих знаний, предприятий и торговых дел. Импульс этот не ограничивался их кругом. Более тесные сношения с Востоком показали, что христианство проникло дальше, чем думали прежде. Вместо легендарных рассказов о путешествиях апостола Фомы, который будто бы проповедывал Евангелие язычникам на дальнем Востоке, появились сведения о христианском государстве первосвященника Иоанна, которое, по ту сторону великой пустыни, замыкавшей древний культурный мир, жило уединенною, но счастливою и блестящею жизнью. Желание восстановить связь с этими дальними единоверцами и с помощью их открыть новые пути для Евангелия, терпевшего в Старом Свете все новые поражения, сочеталось с жаждою искателей приключений и торговцев найти сказочные сокровища Востока. Из этих элементов возникли первые попытки открытия пути в Индию.
Главными носителями этих идей были итальянцы, но политическое раздробление их отечества делало Италию неспособною к крупным предприятиям в этом направлении. Такой центр образовался, под влиянием благоприятных случайных обстоятельств, в маленькой Португалии. Это королевство, совершенно отрезанное от материка испанскими государствами, самой природой и политической необходимостью вынуждено было обратить свои взоры к морю. Многочисленная колония иностранцев, между которыми особенно много было итальянцев, оживляла еще более дух предприимчивости, присущей португальцам, и служила как бы посредником между ними и остальным обширным миром. В силу счастливого стечения обстоятельств, в лице инфанта Генриха, которому потомство дало название Мореплавателя, хотя он едва ли когда-нибудь вступал на корабль, явилась личность, внесшая организацию и единство в стремления христианства обрести новые области и способствовавшая
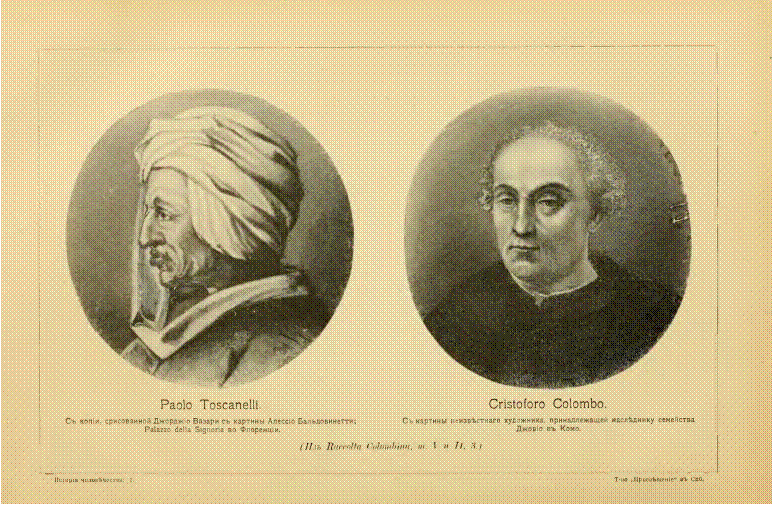
Старому Свету вступить в непосредственную связь с сказочным Востоком. Первоначально путешествия португальских кораблей с целью открытий связаны были только с жертвами и представляли не более, как теоретический интерес. Тем не менее, под влиянием все того же импульса, данного Генрихом, и в направлении им указанному эти корабли проникали все дальше и дальше вдоль африканского побережья. Впереди у них мелкала определенная цель – найти путь к богатствам Индии и в страну первосвященника Иоанна. Правда, конечная цель их была достигнута уже тогда, когда перед изумленными взорами Колумба и его спутников выступила из глубины Атлантического океана новая часть света. Тем не менее, деяние Колумба сделалось возможным, только благодаря их предприятиям.
b) Юность Колумба
Cristoforo Colombo или – будем называть его более общепринятым именем – Христофор Колумб (см. портреты, «Paolo Toscanelli и Cristoforo Colombo») родился около 1447 года. Он был сын ткача шерстяных материй и трактирщика Доменика Коломбо и жены его Сусанны Фонтанаросса. Отец Колумба неоднократно переносил свое местожительство из Генуи в Савону и обратно, так что невозможно с точностью установить, где собственно родился Христофор. При случае он называл своей родиною и тот, и другой город, хотя и не утверждал, что именно там родился. Но целый ряд других мест, присваивающих себе право считать Колумба в числе своих сограждан, не имеют для этого никакого основания. Христофор был старший из пятерых детей Доменика; три брата и одна сестра родились после него. Генуэзские ткачи шерстяных материй имели собственную цеховую школу, и Христофор Колумб посещал ее, но, конечно, высшего образования там не получил. Всеми знаниями, которые он приобрел с годами, – а знал он не мало для того времени, – он был обязан своей светлой голове и необычайной эпергии. Рано пришлось ему сделаться помощником отца в его ремесле, хотя мальчик не имел ни малейшей склонности к нему. Правда, он настоял на том, что совершил несколько поездок на купеческом судне, но, по возвращении домой, вынужден был опять приняться за свое ремесло. Во всяком случае, до 25 года жизни он все еще был связан с этим ремеслом. Но с 1474 года он исчезает из Генуи. Когда же, спустя два года, он снова появляется в Лиссабоне, то мы видим его уже настоящим моряком, который старательно стремится скрыть, что когда-либо был кем-нибудь иным.
Колумб не был великим умом, который, в полном сознании своего значения, мог с чувством спокойствия и удовлетворения окинуть взором свое прошлое. Подобно многим из современных ему соотечественников, он представлял собою искателя приключений, в котором значительная доля самодовольства и хвастовства соединялась с ловкостью и энергией. Из такого сочетания в сотнях случаев выходит шарлатан и, лишь в виде крайне редкого исключения, создается дельная личность. Он стыдился своего низкого происхождения и своего скромного ремесла: если верить его собственным словам, то он был благородной крови и смолоду служил моряком. Но так как мы в состоянии доказать, что это неправда, то имеем право усомниться и в его морских подвигах. Можно впрочем верить ему, что он проплыл по Средиземному морю до Леванта, что он познакомился с гаванями Атлантического океана, начиная от Англии на севере и до берегов Гвинеи, которыми оканчивались плавания португальцев. Повидимому, он не всегда плавал в качестве мирного торговца. Он совершил также каперское плавание на службе короля Рене. Это случилось приблизительно в 1472 году, когда Рене поддержал восставших барселонцев. К португальскому берегу он прибыл в 1476 году по случаю ожесточенной борьбы, которую пришлось выдержать венецианским путешественникам во Фландрию с кораблями страшного французского пирата Куллона. Но его деятельность в качестве моряка не могла долго продолжаться и ничем не выдавалась: в биorpaфии его, прослеженной с достаточной достоверностью, не оказывается времени для этого; знания же его не были настолько основательны, чтобы можно было предположить долгую и серьезную подготовку.
В Португалии Колумб провел много лет в мирной обстановке. Там он женился на Фелипе Монис, в жилах которой текла итальянская кровь, кровь знаменитого моряка Перестрелло. Этот брак, быть может, не остался без влияния на ход дальнейшей жизни его. В Португалии у Колумба созрел план западного путешествия в Индию. В этом отношении для него могли оказаться полезными материалы и связи, которые он мог приобрести через посредство родственников жены. Мнение, будто все открытие новой части света на западе досталось ему в виде тайны одного возвращавшегося домой и находившегося при смерти моряка, в то время, как Колумб гостил на Азорских островах, в доме своей тещи, – это мнение представляет столь нелепую сказку, что можно лишь удивляться, что она так долго держалась. План мог созреть у Колумба и помимо того. Мысль о возможности достижения Индии кратчайшим путем, если идти прямо на запад, все более укреплялась в уме португальских мореплавателей по мере того, как африканский материк, ими открываемый, растягивался далее и далее к югу, что̀ побудило их отклониться от восточного пути. Серьезное и основательное обсуждение практической выполнимости западного пути в Индию впервые выступало на очередь в этих сферах. Не довольствуясь рассказами португальских моряков и ученых, стали собирать также мнения по этому предмету иностранных знаменитостей в области космографии.
с) Паоло Тосканелли
Когда духовник португальского короля Фернам Мартинс обратился однажды с подобным вопросом к знаменитому флорентийскому врачу и космографу Паоло дель Поццо Тосканелли (см. табл. «Toscanelli и Colombo»), то последний в длинном письме изложил ему выполнимость западного путешествия в Азию. При этом он для пояснения, вероятно, в первый раз, нарисовал карту той части земли, которая была еще не исследована и которую надлежало раскрыть путешествием на запад. Это письмо и приложенная к нему карта впоследствии попали в руки Колумба, повидимому, незаконным путем. Таким образом, Тосканелли является духовным инициатором открытия Америки. Конечно, он столь же мало подозревал, как и Колумб, к каким результатам приведут его указания, – но если принять во внимание, что Колумб почти с рабскою точностью держался во время своего путешествия карты и указаний Тосканелли, то нельзя не согласиться, что последнему принадлежит весьма существенная роль в разрешении проблемы западного пути. И эта роль тем важнее, что он не является, подобно Колумбу, авантюристом, который руководился частью плохо переваренными понятиями, частью фаталистическими воззрениями, решившись поставить на карту ради безумной идеи потерянную жизнь. Здесь перед нами результат твердо обоснованного и тщательного научного исследования, которое оказалось, правда, не чуждым ошибок, но все-таки исходило из совершенно верных принципов. Весь план Колумба вообще возник лишь после того, как он ознакомился с доводами Тосканелли и усвоил себе его взгляды.
Уже из этой истории происхождения плана видно, что в развитии идей Колумба не играли никакой роли поездки исландцев и гренландцев на северо-американский материк. Правда, Колумб утверждал, что ему удалось проникнуть к северу на 100 миль по ту сторону Фулы; но, не говоря уже о том, что Фула представляет для XV века далеко не установленное географическое понятие, все описание его носит печать хвастливого вымысла. На дальнем севере, как известно, арктические острова образуют мост между старым и новым материками, и мы положительно знаем, что, независимо от открытия Колумба, по этому месту происходили сообщения между обитателями обеих частей света и в другом направлении, и с запада на восток и с востока на запад: эскимосы проникали до Гренландии, а исландские мореходы около 1000 года по Р. X. были прибиты восточными ветрами к берегам Северной Америки. Лейф Эриксон, а несколькими годами позже вдова его, вместе с Торфином Карлсевне основали на американской земле временные поселения северогерманских викингов, о которых сохранилось воспоминание в северных сагах. Эти поселения погибли, однако, уже через несколько лет вследствие неблагоприятных условий. Северные скальды не имели даже отдаленного представления о том, что Винландия и страна Гуитрамана – так называли они новооткрытые страны – представляют собою что-либо иное, чем простое продолжение цепи островов, которые тянутся от Исландш и Фарерских островов к Гренландии и дальше. Точно также весть об этом, если она вообще дошла до ушей Колумба, не могла иметь никакого значения при составлении им плана западного пути к сокровищам Индии.
Несравненно большее значение не только для Колумба, но и для Совета, обсуждавшего по поручению португальского короля возможность западного пути, представляли рассказы моряков. Атлантический океан в различных местах выбрасывал на берега Старого Света произведения, которые доказывали, что воды его омывали еще другую, совершенно отличную часть света. Из того факта, что эти вещи часто оказывались хорошо сохранившимися, заключали, что расстояние, отделяющее через океан восточный берег Азии – ничего другого не могли считать местом происхождения этих приносимых волнами предметов – не очень велико и что преодолеть его вообще возможно. К такому же выводу приводили описания немногих путешественников, которым удавалось добраться до владений великого хана. Они частью умышленно преувеличивали расстояния, частью неумышленно, вследствие уклонений от прямого направления. В силу того, пришли к убеждению, что расстояние от Европы сухим путем до Кинсая и Цайтуна должно обнимать значительно более половины окружности земли. Отсюда следовало, что расстояние морем, которое должен был пройти западный путь, было значительно меньше половины. Главное затруднение заключалось в том, что бо́льшую часть этого пути – и в действительности гораздо большую, чем тогда предполагали – приходилось пройти, не встречая суши. Правда, что раньше научились пересекать Средиземное море во всех направлениях, не принимая в соображение близости земли, но бассейн его был хорошо известен. Точно также корабли, которые поддерживали сообщение стран Средиземного моря с Фландрией, Англией и Германией, теряли иногда из вида материк на целые дни. В общем, однако, плавание по океану на всем протяжении от Гвинеи до Англии, носило каботажный характер; моряк знал, что земля близко, и что, в случае грозящей опасности, ему всегда легко добраться до нее. Можно убедиться, правда, рассматривая старые морские карты, что на Атлантическом океане намечено было множество более или менее обширных островов. Здесь мы встречаем Антилию, как остаток материка, об исчезновении которого Платон рассказывает в «Тимее»; здесь же были и острова св. Брандака, острова Семи Городов и мн. др. Но, хотя на картах все это выходило хорошо, моряки, пускавшиеся далеко в открытый океан, видели только на дальнем горизонте туманные полосы земли, которые всегда развевались при приближении к ним. Но то обстоятельство, что Колумб этим не смущался, что он пустился в безграничный океан сознательно, не встречая по целым неделям, а быть может, месяцам никакого материка, – это принадлежит лично ему во всем этом плане и заслуживает особенного признания и уважения.
Сколько правды в том, что Колумб в течение 14 лет настаивал перед королем Португалии на своем проекте западного пути, точно также нельзя установить. Но не подлежит сомнению, что он вообще провел в Португалии не 14, а только 8 лет, и что в течение этого срока он долгое время не находился при дворе, а занимался другими делами. Собственно говоря, мы начинаем несколько ближе знакомиться и с самим Колумбом, и с его проектом лишь с того момента, как он покинул Португалию. Сделал он это не совсем добровольно, но после совершения какого-то преступления, за которое его ожидало серьезное наказание. Он бежал из страны, взяв с собою лишь четырехлетнего сына Диего и бросив жену и остальных детей на произвол судьбы. Какого рода была его вина, об этом не упоминается. Указывали на неудачные имущественные дела, на столкновение с королевскими чиновниками, но, по всей вероятности, неблаговидный поступок Колумба имел скорее близкое отношение к его идее: это было незаконное присвоение письма и карты Тосканелли, т. е. материала, в котором он самым настоятельным образом нуждался для осуществления своего плана. В корреспонденции Тосканелли понятна и правильна лишь та часть, которая адресована к Фернаму Мартинсу; мнимое письмо к Колумбу, приложенное к ней, которое известно лишь в копии, сделанной Колумбом, содержит массу невероятных вещей, – и поэтому-то всегда так трудно было ориентироваться в этом вопросе. Но спрашивается: если Колумб открещивался от своих предков, от своего прошлого, если он изобрел для себя герб и родовитое происхождение, то почему он не мог сочинить также приложение к письму, черновик которого, если верить Колумбу, Тосканелли сохранял годами, а затем имел еще неосторожность сохранить обращение и подпись, чего Колумб не сделал даже в своей фальсификации? Этим объясняется также чрезвычайно просто, почему король Иоанн так охотно разрешил ему вернуться и обещал безнаказанность, когда сделалось вероятным, что Испания намерена попытаться осуществить проект, с которым не посчастливилось морякам Иоанна.
d) План путешествия
В Испании Колумб также не сразу встретил открытое сочувствие его планам. Два или три года боролся он и в этой стране с неблагоприятными условиями, прежде, чем ему удалось приобрести небольшое число доверчивых приверженцев, которых он убедил и которые помогли ему проложить путь к королю. В это время он поддерживал свое существование торговлей книгами и картами и при этом случае приобрел, вероятно, ту своеобразную начитанность, которою впоследствии щеголял во всех своих сочинениях. Одно время его приковала к городу древних калифов интимная связь с одною кордоанкою, Беатрисою Энрикес; но он был столь же мало верен своей возлюбленной, сколько и супруге. О сыне, которого она ему подарила, Фернандо Колоне, он заботился в течение всей жизни; этот сын прославился впоследствии своими сочинениями и библиотекою, которая и теперь еще хранится в Севильи. О возлюбленной же подумал он лишь, вероятно, под влиянием угрызений совести, перед лицом смерти, когда составлял духовное завещание. Дети не сопровождали Колумба во время его скитаний: маленький Диего был помещен в Уэльсе у одного шурина, а Фернандо оставался первое время при матери. И только когда цель была достигнута, и испанские правители привлечены были на сторону его открытия: дети Колумба были приняты на королевскую службу в качестве пажей и с тех пор разделяли все удачи и поражения отца.
Первыми убежденными приверженцами, которых Колумб расположил в пользу своих планов, были настоятель францисканского монастыря Ла-Рабида близ Уэльвы, фрай Хуан Перес де Марчена и врач лежавшего по близости городка Палоса, Гарсиа Эрнандес. Оба они в часы досуга охотно занимались вопросами космографии. Когда Колумб, после побега из Португалии искал убежища в монастыре, между этими лицами быстро возникла дружба, основанная на общих интересах, и эта дружба в последующие годы оказалась весьма ценною для Колумба. Пробыв недолго в монастыре, он отправился дальше, чтобы собственными силами проложить себе путь. Прошли, однако, годы прежде, чем вняли его планам, заключавшим в то время еще множество фантастических подробностей. Только в 1486 году сторону Колумба принял герцог Медина Сели и, по всей вероятности, он предоставил бы ему в родной гавани Пуэрто де-Санта-Мария, близ Кадиса, корабль для плавания, если бы королева Изабелла, заинтересованная, по рассказам герцога, планами Колумба, не пригласила его ко двору. Не легко было, конечно, Колумбу, с его недостаточно обоснованными и научно не разработанными идеями, предстать пред авторитетами духовной и светской учености, которыми Фердинанд и Изабелла окружили себя при дворе. Почти общее мнение было, что это – итальянский хвастун, и аргументы Колумба не были признаны убедительными ни в Кордове, ни в Саламанке, где он также должен был изложить свои планы перед ученым собранием. Ближайшая цель испанских правителей в то время заключалась в окончательном устранении последних остатков господства мавров на Иберийском полуострове, и эта задача требовала со стороны еще мало развитого государства сосредоточения всех сил. Поэтому Колумбу оставалось удовлетвориться тем, что королева, по крайней мере, заинтересовалась его планами, обеспечила его на год деньгами, – и предоставить дальнейшее движение их более благоприятному будущему.
Нетерпение Колумба было, однако, слишком велико для того, чтобы он мог ждать, и он уже принял решение идти дальше и предложить свои плапы другим монархам. Но здесь стечение различных обстоятельств ускорило осуществление его желания, которое превратилось для него в настоящую idée fixe. Он снова остановился в монастыре Рабида, решившись отправиться за сыном Диего, который во время его странствований оставался по близости у шурина в Уэльве, и вместе с ним переселиться во Францию. Однако, друзья Колумба были так поражены и заинтересованы его планами, которые к тому же приняли более ясный и определенный характер в течение переговоров, что настоятель монастыря просил его не уезжать, пока он не сделает последней попытки в пользу Колумба. Брат Хуаны Перес де Марчена был в прежние года исповедником королевы. Основываясь на этом, он решился еще раз горячо рекомендовать ей предприятие Колумба. Он застал королеву в лагере Санта-Фе у стен мавританской столицы Гранады в тот момент, когда ежедневно ждали падения этой последней вражеской твердыни. Этим должна была завершиться, наконец, великая жизненная задача испанского народа. Поэтому общее настроение должно было приподнять тон, и слова пастыря упали на благодарную почву. Колумб был еще раз приглашен ко двору, и ему было обещано, что с падением Гранады, даны будут средства для осуществления его попытки. Он прибыл как нельзя более своевременно и был свидетелем, как снят был полумесяц с башен Альгамбры и над замком мавританских королей водрузился лучезарный крест.
Тем не менее, в последнюю минуту еще раз грозила неудача. В голове Колумба планы приняли форму столь твердого убеждения, что этот авантюрист-пролетарий держал себя так, как будто он собирался подарить целое королевство. Он предъявлял требования, которые, в случае осуществления его целей, сделали бы его богаче самих правителей, от которых он теперь ждал подачки в виде нескольких тысяч червонцев. Он не только пожелал иметь на все времена определенную долю в материальных выгодах, которые принесут с собою его открытия, но требовал также для себя и своих потомков наследственного звания королевского адмирала на всем океане и вице-короля всех тех стран, которые будут присоединены к короне, благодаря его открытиям. Подобные притязания возмутили в особенности короля Фердинанда. Переговоры были прерваны, и Колумб уже покинул лагерь. Королеве Изабелле удалось, однако, склонить своего супруга к принятию условий удивительного человека. Договор был заключен согласно требованиям Колумба. И город Палос, который случайно должен был поставить для королевской службы несколько кораблей, получил предписание передать эти корабли в распоряжение Колумба.
е) Открытие Америки
Этим еще далеко не были исчерпаны все затруднения. Колумб, со своей стороны, должен был обязаться участвовать в расходах, для чего у него не было пока никаких средств. Затем, когда стало известно назначение трех кораблей, то оказалось, что в высшей степени трудно для них навербовать экипаж. И только, когда Колумбу удалось расположить в пользу своих планов семью моряков Пинсонов, пользовавшуюся в Палосе большим уважением, и добиться от нее материальной поддержки предприятия путем уступки части своих привилегий, он получил возможность надлежащим образом снарядить корабли для смелого плавания и сформировать экипаж. Наконец, 3 августа 1492 года маленькая эскадра выступила в море. Она состояла из «Санта-Марии», которою командовал сам Колумб, «Пинты» под управлением Мартина Алонсо Пинсона, и «Ниньи» под управлением Висенте Яньеса Пинсона. Это не были большие суда: «Санта-Мария» вмещала 120, «Пинта» 100 и «Нинья» только 80 тонн. Тем не менее, они оказались настолько практичными для предположенной цели, что когда в первом опьянении успехами были пущены в ход суда больших размеров, но с менее блестящими результатами, то снова вернулись к этому миниатюрному типу.
Как самую ценную вещь, Колумб взял с собою на борт карту Тосканелли, к которой он питал абсолютное и слепое доверие фанатика. На Канарских островах оказались необходимыми починки, которые задержали его еще почти на три недели. И только 6 сентября он отплыл, наконец, в неизвестный океан. Он держал курс строго на запад. И убеждение его в правильности этого курса было так непоколебимо твердо, что даже кажущиеся признаки близости земли не могли отклонить его от этого направления, хотя он считал их не противоречащими указаниям на карте Тосканелли. Для того, чтобы, по возможности скрыть от экипажа всю рискованность предприятия, Колумб вел двойной счет пройденному расстоянию, так сказать, официальный, где он всегда сознательно показывал слишком малые расстояния, и другой, тайный счет исключительно для себя, который давал ему возможность ориентироваться на карте. Тем не менее, ему не удалось поддержать непоколебимое мужество в простых моряках, составлявших его экипаж. Он вступил в область пассатов, где изо дня в день сильный восточный ветер надувал паруса, а страна, которую он чуть-ли не каждый день обещал им, все еще не показывалась. В неопытных спутниках росла тоска по родине. Не раз страх переходил в чувство враждебности к неизвестному, но высокомерному и хваставшему своими привилегиями чужеземцу, который не отличался к тому же выдающимися талантами моряка. Да и самому Колумбу, вероятно, было нелегко, когда каждый день лучи восходящего солнца однообразно освещали все ту же безбрежную поверхность. Но он не терял ни мужества, ни надежды, ободряя и других. Хотя начальники других кораблей также начинали терять веру в удачный конец предприятия, но все-таки они непоколибимо стояли на стороне своего адмирала и помогали ему подавлять попытки возмущения, в которых не было недостатка среди экипажа «Санта Марии». Наконец, в начале октября стали все чаще и чаще встречаться признаки, указывавшие морякам на близость земли. Колумб внушал матросам, стоявшим на вахте, особую бдительность и обещал награду тому, кто первый увидит желанную страну. В сумерки 11 октября Колумбу, а с ним и некоторым другими, показалось, что они видят вдали свет над водою. Однако, не ранее полного наступления ночи с «Пинты», которая шла впереди, раздался выстрел: то был сигнал, что действительно видна земля. Паруса были быстро спущены и курс остановлен. Прошла, впрочем, еще целая длинная ночь, и возбуждение мореплавателей достигло крайней степени, когда они убедились, наконец, что земля, столько раз возвещенная и все-таки постоянно ускользавшая от них, на этот раз не была призраком.
На заре 12 октября 1492 г. перед взорами Колумба и его спутников выступил из моря остров умеренной величины, покрытый зеленым лесом. И прежде, чем матросы успели сесть на спущенные лодки и добраться до берега, они уже были замечены оттуда. Бурые мужчины и женщины, лишь слегка одетые, глядели с очевидным изумлением на приближение чужеземцев. Когда матросы вышли на берег, эти люди оказались добродушным и безвредным народом рыболовов и охотников, очень бедных и стоявших на низкой ступени культурного развития. Эта страна была остров Гуанагани (нынешний Уэтлинг, см. «Карты к истории Америки»). Жители же его, которых испанцы назвали Indios в том убеждении, что достигли восточного конца Азии, были индейцы ароваки, которых здесь не успели еще вытеснить караибы. Хотя фактические условия далеко не соответствовали блестящим ожиданиям путешественников, но все-таки открытие земли являлось успешным окончанием предприятия Колумба. Из объяснений с туземцами, как они ни были недостаточны, выяснилось, что это – не единственный остров на океане. После торжественного богослужения, Колумб объявил открытую землю присоединенною к владениям католических государей Кастилии и Арагонии, а экипаж его, который от упадка духа и враждебности быстро перешел в противоположную крайность, провозгласил Колумба вице-королем и наместником.
В последующие дни почти каждый час приносил новые сюрпризы. После того, как корабли миновали еще целый ряд маленьких островов, 28 октября показалась обширная масса суши: это была восточная оконечность Кубы, которую Колумб назвал Isla Fernandina. Несколько дней шли они вдоль берега в направлении к западу, но конца не было видно. Тогда Колумб вернулся к первому месту, где бросил якорь, обогнул восточный конец и, плывя в юго-восточном направлении, достиг второго обширного острова, который назвал Эспаньолой (см. табл. «Колумб пристает к Эспаньоле»). Новизна всех впечатлений и тропическая роскошь природы слишком поглотили внимание путешественников, и они забыли, что нигде не встречали никаких признаков близости больших торговых городов восточной Азии, Цайтуна и Кинсая, на поиски которых они собственно отправились. Когда же они открыли у туземцев Эспаньолы немного золота, то Колумбу захотелось не столько продолжать свои открытия, сколько вернуться в Испанию и насладиться плодами своего успеха.
Однако, ему не суждено было вернуться, не выпив первых горьких капель из чаши своего счастья. Утром 22 ноября «Пинта» не ответила на сигнальный пароль с адмиральского корабля. Мартин Алонсо Пинсон, заключавший из мимических объяснений туземцев, что по близости должна находиться страна, богатая золотом, покинул своего адмирала и на собственный риск пустился в приключения. Это был первый пример эгоистического вероломства, за которым последовали бесчисленные другие в течение колониальных открытий. Дело сложилось еще печальнее, когда через несколько дней «Санта-Мария» села на мель и пришлось оставить ее, так что для обратного пути в распоряжении Колумба оставалось лишь самое малое судно, «Нинья». Но, к удивлению, во время приготовлений к обратному путешествию через океан, «Пинта» снова явилась к адмиралу, и Колумб, не столько по убеждению, сколько из благоразумия, посмотрел сквозь пальцы на экскурсии Пинсона. Оставив небольшой отряд добровольных поселенцев, они 16 января 1493 года пошли под парусами по направлению к родине.
До широты Азорских островов погода чрезвычайно благоприятствовала обратному путешествию. Только с приближением к родным берегам волны еще раз грозили поглотить тайну вновь открытой части света. «Пинта» была снесена далеко на север и, наконец, вошла в гавань Виго. Когда Колумб миновал опасности бури, он очутился на широте Лиссабона. Он испытывал высокое удовлетворение, когда с развевающимися флагами Кастилии входил в гавань того самого короля, который некогда отнесся с недоверием к его планам, ныне блестяще оправдавшимся. Приезд Колумба ко двору, пребывавшему в это время в Барселоне, походил на триумфальное шествие через всю испанскую территорию. Колумб торжественно предстал перед правителями, с которыми расстался, как нищий.
е) Дальнейшая судьба Колумба
Почти с самого момента прибытия Колумба, начались приготовления ко второму плаванию через океан, в несравненно больших размерах. Если при первом путешествии представлялось затруднительным навербовать достаточное число матросов, то теперь существовало затруднение иного свойства сделать надлежащий выбор между тысячами, которые желали быть отправленными. К этому времени относятся вообще первые мероприятия относительно регулирования переселенческого движения. 25 сентября 1493 года из Севильи отплыл во вновь открытую страну флот, состоявший из 17 больших кораблей и вмещавший более 1500 человек. Как и в первый раз, чудная погода благоприятствовала плаванию. Несколько измененный курс привел их сперва к острову Доминике и затем, мимо целого ряда новых островов, к Эспаньоле.
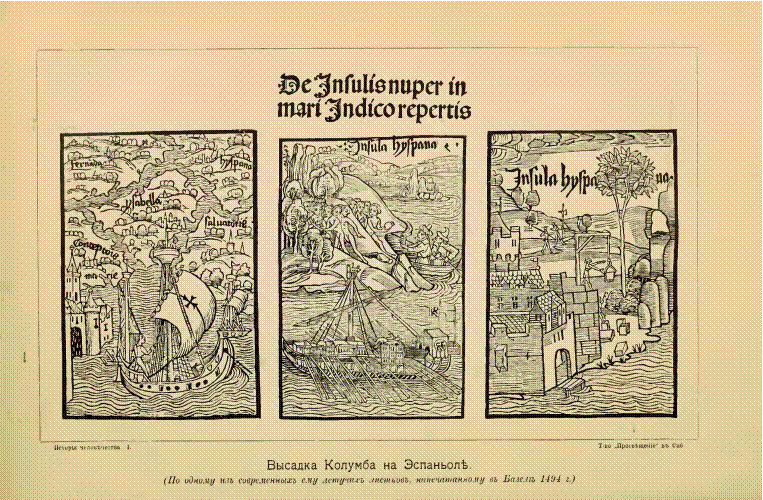
Но там начались разочарования. Оставшиеся после первого плавания колонисты не сумели поддержать хороших отношений с туземцами. Своей жестокостью они вызвали враждебность со стороны последних и, оставаясь в то же время беспечными, подверглись избиению до последнего человека. Чтобы ослабить впечатление этих известий на новых пришельцев, Колумб выбрал другое место для основания постоянного поселения. Первый город на земле Нового Света получил название Изабелы и быстро расцвел, благодаря соединенным усилиям многочисленных колонистов. В 1498 году Бартоломей Колон перенес поселение из старого города, и новая столица была названа Санто-Доминго. Большинством колонистов овладело, однако, сильное разочарование: здесь не было ни сокровищ, ни богатств, и каждого из них ожидал лишь тяжелый труд и обязанности, и разве только будущие поколения могли надеяться воспользоваться наградою за них. Рассказы тех, кто вернулся в Испанию, были поэтому далеко не благоприятны. Значение нового открытия все более и более подвергалось сомнению. Энтузиазм, который охватил все слои населения перед вторым путешествием Колумба, едва-ли когда повторялся в течение всей истории испанских колониальных предприятий.
Сам адмирал, основав твердую точку опоры на Эспаньоле, пустился в путь на новые открытия. При этом был открыт целый ряд дальнейших островов на Антильском море. И так как Колумб шел вдоль берега Кубы в течение многих недель и все-таки не достиг конца, то он был убежден, что достиг Азиатского материка. Запись, которую он составил по этому поводу, заключает в себе много забавного. Когда он вернулся в Санто-Доминго, он нашел настроение совершенно изменившимся. Уважение к нему среди разочаровавшихся колонистов было сильно поколеблено и еще более поколебалось под впечатлением вести, что и в эту последнюю поездку он не открыл богатых, населенных цивилизованных стран, которые ожидали найти в восточной Азии. Кроме того, следующая партия переселенцев, привезенная с родины братом его Бартоломеем, принесла весть, что слава Колумба значительно поколебалась и при дворе. И когда присоединились к тому несогласие и возмущение среди колонистов, он счел наилучшим очистить место и вернуться в Испанию, чтобы оправдать себя.
На этот раз Колумб имел возможность оставить вместо себя брата своего Бартоломея во главе юной колонии. И так как из всех братьев Бартоломей наиболее обладал административным талантом, то адмирал был вправе надеяться, что колонистов не постигнет вторично печальная участь первых поселенцев. При дворе испанских правителей Колумбу удалось без серьезных затруднений разбить взведенные против него обвинения и оправдать свой образ действий. После этого правительство снова предоставило в его распоряжение три корабля, и Колумб не мог устоять против искушения еще раз пуститься на открытие новых стран. При этом третьем плавании через океан он держал курс еще более к югу, чем в два первые раза. И встретив на этот раз лишь немного островов, он пристал, наконец, к берегу южноамериканского материка, приблизительно в том месте, где этот последний круто поворачивает на запад. Он плыл некоторое время вдоль материка, но на широте острова Маргариты повернул на север, прежде всего потому, что сам был болен и нуждался в отдыхе. После плаванья через Антильские острова, не представлявшего ничего любопытного, он благополучно прибыл на Эспаньолу. Космологические воззрения Колумба были так туманны и ненаучны, что, встретив на пути огромные массы пресной воды, которую волны Ориноко выносят на далекое расстояние в Караибское море, он, при описании своих открытий, пускается в самые фантастические рассуждения. Он полагал, что находится вблизи рая, и что миссия его, как Божьего избранника, несущего спасение, этим вполне подтверждается.
Во время отсутствия брата, Бартоломей Колон твердой рукой держал бразды правления. Но ему удалось установить до некоторой степени покой и порядок только путем выселения из колонии наиболее неспокойных элементов. Вокруг них вскоре сгруппировались все, которые так или иначе были недовольны управлением Колона. И вместо оставленного им мирного поселения, Колумб нашел два лагеря, враждебно стоявших друг против друга. Средства, к которым он прибег, чтобы положить конец такому состоянию, были самые неудачные, какие можно было выбрать. Он примирился с недовольными и не только даровал вожакам их безнаказанность, но и обещал вернуть им прежнее положение. Этим он добился, правда, подчинения сомнительных элементов, но в то же время безвозвратно утратил доверие тех, которые желали водворения права и порядка. И между тем, как первые, добиваясь уступки за уступкою, отвлекали Колумба от пути справедливости, вторые отказали ему в поддержке и обратились с жалобою на родину.
В этой путанице, созданной им самим, Колумб наконец сам растерялся и присоединился к ходатайству поселенцев, чтобы корона отправила за океан чиновника, снабженного широкими полномочиями, который подвергнул бы контролю способ управления вице-короля и восстановил бы право и порядок в расстроенной колонии. Фердинанд возложил это трудное поручение на Франсиско де Бобадилью, человека, доказавшего на родине свою опытность в делах управления и не раз отличавшегося в войнах с маврами. Тем не менее, выбор его оказался неудачным, так как совершенно особые условия в колониях требовали иного человека. Главная причина недовольства заключалась в ненависти к чужеземцам, которым во всем отдавалось предпочтение. Вследствие того они приобрели в колонии почти неограниченное господство и не всегда правильно пользовались им. Это чувство точно также им овладело и лишило его беспристрастия еще прежде, чем он достиг Эспаньолы. В силу судейских полномочий, данных ему испанскими правителями, он вправе был, конечно, с формальной стороны, лишить сана самого Колумба и его братьев. Вице-король не только сам безусловно преклонился перед волею короля, но склонил гораздо менее уступчивого брата Бартоломея к такому же образу действия. Однако, Бобадилья этим не удовлетворился и повелел заковать братьев Колон в цепи и в таком виде доставить их в Испанию, а все имущество их в колонии конфисковал в пользу короны. Это навлекло на него подозрение в партийном пристрастии, которое нисколько не смягчилось тем, что он подверг сильной каре многочисленных друзей и противников адмирала и в том числе многих испанцев.
Было что-то постыдное в разыгравшейся теперь драме: человек, который еще немного лет назад вернулся с триумфом, чтобы положить к ногам своих государей вновь открытый мир, сходил теперь на берег в цепях. Он взывал на этот раз к справедливости тех же правителей по отношению к их слуге, которого они уполномочили судить вице-короля. В Севилью был отправлен приказ немедленно освободить Колумба и препроводить его ко двору со всеми почестями, приличествующими его рангу. Этот акт был продиктован столько же благодарностью, сколько и справедливостью. Не могло также оставаться сомнения в том, что Бобадилья будет отозван. Тем не менее, правители не могли решиться на удовлетворение требований Колумба в полном объеме и на возвращение ему всех его прав и владений. Правда, произведенные расследования не раскрыли серьезных упущений со стороны Колумба, но все-таки они с несомненностью показали, что задача, которая выпадала на долю вице-короля, была ему далеко не по силам. Колумбу пришлось пока удовольствоваться тем, что все его привилегии были вновь подтверждены, как существующие, и что расследование жалоб со стороны колонистов было возложено, вместо Бобадильи, на другое лицо (выбор правителя пал на Николая де Овандо); самому Колумбу было воспрещено самым категорическим образом вступать на землю колонии.
Колумб был, однако, не такой человек, чтобы сидеть сложа руки, пока разрешался правовой вопрос, который, при его бездеятельности, пожалуй, мог принять даже неблагоприятный оборот. Правители, вопреки дословному смыслу договора, успели даже, без ведома и участия Колумба, дать разрешение другим лицам на путешествия с целью открытий. Чтобы упрочить свои права вице-короля над всею областью, которая сделалась известною, благодаря его открытию, Колумб решил возможно интенсивно отдаться исследованию страны, где все еще загадка всплывала за загадкой. В этом правители ему не препятствовали. И в четвертый раз даны были в его распоряжение четыре корабля, снаряженные для плавания с целью открытий. Ему была даже разрешена, на случай необходимости, остановка на Эспаньоле, но только на обратном пути. Колумб, однако, не стеснялся принятыми на себя обязательствами. Он направился почти прямым путем на Сан-Доминго и потребовал разрешения войти в гавань. Овандо с полным правом отказал ему в том, так как этим был бы только нарушен покой, едва восстановленный. Колумб выдержал под островом сильную бурю, которая, к его удовлетворению, поглотила множество готовившихся к обратному отплытию судов, а с ними и врага его Бобадилью, так как Овандо не пожелал обратить внимания на предсказание адмирала. Затем он повернул на юго-запад, достиг берега в Гондурасском заливе и в течение нескольких месяцев плыл вдоль берега на восток, потом на юг и снова на восток до Дариенского залива, где перешеек центральной Америки примыкает к южному материку. Во время этого плавания Колумб впервые услышал о существовании другого моря, на западе, и встретил первых более цивилизованных туземцев – юкатекскую торговую барку, на которой находилось 25 человек. Но вместе с тем он испытал сильную нужду и лишения. Эти страдания достигли высшей точки, когда последний из четырех кораблей наскочил на берег Ямайки, в то время еще не заселенной. Пришлось сидеть месяцами без всяких средств, пока удалось на рыбачьей лодке доставить оттуда весть в Сан-Доминго и вызвать помощь. Когда Колумб теперь снова вступил в свою резиденцию вице-короля, он был слишком надломлен душевно и физически и не представлял более опасности для спокойствия страны. После короткой остановки он возвратился в Испанию. Там ожидал его новый удар. Королева Изабелла, которой он был обязан осуществлением своего первого плавания и которая всегда являлась для него доброжелательной покровительницей, скончалась. Из-за наследства Кастильского трона поднялся спор между королем Фердинандом и его зятем, Филиппом Красивым Бургундским. Этот спор так исключительно поглотил всеобщее внимание, что во всей Испании никто в этот момент не имел времени интересоваться делами колонии и лица, открывшего ее, – тем более, что до сих пор и колония, и сам Колумб требовали все денег и денег, а желанные и столько раз обещанные богатства не открывались.
Колумб должен был отложить свои надежды до лучших времен. Ему не суждено было, однако, дожить до них. В тот момент, когда Колумб собирался представиться юному Филиппу, к которому перешла Кастилия, – против воли Фердинанда, Филипп принял на себя регентство вместо своей душевно-больной супруги, наследницы кастильского трона, – он заболел в Вальядолиде и умер 21 мая 1506 года, лишь немногими замеченный и оплаканный. Непостоянство, составлявшее черту жизни Колумба, преследовало и посмертные останки его. Сперва он был похоронен в Вальядолиде, в монастыре францисканцев. Затем, по настояниям его побочного сына Фернандо, эти останки были перенесены в маленькую церковь Санта Мария де лас Кувас в Севилье. Когда в 1537 году наследники Колумба были восстановлены в своих правах вице-королей Сан-Доминго, останки были перевезены туда. В 1798 году, когда испанцы должны были уступить остров Эспаньолу, кости Колумба были перевезены в Гавану и покоились в тамошнем соборе до настоящего времени. Когда же в последнюю войну Испания потеряла и этот остаток своих американских колоний, то решено было снова перевезти останки Колумба через океан в Гранаду, город, где осуществились надежды Колумба, и там похоронить их рядом с католическими государями.
В. Путешествия с целью открытий в первые два десятилетия XVI века
Колумб закрыл глаза в твердом убеждении, что открытые им страны принадлежат к азиатской части света. Когда, во время своего четвертого путешествия, он узнал, что Панамский перешеек омывается морем и с другой стороны, он объяснил это таким образом, что попал на полуостров Индо-Китай, противоположный берег которого омывается водами Индийского океана. Однако, еще при жизни Колумба открытия других мореплавателей начали колебать это убеждение. В то время, как Колумб в 1492 году вел свои последние переговоры с испанскими правителями и почти отчаялся в благоприятном исходе их, брат его Бартоломей старался заинтересовать в этом проекте короля Англии. Переговоры были близки к удовлетворительному результату, когда он узнал об удачном окончании испанских переговоров. Он прервал их; но Генрих VII, заинтересованный ими, поручил вскоре после того другому итальянцу, Джиованни Габотто, отплыть под английским флагом на запад для открытий. В двух быстро следовавших одно за другим плаваниях Габотто открыл часть северной Америки от Нью-Фаундлэнда почти до Флориды.
После третьего путешествия Колумба различные испанские моряки, принимавшие участие в прежних путешествиях адмирала, также получили разрешение самостоятельно действовать в смысле дальнейшего расширения открытий. Так, можно назвать Гохеду, который путешествовал вместе с знаменитым старейшим картографом Нового Света Хуаном де ла Коса и флорентинцем Америго Веспуччи (картинные, хотя и не совсем верные описания последнего в первый раз популяризировали знакомство с Новым Светом в такой степени, что, в конце концов, эта часть света была названа его именем). Затем еще в 1499 году Пералонсо Ниньо и Христобаль Герра (также в 1499 году) прошли вдоль северного берега южной Америки дальше пределов, достигнутых самим Колумбом. Висенте Яньес Пинсон и после него Диего де Лепе спустились далеко к югу до мыса Сан Агустина и первые открыли дельту Амазонской реки.
Более важное значение приобрело впоследствии другое открытие, сделанное совершенно случайно. 19 марта 1500 года из Лиссабона отплыл Педральварес Кабрал с 13 кораблями, чтобы, обогнув мыс Доброй Надежды, достигнуть Ост-Индии, до которой португальцы добрались, наконец, два года тому назад, во время своих путешествий на восток с целью открытий. С целью избежать опасного плавания вдоль западного берега Африки, он повернул в открытом море сильно на запад. Восточные ветры отнесли его еще дальше в этом направлении и 22 апреля он увидел берег Бразилии. Несколько времени он шел вдоль берега и от имени короля завладел им.
Такой образ действий непосредственно вытекал из договора, заключенного после открытия Колумба между Испанией и Португалией и касавшегося установления демаркационной линии. Правители Португалии, чтобы предупредить всякие споры относительно прав, еще в самом начале своих поездок с целью открытий добились разрешения от папы Николая V присоединять все страны, которые будут ими открыты в их плаваниях на юг и на восток. Но так как предприятие Колумба имело в виду сокровища той же Индии, которой португальцы еще не достигли во время его первого путешествия, то испанские правители поспешили по возвращении Колумба, с своей стороны, добиться санкционирования своих прав папою. Папа Александр VI поступил таким образом: все земли, которые находились к западу от градуса долготы, проходящего на 100 миль по ту сторону Азорских островов, от полюса до полюса, он отдал испанцам, а всю область к востоку от этого градуса он предоставил португальцам. Впоследствии в этом договоре для участвующих сторон сделано было такое изменение, что пограничная линия была передвинута на 370 испанских миль к западу от островов Зеленого Мыса. Испанцы при тогдашнем состоянии их открытий думали, что португальцам достанется разве несколько островов на океане и рассчитывали, что перемещение пограничной линии в направлении к неизвестному азиатскому востоку отдаст в их распоряжение обширные области. Но открытие Кабраля показало, насколько южно-американский материк выступал в восточном направлении в сравнении с широтами, открытыми Колумбом. Таким образом, значительная часть вновь открытой страны досталась португальцам. Правда, последние в первое время были настолько поглощены расширением и обеспечением своих ост-индских владений, что обращали мало внимания на западные колониальные приобретения. Король Мануель отправил туда две или три экспедиции на счет государства с целью ориентироваться относительно приобретенной территории. Но когда при этом не было найдено ни сокровищ, ни благородных металлов, ни ценных пряностей, то он предоставил дальнейшее расследование этих стран духу частной предприимчивости. В течение нескольких десятилетий дело ограничивалось случайными поездками немногих португальских купцов с целью доставления в Европу колониальных продуктов. Среди них особенно ценилось красильное дерево brasil, от которого страна впоследствии получила свое название. Во время одного из таких путешествий, именно в 1514 году, была открыта река Ла Плата, но в Португалии так мало интересовались всем этим, что никогда серьезно не формулировали и не защищали свои права на эти открытия.
Последние годы жизни Колумба и ближайшие годы после его смерти были употреблены не столько для новых открытий, сколько для организации и заселения приобретенных территорий. Сам Колумб основал лишь город Санто-Доминго на Эспаньоле. Он был против рассеяния поселений по всему острову, главным образом, потому, что колонисты ускользали тогда от его контроля, и он опасался, что, вследствие того, будут нарушены его права. Во время своего последнего путешествия, Колумб решил устроить второе поселение на побережье Верагуа. Пришлось, однако, снять его, в виду возмущения туземцев, прежде, чем оно успело достаточно окрепнуть. И только Николай де Овандо, который из личных интересов не без умысла отстаивал во всех организаторских вопросах противоположное тому, чего требовал Колумб, внес известный подъем в дело расширения испанских колоний в Новом Свете. Целый ряд новых городов на Эспаньоле обязан ему своим существованием; по его же распоряжению, Хуан Понсе де Леон занял в 1510 г. Пуэрто-Рико. По всей вероятности, он сделал бы гораздо более в этом направлении, но неуверенность в условиях колониального управления парализовала его деятельность.
Еще при своей жизни, Колумб заявил королю Фердинанду, что лично согласен отказаться от пользования дарованными ему привилегиями, если они будут перенесены в полном объеме на его сына Диего. После смерти отца, Диего настоятельно повторил это требование. И так как сначала ему предложили лишь некоторые финансовые выгоды, не обсуждая принципиальной стороны вопроса, то Диего начал тяжбу с правительством. По всей вероятности, дело тянулось бы до бесконечности, если бы Диего Колон не вступил в родственные отношения с домом герцога Альбы и не приобрел влиятельных заступников перед королем Фердинандом. Этим путем он достиг, по крайней мере, того, что в 1509 году вновь принял управление новооткрытыми островами, в качестве королевского губернатора и адмирала Индии. В 1511 году первая инстанция в возбужденном им иске присудила в его пользу все титулы, почести и привилегии, обещанные его отцу во всех открытых им странах. Диего Колон этим, однако, не удовлетворился. Сам он и потомки его еще многие годы судились с короною, чтобы отстоять свои права не только на открытия самого Колумба, но и на все то, что, благодаря этим открытиям, было впоследствии завоевано для испанской короны. Этот процесс, который, со всеми его бесчисленными осложнениями, грозил тянуться без конца и не делал чести ни той, ни другой стороне, утратил, однако, свое реальное значение вскоре после смерти Диего Колона, последовавшей в 1524 году. Законный наследник его был полнейший негодяй; чтобы выпутаться из всевозможных нечистых дел, он вступил на путь компромиссов и отказался от большей части предъявленных притязаний.
Когда Диего Колон был восстановлен в своих правах вице-короля, он точно также стремился фактически расширить колонизированную область. Первым шагом в этом направлении было основание испанского поселения на острове Кубе. Диего Колон возложил это поручение на Диего Веласкеса, который пользовался его доверием в течение многих лет. Но здесь с ним случилось то же, что в отношениях отца его к Мартину Алонсо Пинсону. Веласкес охотно принял на себя исполнение предприятия, все расходы которого нес вице-король. Когда же он стал твердою ногою на Кубе, то сообщил о своих успехах непосредственно двору. При этом он сумел представить дела свои в таком блестящем свете, что желание его было услышано, и он получил назначение губернатора острова, минуя авторитет вице-короля.
Первое поселение на материке также еще имело тесное соотношение с открытиями Колумба. Золото, найденное им в несколько больших количествах на побережьи Верагуа, привлекало в эти области внимание самого правительства в такой же мере, как и частных предпринимателей. Уже в 1508 году Алонсо де Гохеда, ветеран времен открытия, и Диего де Никуэса получили разрешение основать две новые колониальные провинции, которые должны были простираться на запад и на восток от залива Ураба̀, от океана до океана. Но предприятия их в течение многих лет терпели тяжелую неудачу, и оба они, среди превратностей своей судьбы, поплатились жизнью. В 1511 году была, наконец, основана на Дариенском побережье скромная колония под названием Санта-Мария ла Антигуа.
По всей вероятности, и эта колония погибла бы от недостатка средств к существованию и пассивного сопротивления туземцев, если бы не нашла, в лице Васко Нуньеса де Бальбоа, особенно подходящего правителя, умевшего пользоваться каждым успехом. Бальбоа недоставало титула, который санкционировал бы его руководящее положение. Поэтому он обратился в Испанию для утверждения павшего на него выбора лишенных начальника товарищей. В то же время он стремился отличиться пред правительством каким-нибудь выдающимся делом. Как некогда Колумб, он слышал от индейцев, что по близости есть еще другой океан. Выяснение этого вопроса казалось особенно настоятельным в тот момент, когда начинали сознавать необходимость дальнейшего поступательного движения в западном направлении. Благодаря своему умению обращаться с индейцами, несмотря на то, что он безжалостно подавлял всякую попытку сопротивления, Бальбоа свел трудности перехода поперек перешейка почти исключительно к физическим усилиям и лишениям, связанным с движением по мало населенной и нездоровой тропической лесистой стране. Однако, и ему пришлось потерять некоторых из своих спутников прежде, чем он, первый из европейцев, увидел с последних горных вершин на западе Тихий океан. Несколькими днями позже он занял побережье океана и все близлежащие острова. По пути он собрал много золота и жемчуга, что еще более увеличило значение его открытия. Ему не суждено было, однако, пожать плоды своих деяний. Еще раньше, чем дошла до Испании весть об его открытии, отплыл Педрариас Давила, как губернатор Дариенской провинции; недоверчивость его и зависть приготовили Бальбоа бесславный конец. Страна, открытая Бальбоа, обнимавшая Панамский перешеек вместе с прилегающими соседними территориями, сделалась старейшей провинцией испанского колониального государства на материке Америки. Благодаря своим сокровищам, она получила название Castilla del ого, золотая Кастилия.
Открытие Бальбоа впервые дало действительную почву сомнению – открыл ли Колумб восточный край Азиатского материка. Даже убедившись, что Южная Америка отделена от известных стран Азии и независима от них, все еще долго колебались признать то же самое в отношении северной половины американского материка. Вообще ознакомление с Южной Америкой делало более быстрые успехи, чем с Северной. Большую роль играл в этом отношении средневековый предрассудок, будто ценность произведений почвы возрастает по мере приближения к экватору. Соревнование между испанцами и португальцами, которое, впрочем, скоро прекратилось, также было причиною того, что путешествия с целью открытий, большею частью, совершались в этом направлении. Ему мы обязаны плаваниями Америго Веспуччи (1502) и Гонсало Коельо (1503) с португальской и Хуана Диаса де Солиса (1515) с испанской стороны. Они исследовали побережье Южной Америки далеко по ту сторону устья Ла Платы и подготовили пути к составившему эпоху плаванию Фернандо де Магеллана: последний, в поисках юго-западного пути к Пряным (Молукским) островам восточной Азии, с которыми в это время португальцы лучше ознакомились, обогнул южный конец Америки.
Достигнув при этом азиатских островов, Магеллан наглядно доказал ошибку Колумба и, таким образом, первый вполне осуществил его проект. Когда же экипаж Магеллана, после смерти своего начальника, возвратился домой через мыс Доброй Надежды, то впервые была разрешена практическим путем проблема шаровидной формы земли. Это плавание было несомненно для науки бесконечно богаче результатами, чем открытие Колумба, которое, конечно, послужило лишь необходимым вступлением к нему.
До этого времени колонии Вест-Индии мало оправдывали надежды, которые возлагались на них при открытии. Правда, на них найдены были некоторые полезные тропические произведения. Ввоз этих произведений в Испанию и снабжение ими колонистов, которые успели уже расселиться на обширных пространствах земли, но в отношении средств к пропитанию все еще зависели почти исключительно от метрополии, повлек за собою довольно ожпвленные торговые сношения между Испанией и ее колониями. Но так как сама Испания не стояла на высоте возникших перед нею колониальных задач, то в этом принимали значительное участие торговцы всех наций, и, главным образом, немцы. Для государства, однако, колонии были пока мало прибыльны. Снаряжение целого ряда экспедиций, создание необходимого административного аппарата внутри и вне новых владений, требовали значительных расходов. Старались увеличить доходы при помощи пошлин и налогов, между которыми первое место занимала пятая часть со всякого открывавшегося благородного металла, но все это давало лишь скромную прибыль. На Эспаньоле и Кубе, а также в некоторых местах материка найдены было золотоносные пески и началось промывание их. Золота было в них, однако, не много, и потому эта работа не доставляла большой выгоды. Кроме того, колонии сильно вредили себе тем, что обременяли туземцев непосильною работою, вследствие чего число их уменьшалось с поразительною быстротою. На островах, занятых раньше других, население почти вымерло в первую треть XVI века; колонисты, которые стремились лишь во что бы то ни стало быстро обогатиться в золотопромывальнях, чтобы затем вести праздную жизнь на родине или в самых колониях, являлись непроизводительным и даже опасным элементом населения.
Если положение вещей с течением времени приняло такой характер, что можно было, хотя и с сильным преувеличением, назвать испанские колонии «колониями рудников», то ответственным за это никак нельзя делать одно правительство. Последнее еще во время второго путешествия Колумба издало общее предписание, чтобы всякий корабль, перевозивший переселенцев в новую часть света, запасался в соответственном количестве не только хлебом для посева и семенами, но и кустарниками, деревьями и полезными растениями родины. Этим положено было начало опытам акклиматизации в различных колониальных областях. В числе первых подарков, преподнесенных испанцами Новому Свету, были европейские домашние животные. В Америке их было очень немного, и к тому же они принадлежали к животным мало производительным; но большая часть европейских домашних животных превосходно акклиматизировалась в Новом Свете. Лошадь не только сделалась предметом первой необходимости для туземцев в различных областях Америки, но даже размножалась путем свободного скрещивания. Рогатый скот также прекрасно размножался на американской почве. Живой скот служил одной из главных статей обмена в торговле между колониями, а кожи – одной из главных статей для нагрузки индийского флота. Столь же хорошо акклиматизировались овцы. Не особенно быстро распространилась между туземцами европейская домашняя птица; по истечении первой половины века, даже в таких местностях, где еще не бывала нога европейца, пионеров западной цивилизации встречал крик петуха. В колониях также очень рано производились опыты с менее простыми культурами. Правда, посадка виноградной лозы встречала некоторые ограничения, так как вино на самой родине производилось в размерах, далеко превышавших собственную потребность, и поэтому составляло одну из наиболее подходящих статей торговли для фрахта колониальных кораблей. Но, с другой стороны, возделывание сахарного тростника на Эспаньоле и Кубе впервые сделало поселенцев независимыми от непостоянных результатов промывания золота. С 1517 года, когда стали заменять индейцев, неспособных к напряженной работе в поле и рудниках, неграми, которые доставлялись с западного берега Африки, возделывание сахарного тростника по временам принимало значительные размеры. Первые опыты культуры шелковичного червя на американской почве относятся уже к 1526 году, хотя ни тогда, ни позже она не давала особенно блестящих результов. Одним словом, хоть уже с первых времен правительство обращало особенное внимание на широкую эксплуатацию благородных металлов и не могло с равным интересом следить за начатыми уже в то время опытами культур, то все-таки несправедливо было бы утверждать, будто с самого начала и позднее руководящей точкой зрения испанской колониальной политики была погоня за золотыми сокровищами. Нельзя, впрочем, отрицать, что она играла известную роль уже в планах открытия самого Колумба.
С. Завоевание Мексики
Если интерес правительства все более и более сосредоточивался на отыскании благородных металлов, то причину этого следует искать, главным образом, в ходе развития, который приняли открытия в третьем и четвертом десятилетиях XVI века. Колумб в свое время не придал особого значения встрече с юкатекской торговой баркой, и так как торговцы не имели на борту благородных металлов, то он заключил, что их не может быть в большом количестве ни на родине этих людей, ни в стране, куда они направлялись. Вследствие того, сравнительно высокая культура, с которою здесь впервые встретились открыватели, не обратила на себя внимание. И только когда стали тщательнее изучать поверхностно исследованные побережья Мексиканского залива, снова натолкнулись на полузабытую торговую нацию, а когда направились по следам ее, взорам изумленных европейцев представилась первая из американских сказочных стран.
Вполне понятно, что Диего Веласкес, достигнув столь крупных личных успехов в своей первой попытке колонизации на Кубе, возымел охоту и энергию к дальнейшим предприятиям. Уже через несколько лет (1517), он снарядил небольшой флот под командою Франсиско Фернандеса де Кордоба, поручив ему плавание вдоль берегов материка, между прочим, с целью меновой торговли с туземцами. Корабли достигли полуострова Юкатана, недалеко от юго-восточной оконечности его, шли затем вдоль берега в северном и западном направлениях и вернулись только тогда, когда в дельте Усумасинты им пришлось потерпеть от враждебности обитателей побережья. Они с удивлением рассказывали о массивно построенных храмах, в которых, на ряду с другими каменными изображениями богов, молились и кресту, о городах, в которых тысячи людей жили и занимались своими делами; о том, что это были не полунагие дикари, подобно большинству встречавшихся до тех пор туземцев, а люди, одетые почти как европейцы, часто даже в богатые и драгоценные одежды. Эти вести звучали так заманчиво, что на следующий год Веласкес решил отправить в те же страны вторую, более значительную экспедицию. Во главе ее он поставил своего племянника, Хуана де Грихальву. Новый флот увидел землю на острове Косумеле. Но когда испанцы там, как и на западе, увидели берег тянущимся в южном направлении, в них окрепло убеждение, что Юкатан представляет остров, и они старались обойти его кругом, по следам прошлогодней экспедиции. Но когда плывя далее к северу вдоль неисследованного еще побережья Мексики, они увидели, что позади берега поднимается гористая страна, то решили, что достигли материка. С этою вестью один из кораблей возвратился на Кубу. Сам Грихальва с прочими кораблями ездил вдоль всего берега мексиканского царства до Пануко на севере, производил меновую торговлю, собирал сведения, но не решался высадиться. Поэтому по возвращении ему пришлось выслушать самые серьезные упреки со стороны Диего Веласкеса. Правда, образ действий его дословно соответствовал полученной им инструкции. Но так как слухи об открытиях Кордобы и Грихальвы начали распространяться в колониях, и мог отыскаться другой, кто решился бы предупредить и оспаривать многообещающее открытие, то Диего Веласкес исполнился самых тягостных опасений. Уже с прибытием первого корабля начались приготовления к снаряжению новой экспедиции; по возвращении Грихальвы, работа закипела с двойной энергией.
Веласкес нашел предводителя и для этой новой экспедиции. Выбор его пал на Фернандо Кортеса, который, в качестве алькальда главного города Сант-Яго, был одним из наиболее уважаемых лиц на острове. В течение 15 лет, проведенных им в колониях, он приобрел большой опыт и обнаружил особенную деловую умелость. Из всех личностей, которые играли роль в распространении испанского владычества на почве Америки, Фернандо Кортес является одною из самых симпатичных. Он происходил из почтенной семьи в Медельине, получил хорошее образование и изучал в течение двух лет права. Уже в 1504 году он из увлечения отправился во вновь открытую страну, сопровождал Веласкеса при первой колонизации Кубы и долгое время состоял его личным секретарем. Открывшаяся возможность принять более деятельное участие в исследовании новой, много обещавшей полосы земли вполне соответствовала темпераменту и желаниям Кортеса. Поэтому он не только охотно дал свое согласие, но даже выразил желание покрыть часть расходов предприятия из своего личного имущества. Однако, самое увлечение, с которым Кортес отнесся к делу, вызвало недоверие со стороны подозрительного Веласкеса. Еще приготовления не были окончены, а он уже раскаивался в выборе Кортеса и был настолько нетактичен, что дал последнему заметить это. У Кортеса не было, однако, ни малейшего желания уступить. Не выжидая снаряжения своих 11 кораблей, он отплыл в гавань Тринидад, расположенную в более западной части острова. Здесь он получил приказание Веласкеса не отправляться дальше, пока тот не переговорит с ним лично; но это обстоятельство лишь побудило Кортеса ускорить свой отъезд. Местом для свидания с флотилией он назначил мыс Сант-Антонио на западной оконечности Кубы. Так как при подобных условиях правильное снаряжение кораблей грозило ему серьезными опасностями, то он решился на отчаянное средство: задержав насильственно два корабля, которые должны были вести провиант в Сант-Яго, он завершил свое снаряжение при помощи их груза. За уплатой он предложил обратиться к Веласкесу, на службе у которого он еще считался, по крайней мере, номинально. В средине февраля 1519 года Кортес мог, наконец, выйти в море. На борту его 11 кораблей находилось немного более 400 европейцев, около 200 индейцев, 16 лошадей и 14 орудий. Это был небольшой отряд в сравнении с тем, что̀ было достигнуто при помощи его; но все-таки, для условий того времени, – один из сильнейших экипажей, какие посылались для основания новой колонии. Плавание шло сперва известными путями – в Косумелу, потом вокруг Юкатана, в Табаско. Прежние экспедиции страдали от враждебности туземцев, главным образом, в этом последнем пункте; поэтому Кортес решился наказать их. Правда, приходилось братъ берег с бою; но при помощи мушкетов, орудий и особенно лошадей, сопротивление табасканцев было сломлено. Когда они почувствовали силу испанского меча, они изменили свое прежнее поведение, стали приносить дары и покорились.
Такому хорошему началу благоприятствовали еще два случайных счастливых обстоятельства. На побережье Юкатана удалось освободить из индейского плена испанца, который один только оставался в живых из всех товарищей, приставших к берегу за несколько лет пред тем. Знакомство его с местными наречиями и условиями оказалось чрезвычайно полезным для Кортеса, особенно в начале предприятия. Такую же помошь Кортес встретил в Табаско. В числе 20 рабынь, которых ему, между прочим, приставили туземцы в виде искупления, находилась женщина ацтекского происхождения, которая при крещении получила имя доньи Марины и, в качестве переводчицы, оказала весьма ценные услуги Кортесу. Она стала его возлюбленною, и, благодаря ей, он получил впервые более точные сведения о царствах ацтеков и политических условиях, господствовавших в них в то время. Эти сведения дали ему возможность составить смелые планы покорения ацтеков, которые он осуществил почти с непостижимым счастием.
Из Табаско Кортес поплыл вдоль берега до маленького острова Сан-Хуан-де-Улуа и неподалеку от него основал первое испанское поселение на мексиканской почве; он назвал его Вильярика-де-ла-Веракрус. На берегу он был дружелюбно принят ацтекскими начальниками. События в Табаско сделались известными и в столице Монтесумы, и мнения относительно того, как должно встретить чужеземцев, в Совете короля сильно разделились. К ужасу, вызванному поражением табасканцев, присоединились в данном случае суеверные представления, согласно которым Кетцалькоатль обещал своему народу со временем вернуться к нему через восточный океан (ср. выше стр. 287). Испанцы, которые имели при себе молнию, сверкающую из облаков, и коня, бегущего со скоростью ветра, вполне подтверждали, что они – дети бога облаков и ветра. Поэтому наместник побережья получил приказ принять чужеземцев дружелюбно и, по возможности, удовлетворять их желания, но тотчас же сообщать об этом двору и ждать дальнейших приказаний.
Если туземцы были поражены кораблями, огнестрельным оружием и лошадьми испанцев, то последних, в свою очередь, изумило искусство ацтекского писца, который для иллюстрации отчета, отправленного ко двору, довольно верно срисовал испанцев. Кортес присоединил к посольству наместника свое собственное. При этом он пояснил, что послан великим королем на дальнем востоке, чтобы поднести властителю Мексики подарки и передать поручение, которое он может, однако, изложить только устно. Ответ Монтесумы не заставил себя долго ждать. Он сопровождался богатыми подарками из золота и серебра, но гласил, что Кортеса просят этим удовлетвориться и отказаться от посещения самой столицы. Это было, однако, не в духе испанцев, и даже богатые подарки не могли склонить их к возвращению без всякого результата. Поэтому Кортес повторил желание предстать перед Монтесумою, но в то же время стал готовиться к посещению Мексики даже против воли правителя. И так как поведение ацтекского наместника побережья несомненно начало становиться все более и более враждебным, то Кортес, на всякий случай, стал искать союзников. Тотонаки, занимавшие далее к северу соседние страны побережья и лишь недавно насильственно подчинившиеся игу ацтеков, с самого начала отнеслись дружественно к испанцам и неоднократно предлагали им посетить свою столицу Семпоалу (см. «Карты к истории Америки»). Кортес отправился туда с частью своего экипажа и вернулся в Веракрус, настолько успокоенный, что считал возможным двинуться вглубь страны, имея такое прикрытие линии отступления.
Предварительно следовало, однако, восстановить полное единство среди маленького испанского отряда. В виду явных признаков враждебности, которые Диего Веласкес обнаружил под конец в отношении Кортеса, последний не имел ни малейшего желания предоставить ему плоды своих усилий, и в этом ему сочувствовало большинство его спутников. Веласкес испытывал теперь на самом себе то, что̀ он сделал в отношении Диего Колона при заселении Кубы. Кортес отправил драгоценные подарки Монтесумы с подробным отчетом прямо в Испанию и вместе с тем ходатайствовал о назначении его и спутников правителями страны, которую он обещал подчинить испанской короне. Лоцман Аламинос, который руководил всеми плаваниями вдоль побережья, должен был исполнить это поручение на лучшем из кораблей. Для того, чтобы предупредить всякое дезертирство, весь остальной флот был объявлен негодным к плаванию, посажен на мель и совершенно уничтожен. Когда это было сделано, приверженцы Кортеса объявили себя незавасимыми от Веласкеса и вновь избрали Кортеса своим военачальником. Сторонники Веласкеса сделали, правда, попытку воспротивиться, но были подавлены большинством после того, как над вожаками совершена была для устрашения кровавая расправа; остальные примирились с совершившимися фактами.
Уверившись, таким образом, в своих людях, Кортес двинулся внутрь страны, сопровождаемый многочисленными местными индейцами. Со стороны подданных Монтесумы испанцы не встретили открытаго сопротивления. Но так как, чем дальше подвигался Кортес, тем настойчивее Монтесума предостерегал его от посещения столицы, а в то же время индейцы – проводники вновь и вновь напоминали испанцам об изменнических приготовлениях, которые делались в силу тайного предписания ацтекского правителя, то испанцы шли постоянно готовые к бою. Они натолкнулись на открытую вражду лишь с вступлением в область Тласкалы. Храбрые горцы, веками успешно отражавшие всякие нападения со стороны соседей, не пожелали преклониться и перед чужеземными пришельцами. Произошла долгая и ожесточенная борьба, причинившая и испанцам значительные потери; но тласкаланцы убедились, наконец, что против огнестрельного оружия бессильна даже их бесстрашная храбрость. Они предложили испанцам мир и сделались верными и надежными друзьями их, как только узнали от тотонаков, что испанцы отнюдь не питают дружественных чувств к ацтекскому правителю и намерены тем или иным способом положить конец его тирании.
Отдохнув в стране тласкаланцев от напряженных переходов и битв и подкрепив свои военные силы тласкаланским вспомогательным корпусом, испанцы двинулись дальше и дошли прежде всего до Чолулы. Здесь их снова встретили послы Монтесумы, которые требовали, чтобы они остановились, и советовали вернуться. В то же время Кортес узнал от своих индейских союзников, что его со спутниками ожидало нападение при выступлении. Чтобы предупредить это, он захватил враждебных предводителей и отдал город на разграбление своим индейским союзникам. Они занялись этим так усердно, что даже большая храмовая пирамида Кетцалькоатля была превращена в груду развалин. Устрашенный Монтесума отрицал всякое участие в покушении и более не дерзал оказывать сопротивление испанцам.
Они беспрепятственно перешли через горный кряж Попокатепетля, спустились в долину Мексики и по плотине, идущей из Истапалапана, вступили в омываемый морем Тенохтитлан. Тысячи жителей его глядели на них с не меньшим изумлением, чем они сами на высокую культуру, которая встречала их здесь на каждом шагу. Сам Монтесума почти униженно вышел навстречу им во внутреннем городе, сопровождаемый многочисленной свитой, и отдал для постоя их дворец своего отца, который был как нельзя лучше пригоден для защиты, благодаря крепким стенам, окружавшим всю группу зданий. Сначала отношение короля к испанцам было, повидимому, очень дружественное. Правда, Монтесума с спокойным достоинством отклонил попытки обращения, но выразил готовность признать императора Карла V своим сюзереном и заплатить ему обильную дань благородными металлами и дорогими тканями. Его образ действий не был, однако, искренним: нападение, которое в то же время было сделано мексиканцами на испанцев, остававшихся в Веракрусе, как выяснилось, потом произошло по его приказанию. Воспользовавшись этим вероломством, испанцы заставили короля переселиться из своего дворца в помещение испанцев. Здесь они относились к нему более или менее, как к пленному. Он должен был с торжественной церемонией присягнуть императору и фактически передать власть испанцам. Подавив еще раз попытку посадить на трон, в качестве независимого правителя, другого члена королевской фамилии, испанцы вступили на совершенно мирный путь управления страною. Переход совершился бы без всякого кровопролития, если бы не последовали осложнения извне.
Несмотря на то, что Аламинос имел приказ плыть прямо в Испанию, не входя в сношения с колониальными гаванями, он не мог лишить себя удовольствия хотя бы тайно и на короткое время, завернуть на Кубу и там распространить весть о необычайном успехе Кортеса. Чем больше была добыча, тем сильнее должно было быть стремление Веласкеса не упускать ее из своих рук. Поэтому не удовольствовавшись донесением в Севилью о вероломном образе действий Кортеса, он напряг все силы и снарядил второй экспедиционный корпус с целью вырвать у Кортеса добычу прежде, чем он станет твердою ногою в новой стране. Панфило де Нарваэс, на которого Веласкес возложил задачу унизить Кортеса и принудить его к повиновению, располагал гораздо более значительными боевыми силами, чем Кортес, но у них не было единства. Вице-король Диего Колон, не касаясь пока правового вопроса, безусловно воспретил Веласкесу парализовать каким-либо насильственным вмешательством блестящие успехи Кортеса. Повторные протесты его посла, который сопровождал флот Нарваэса в Веракрус, не остались без влияния на экипаж; к тому же Нарваэс своими личными качествами не внушал к себе такого доверия экипажа, как Кортес. На требование передать город Вильярику, наместник Кортеса отвечал тем, что отправил посланных в Мексико к своему полководцу. Во время личных переговоров Кортес быстро понял, что ему не трудно будет отвратить от Нарваэса его людей. Поэтому, вступив открыто в переговоры с Нарваэсом относительно соглашения между ними на почве разграничения власти, он в то же время сосредоточил все бывшие у него в распоряжении боевые силы и, оставив в столице сильный гарнизон под начальством Педро де Альварадо, быстро двинулся на встречу Нарваэсу. Осведомленный наилучшим образом через посредство перебежчиков, он в темную ночь напал на лагерь Нарваэса, почти не встретив сопротивления. Сам Нарваэс, потеряв в битве глаз, был взят в плен, после чего почти все войско, им приведенное, перешло на сторону Кортеса. Лишь немногие, в том числе и Нарваэс, воспользовались разрешением вернуться на Кубу.
Легкая победа более чем удвоила боевые силы Кортеса: у Нарваэса было гораздо больше конницы и стрелков, чем у Кортеса. Эти силы вскоре настоятельно понадобились ему. В Тенохтитлане, тотчас после удаления Кортеса, стало заметно грозное брожение. Во время одного большого празднества, Альварадо узнал, что намереваются воспользоваться большим стечением народа, чтобы напасть на испанцев и освободить Монтесуму. Он счел более разумным предупредить это нападение, и сам напал на толпу и рассеял ее после ужасной кровавой расправы. После этого мексиканцы также перешли к открытым враждебным действиям и окружили испанцев таким тесным кольцом, что Альварадо вынужден был просить Кортеса о возможно скорейшей помощи. Поэтому Кортес, как только вновь организовал свои отряды, поспешно двинулся к Мексико. По пути испанцы всюду чувствовали изменившееся, недружелюбное настроение, но, тем не менее, путь был свободен, и им удалось соединиться с осажденными без серьезной борьбы. Слишком поздно понял Кортес, что этим он не только ничего не выиграл, но поставил все свое владычество, завоеванное с таким трудом, в зависимость от исхода одного какого-нибудь сражения. Как только он вступил в город, за ним закрылись все пути, и испанцы, хотя и в большем числе, очутились в таком же отчаянном положении, как перед тем отряд Альварадо. Сперва они попытались победить противника в открытом бою. Но вместо тысячей падавших, плохо вооруженных туземцев, появлялись все бо́льшие и бо́льшие массы их. Тогда Кортес попытался прикрыться авторитетом плененного короля, и появление последнего на ограде действительно повело к временному перемирию. Но когда Монтесума заявил, что он не в плену и повелел не препятствовать удалению испанцев, то ярость его подданных направилась и против него. Несколькими брошенными камнями он был ранен так тяжело, что через несколько дней умер. После этого борьба приняла еще более ожесточенный характер.
Теперь и Кортесу стало ясно, что он должен пробиться из города, чего бы это ни стоило. Но он был так тесно окружен врагами, что немыслимо было делать приготовления втайне. Почти с первого шага приходилось форсировать обратный путь через плотину, имеющую около двух километров в длину. Кортес выбрал для отступления ночное время в надежде, что опасность будет меньше. Но враги были уже давно подготовлены к этому. Они оказались на месте, сильно теснили его с обеих сторон и сражались с лодок, пробив в различных местах плотину. Град стрел и камней сыпался на отступавших. Кортес приготовил мосты для того, чтобы перебросить их через прорывы плотины, и через первый прорыв ему действительно удалось пробраться. Но уже на втором яростный натиск со всех сторон произвел такое необычайное смятение, что моста не удалось поставить. Массы тел падали в провал, и бежавшие устремились по ним к материку. И только там, у кипариса, который до сих пор оберегается, как памятник грустной ночи, noche triste, удалось до некоторой степени восстановить порядок. Понесенные потери были громадны. Две трети испанцев и еще бо̀льший процент туземных союзников пали или были взяты в плен, чтобы истечь кровью на алтарях идолов. Все орудия и большая часть ружей были потеряны и 46 из 67 лошадей убито. Из золотых сокровищ Кортес сохранил лишь пятую королевскую часть, а остальное отдал своему войску; но в ужасной битве почти все это погибло. Положение спасшихся, которые почти все были ранены, оставалось критическим, так как от ближайшей дружественной страны их отделяли еще сотни километров.
Кортес полагал, что враг еще не раз преградит ему путь. Поэтому он обошел озеро с северной стороны и, таким образом, действительно добрался через Теотиуакан до Отумбы, но здесь испанцам еще раз пришлось пробиваться сквозь подавляющую массу неприятеля (по счету Кортеса, численность врагов доходила до 200000). Победа досталась с величайшим трудом и, вероятно, только благодаря тому обстоятельству, что испанцам удалось убить неприятельского предводителя в толпе его воинов. После битвы они могли продолжать отступление несколько свободнее, но опасность миновала лишь тогда, когда они вступили на Тласкаланскую территорию. Тласкаланцы остались верны союзу, заключенному с испанцами, несмотря на все заманчивые предложения противников.
Прошли месяцы, прежде чем испанцы настолько оправились от ужасных трудностей отступления и пополнили свои ряды с островов, что Кортес мог подумать о новом наступательном движении. В последние недели 1520 года он покинул гостеприимную Тласкалу и прежде всего постарался восстановить славу испанского оружия покорением соседних народностей. Затем он напал на Тескуко для того, чтобы оттуда подготовить план завоевания островного города Тенохтитлана. Здесь он прогнал ацтекского наместника и сумел приобрести готовых помочь ему союзников, ловко воспользовавшись политическим положением Анагуака. Тогда Кортес оказался таким же превосходным организатором, как раньше проявил себя неустрашимым полководцем. Для войны против городов на берегу озера он отправлял, главным образом, союзников под предводительством небольших испанских отрядов. Сам он провел из Тескуко канал к озеру Мексико и в недоступном месте построил флотилю из 13 кораблей, которая, по открытии канала, выступила в озеро. Эта флотилия в состоянии была отражать назойливые нападения вражеских лодок. После этого начались, одновременно с суши и с озера, систематические нападения на один береговой город за другим. Последними пали города, которые господствовали над доступом к дорогам, проложенным по плотинам. Когда, наконец, флотилия Кортеса одержала решительную победу над флотом из лодок мексиканцев и последние исчезли с озера, как военная сила, испанцы получили возможность приступить к нападению на самую столицу.
Там Кунтлагуак, король, руководивший битвою «грустной ночи», умер после 4-х месячного правления. Ему наследовал правитель Гуатемоцин, не уступавший ему в храбрости. Уже после нескольких неудачных нападений, испанцы должны были убедиться, что немыслимо взять город штурмом. Однако, и систематическая осада, на которую решились неохотно, оказалась длительною и трудною. Каждая пядь земли, каждый дом защищался с необычайною храбростью туземцами, которые собрались в огромном числе в Тенохтитлан. И пока все входы в город со стороны воды не перешли в руки испанцев, корабли Кортеса не могли окончательно отрезать подвоз продовольствия осажденным. Несмотря на это, испанцы медленно, но неуклонно подвигались вперед. После почти 10-недельной осады они оттеснили противника в небольшую часть города, разрушая по пути все здания, чтобы иметь возможность пустить в ход свои лучшие средства борьбы, орудия и конницу. Тогда Гуатемоцин начал сомневаться в возможности отстоять истомленный голодом город. Он попытался уйти чрез озеро, но попал в руки испанцев. После того осажденные, наконец, перестали сопротивляться и 13 августа 1521 года геройские защитники покинули развалины Тенохтитлана.
Тотчас после этой победы, Кортес возобновил деятельность, которую вынужден был прервать вследствие появления Нарваэса на побережье. Податные списки Монтесумы дали ему возможность составить весьма точное представление о размерах и организации его царства. На этой основе он организовал провинции и регулировал подати. Для него было чрезвычайно важно, что весть о богатой и высоко цивилизованной стране, открытой, наконец, на американской почве и, благодаря его энергии, присоединенной к испанской короне, дала такой мощный толчек к эмиграции, какого не было со времени второго путешествия Колумба. Уже через несколько лет город Мексико насчитывал тысячи жителей, и Кортес, со свойственной ему эпергией, восстановлял разрушенные постройки. Рядом с этим на всей территории Монтесумы раскинулась сеть мелких европейских поселений. Уже в первый год такое поселение было основано на южном озере. В это время возвращение «Виктории», единственного из кораблей, отплывших в 1519 году с Магелланом, который совершил кругосветное плавание вокруг южной оконечности Америки и Африки, привлекло интересы к Молукским островам, будто бы находившимся в пределах испанского владычества. Возникло желание найти более короткий путь к этим островам сравнительно с тем, который был открыт Магелланом. Тогда в короткое время было построено в Сакатуле несколько кораблей, которые вскоре приступили к систематическому исследованию тихоокеанского побережья Мексики.
Некоторое время Кортес питал серьезную надежду отыскать проходы через центральную Америку. Это стремление и желание точнее установить южные границы завоеванной им страны, куда он, под влиянием своих успехов, с уверенностью расчитывал проникнуть со стороны поселений в Дариене, побудили его, как только позволило положение дел в центре провинции, снарядить две новых экспедиции. Одна, под управлением Педро де Альварадо, проникла через южно-мексиканское побережье Тихого океана в область майясских племен, которые жили в гористых местах на севере перешейка, в нынешней Гватемале. Альварадо сумел воспользоваться теми же условиями, которые помогли Кортесу одержать победу, именно распрями между начальниками отдельных племен. Хотя и здесь порою встречалось упорное сопротивление, и туземцы выказали такую же храбрость, как и защитники Тенохтитлана, но здесь, как и в других местах, они не в состоянии были долго держаться против испанцев. Поход доставил не только славу, но и богатые результаты.
Менее счастливым оказалось другое предприятие, которое Кортес, одновременно с первым, направил вдоль Атлантического побережья на юг. Начальник этой экспедиции, Христобаль де Олид, с самого начала был подозрителен Кортесу, который опасался, что тот поступит с ним так же, как раньше поступил сам Кортес по отношению к Веласкесу. Правда, Олид, объехав полуостров Юкатан, еще от имени Кортеса завладел страной в Пуэрто де Кабальосе и основал поселение под названием Триунфо де ла Крус. Но затем он обнаружил несомненное желание обеспечить за собою еще небольшую область между центрально-американской провинцией, организованной под названием Castilla del ого, и мексиканской провинцией Кортеса. Он привлек к себе из обеих провинций беспокойные элементы искателей приключений и, при помощи их, устранил добросовестных людей или запугал их. Случаю угодно было, чтобы многие отряды, которые Кортес посылал за Христобалем де Олид, исчезли без вести и не достигли цели; поэтому до главнокомандующего доходили лишь слухи о предполагаемом отпадении де Олида. В этом он увидел серьезную опасность. Стремления Кортеса добиться санкции его наместничества со стороны короля все еще не увенчивались полным успехом, и если бы Олиду удалось теперь вместе с Веласкесом самостоятельно укрепиться на юге, то Кортес мог бы поплатиться если не всеми своими владениями, то большею частью их.
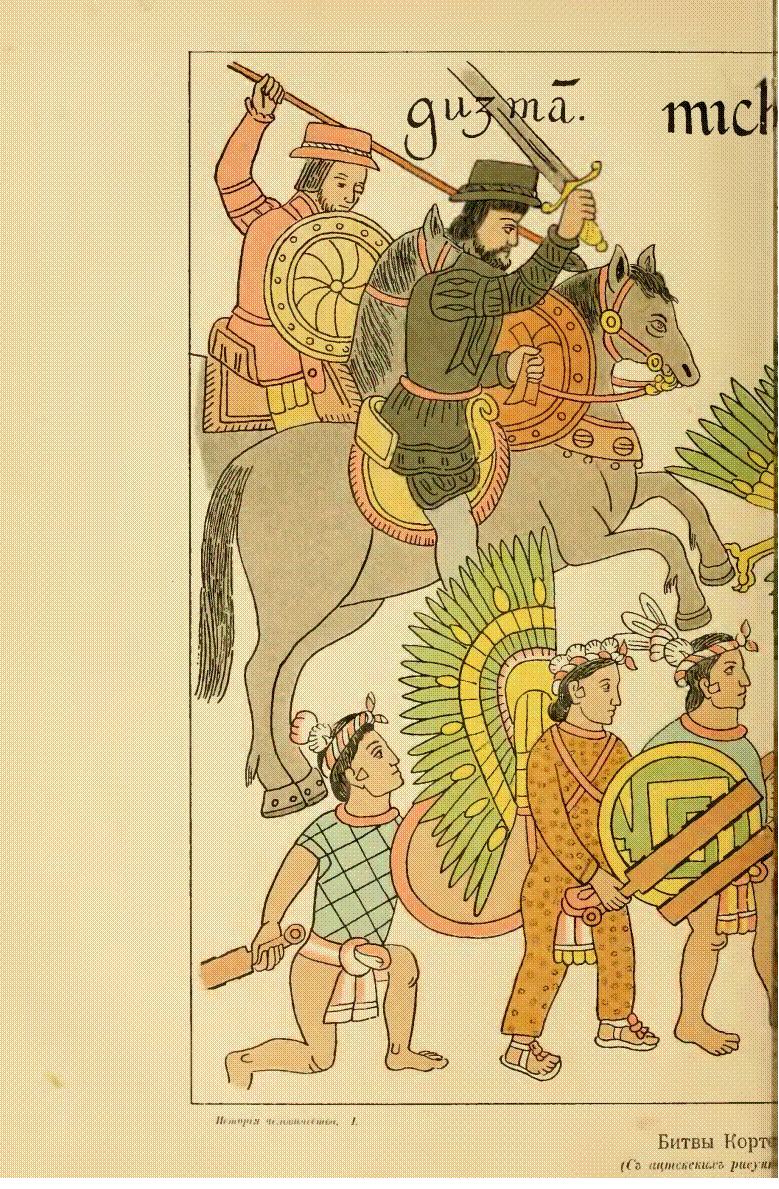
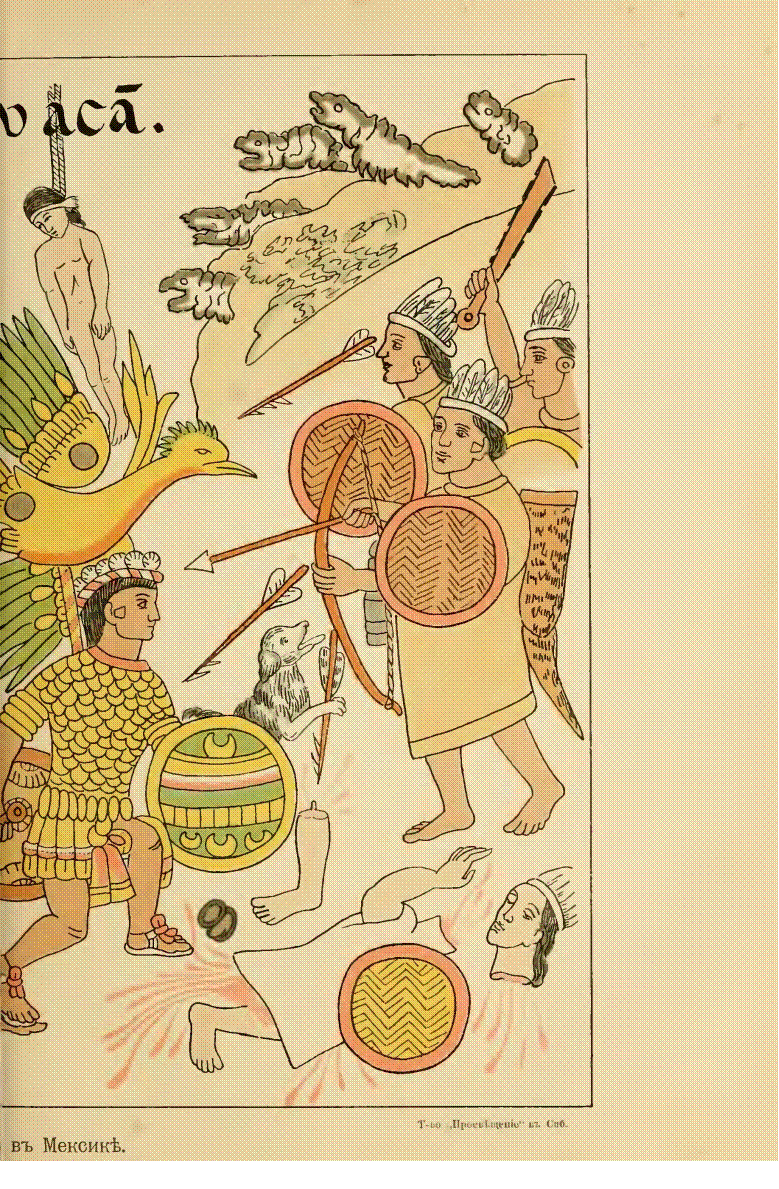
Битвы испанцев в Мексике по ацтекским рисункам «Льенсо де Тласкала»
Таи называемое Льенсо де Тласкала был кусок полотна, почти в 6 локтей длины и 2 1/2 локтя ширины; на нем водяными красками, в 86 картинах, были изображены события покорения, в которых тласкаланцы принимали участие, как союзники испанцев. Хотя эти изображения возникли в XVI веке, но они были исполнены туземцами с их своеобразным искусством. Оригинал был потерян во время революции после низвержения императора Максимилиана, но существует точная копия Льенсо в отдельных листах, изданная Мексиканским Колумбовским обществом, в сочинении «Homenaje á Colon, Antiguedades Mexicanas publ. рог la Junta Colombina de Mexico» (Мексико, 1892).
Приводимый здесь лист (№52) представляет событие из экспедиции Нуньо де Гусмана в Новую Галисию в 1530 г., а именно, битву с обитателями Мичуакана. В союзе с Нуньо де Гусманом и его испанскими всадниками тласкаланцы сражаются под предводительством начальника, который держит боевой значек Тисатлана; вероятно, это – сам Хикотенкатль. Личность второго начальника с богатым украшением из перьев не может быть установлена. Нападающих сопровождают страшные военные собаки. Поводом к битве послужила измена индейца, намеком на которую служит повешенный. Правый верхний угол заполнен иероглифами, обозначающими Мичуакан: это – страна рыболовов. Исход битвы, окончившейся поражением, указывается искалеченным трупом передового бойца, который лежит распростертым в правом углу картины.
* * *
Поэтому Кортес, с свойственною ему быстротою решения, в октябре 1524 года, выступил из Мексико и направился вдоль Атлантического побережья до Усумасинты. Отсюда он пересек в поперечном направлении Юкатан в том месте, где этот полуостров сливается с материком и, наконец, через озеро Исабал достиг поселения Олида на берегу. Цель похода Кортеса была достигнута уже до его вступления: Олид был устранен, и колония возвращена к повиновению. Во время своего похода Кортес прошел чрез обширную неисследованную область, познакомился с городами и странами майясских народов востока и настолько укрепился на всей этой территории, что всякая опасность постороннего вмешательства была устранена. Правда, серьезная попытка покорения полуострова Юкатана, где жили последние остатки народностей с древней чистой культурою майясов, сделана была лишь несколько лет спустя Франсиском де Монтехо и с переменчивым успехом осуществлялась сравнительно медленно. Но после того, как полуостров был исследован со всех сторон, с суши и с моря, завоевание его составляло лишь вопрос времени; главные тайны этого полуоствова были раскрыты Кортесом. В течение целого ряда лет, пока новые открытия не отвлекли внимания в другую сторону, туда отправлялись от времени до времени из Севильи flotas de Yucatan и привозили домой богатые сокровища.
Между тем как Кортес углубился в дикие страны, чтобы подавить непокорность своих подданных, возмущение дерзко подняло голову в самой столице его. Кортеса считали пропавшим без вести, и противники его – а их было не мало у энергичного и беспощадного конкистадора, среди всех, чьих преувеличенных надежд он не оправдал – приобрели настолько силы, что свергли установленное им регентство и захватили в свои руки бразды правления. Правда, это антиправительство рухнуло, когда возвращавшийся полководец стал приближаться к городу. Он был утвержден в это время Карлом V в качестве наместника и военачальника провинции Новой Испании. Тем не менее, с тех пор были посеяны зародыши недовольства, которые, в конце концов, вынудили Кортеса в 1527 году отправиться в Испанию и лично изложить двору положение дел. Не взирая на бесконечные процессы, ему удалось оправдаться перед Индейским Советом, но, как некогда Колумбу, ему не разрешено было возвратиться на прежний пост. И когда он вернулся в 1530 году в Мексику, то должен был выносить рядом и над собою нового наместника. Это было слишком тяжело для гордого и честолюбивого завоевателя. В это время он дал новый импульс к открытиям в северо-западном направлении. Он неоднократно посылал корабли вдоль тихоокеанского побережья, открыл Калифорнский залив и, наконец, в 1506 году лично еще раз проник далеко вглубь Калифорнского полуострова. Если ему при этом так же не удалось открыть искомый северо-западный проход, как и в центральной Америке, то все такие экспедиции его способствовали выяснению факта, что север Америки до высших широт не находится в связи с азиатским материком.
Еще до средины столетия испанцы далеко проникли во внутренние страны материка к северо-западу от Мексики. Вслед за покорением северных областей ацтекского царства, Нуньо де Гусман, с войском, состоявшим из испанцев и индейских воинов (см. таблицу «Битвы испанцев в Мексике»), проник в 1530 году в будущую Новую Галисию (нынешние провинции Дуранго и Синалоа). Его манили в эту страну слухи о городах, богатых золотом. Они как будто подтверждались рассказами некоторых спутников Эрнандо де Сото, который из Флориды проник через южные области Соединенных Штатов до Техаса и Мексики. Слухи говорили о поселениях с многоэтажными домами и такою же богатою и кипучею жизнью, как в Мексике. Самый большой из этих городов они называли Сибола. Сюда-то в 1535 г. предпринял поход Хуан Васкес де Коронадо из Кулиакана в северо-западном направлении. Пройдя вместе с своими спутниками, с большими усилиями и лишениями, скудные водою местности между большим Колорадо и Рио Гранде, он дошел до городов индейцев пуэбло, которые, без сомнения, и служили источником сказочных слухов (см. таблицу «Дворец в утесах» в каньоне этого имени в Колорадо). Однако, у простых земледельцев суньисов, вальписов и мокисов ими столь же мало найдено было сокровищ, как и Нуньо де Гусманом. Тогда мнимый золотой город получил новое название. Еще много десятков лет после того призрак сокровищ Кивиры манил испанцев вглубь пустынных прерий Льяно Эстакадо. Но собственно в городах пуэбло испанское влияние достигает своего северного предела, и только в XIX веке оно снова проникает косвенным путем дальше, когда исследование дальнего запада усилило со всех сторон переселенческое движение в Калифорнию.
D. Завоевание Перу
Успехи Кортеса не только вновь оживили эмиграцию, но и охоту к новым открытиям. Никогда Индейский Совет не был так осаждаем просьбами о разрешении новых колонизационных опытов, как в года̀, последовавшие за покорением Мексики. Правительство могло теперь спокойно отказаться от дальнейшего официального исследования новой части света: дух предприимчивости среди подданных его был слишком велик, и они наперерыв спешили опередить друг друга на поприще открытий. По прошествии какого-нибудь десятка лет на американском материке не оставалось почти ни клочка земли, который не был бы занят тем или другим лицом, открывшим его. Не всегда, конечно, разрешение Индейского Совета на то или другое предприятие осуществлялось на деле; с другой стороны, некоторые предприятия оказывались настолько неудачными, что концессионеры в скором времени отказывались от своих прав. Случалось даже, что поселения, просуществовавшие уже много лет, как, напр., на Санта-Марта, приходили совершенно в упадок, и потом требовалось снова основывать их. Но если в северной Америке еще более столетия на границах испанских владений оставались почти не тронутыми обширные пространства земель, на который Испания могла заявлять лишь чисто формальные притязания, то в южной половине Нового Света едва ли оставалась сколько-нибудь значительная неисследованная область, если не считать низменностей к югу от Амазонки, которые и теперь еще почти неизвестны. Некоторые пионеры пробирались в такие места, которые потому лишь с точностью не установлены, что до сих пор туда не проникал вновь ни один белый человек, который мог бы рассказать нам о своих приключениях.
У индейцев центральной Америки испанцы, вероятно, заимствовали смутные слухи о существовании богатых и сильных государств как на юге, так и на севере. И когда с завоеванием Мексики расширение среднеамериканской провинции к северу остановилось, интерес естественно обратился к югу. Плавания вдоль тихоокеанского побережья прежде всего привели к знакомству с племенами, которые стояли на необычайно низком культурном уровне. Поэтому, вероятно, прошло столько времени прежде, чем испанцы узнали о государстве инков. Вследствие недоразумения, название Перу было распространено потом на это государство. «Биру» было название маленького царства у залива Сан-Мигэль на юго-западной оконечности перешейка. Еще Бальбоа мимоходом коснулся его, но в 1522 году оно составило главную цель предприятия Паскуаля де Андагойя. Непосредственный результат и в этом случае не превышал того, к чему приучили походы в Дариенскую область. Но на этот раз умели уже лучше столковаться с туземцами, из рассказов которых испанские искатели золота яснее поняли, что дальше к югу, на тихоокеанском побережьи, находится большое царство, где испанцы найдут изобилие желтого металла. Это могло относиться только к царству инков.
Указания индейцев произвели особенно сильное впечатление на одного из спутников Андагойи. То был Франсиско Писарро, тип обыкновенного авантюриста. На родине своей в Эстремадуре он пас свиней, но еще в юности, в 1508 году, переплыл вместе с Гохедою океан и испытал все превратности, которые предшествовали основанию Дариенской колонии. После устройства ее, он был постоянным участником во всех предприятиях с целью открытий. Он приобрел, таким образом, богатый опыт во всевозможных трудных положениях и при этом выработал себе спокойную, но в то же время непреклонную настойчивость, которую начальники его и спутники умели высоко ценить. Эти качества он проявил вновь при осуществлении плана отыскания золотой страны индейцев. Так как собственных средств его было недостаточно для снаряжения экспедиции несмотря на его 15-ти летнюю службу в колониях, то он стал искать содействия среди колонистов. Диего де Альмагро, такой же авантюрист, как и сам Писарро, доставил ему отряд решительных спутников, но обладал столь-же мало, как и Писарро, необходимыми финансовыми средствами. Нашлись, однако, и средства. Викарий Панамской церкви, фрай Эрнандо де Луке обладал и сам небольшим состоянием, которое готов был вложить в предприятие, но его отношения к губернатору Педрариас Давиле и к другим знатным лицам колоний еще более дали ему возможность облегчить осуществление предприятия во всех отношениях. В 1524 году Писарро мог предпринять первый поход к югу.
Результаты похода нельзя назвать удачными. Как Писарро, отплывший раньше, так и Альмагро, последовавший за ним через несколько месяцев, исследовали побережье от Панамы приблизительно на полпути до северной границы царства инков и, в награду за громадный труд, получили только очень скромную награду. Писарро, однако, и здесь блестяще доказал свою непоколебимую стойкость. Дважды он посылал свой корабль обратно в Панаму и по целым неделям оставался с небольшим отрядом на совершенно неизвестном побережьи. Когда он, наконец, решился вернуться сам, то лишь вследствие сознания необходимости личного вмешательства в снаряжение экспедиции, какое, по его мнению, было нужно в виду неожиданно больших расстояний. Завоевание Перу было сведено теперь на степень финансовой спекуляции, для чего был заключен в полном смысле слова коммерческий договор. Луке и лица, скрывавшиеся за ним, дали деньги, а Писарро и Альмагро ставили на ставку свою жизнь. Сообразно с этим, регулировалось распределение барыша. Через несколько месяцев после своего возвращения, Писарро мог снова пуститься в море, на этот раз в сопровождении Альмагро, и возобновить исследование побережья с самого южного пункта, достигнутого перед тем. Теперь дело подвигалось быстрее вследствие лучшего снаряжения и более благоприятного времени года. Тем не менее, припасы истощились прежде, чем они достигли гуще населенных местностей. Приходилось еще раз послать в Панаму за провиантом. В этот момент экспедиции грозило полное крушение. После сообщений послов, вернувшихся домой разочарованными, губернатор объявил, что считает продолжение предприятия бесполезной тратой денег и человеческих жизней и отправил приказ Писарро и его спутникам, остававшимся на Isla del Gallo, вернуться домой. Но Писарро был непоколебим; только с 12 товарищами он выжидал на острове 7 месяцев, пока, наконец, компаньоны его не выслали ему корабль и запасы. Тогда он энергически продолжал плавание к югу и достиг, наконец, самого государства инков. В Тумбесе, на Гуаякильском заливе, он вступил в мирные сношения с туземцами и мог, наконец, убедиться собственными глазами в том, насколько верны были рассказы индейцев. Но именно грандиозность раскрывшейся перед ним картины, которая далеко превосходила все его надежды, побудила его вернуться еще раз. Предстоявшая задача не могла быть разрешена средствами его компаньонов; здесь нужно было создать сперва более солидные основы.
Когда Писарро вернулся в Панаму и сообщил о результатах, то ему не трудно было убедить товарищей в необходимости сначала приобрести в Испании привилегии открытия в подлежавших завоеванию провинциях. Для него в то же время было ясно, что сам он является наиболее подходящим лицом для того, чтобы отстоять это предприятие перед Индейским Советом. Весною 1528 года он отплыл в Севилью и представился ко двору. Когда два года спустя Писарро возвратился в Панаму, он привез для себя звание аделантадо новой провинции, для Альмагро – звание коменданта Тумбеса, а для Луке – право на первое епископство. Альмагро уже тогда почувствовал себя оскорбленным неравным распределением власти между ним и его спутником, но оставил это пока без последствий. Повидимому, в добром согласии они отправились на юг во главе отряда приблизительно из 200 испанцев. Еще на пути в Тумбес, этот экспедиционный корпус был неоднократно подкрепляем новыми отрядами. В Тумбесе жители города и на этот раз приняли их мирно, тем более, что Писарро освободил их от враждебного соседства обитателей острова Пуно, которым он, подстрекаемый жителями Тумбеса, нанес чувствительное поражение. Здесь он узнал вместе с тем о недавно окончившейся войне между братьями Гуаскаром и Атагуальпою и о зародышах недовольства, которые посеяла эта война (см. выше стр. 344). Эти известия побудили его поторопиться на место действия, чтобы не упустить благоприятного момента для вмешательства. Основав, как опорный пункт и как посредника для сношений, поселение Сан Мигэль, он направился вглубь страны прямо туда, где, по указаниям туземцев, должен был встретить инку Атагуальпу.
Было, конечно, безумием идти на встречу приблизительно 40-тысячному войску с 168 испанцами, без всяких союзников и притом в совершенно чуждой стране. Но, быть может, Писарро обязан своим успехом именно этой ничтожности своего отряда, так как перуанские инки не считали нужным преграждать ему путь или готовиться к сопротивлению. Наоборот, Атагуальпа, повидимому, почти жаждал познакомиться с испанцами: гонцы, которых он одного за другим высылал на встречу им, приносили вместе с подарками приглашение предстать перед инкою. Так, Писарро со своим отрядом беспрепятственно поднялся с береговой равнины в горы и достиг, наконец, города Кахамарки, вблизи которого расположилось лагерем войско инки. Город был покинут, что̀ оказалось испанцам на руку: они могли на всякий случай незаметно приготовиться к защите и собраться с силами. На другой день после прибытия, Писарро отправил в лагерь небольшой отряд, состоявший исключительно из всадников под предводительством Эрнандо де Сото, и просил инку почтить испанцев своим посещением. Он пришел к убеждению, что было бы нелепостью вступать в открытый бой с несоразмерно превосходными силами инки. Всю надежду он полагал, наоборот, на то, чтобы овладеть особою инки и затем – как это сделал с большим успехом Кортес в Мексико – прикрывшись его авторитетом, покорить страну. Атагуальпа чрезвычайно заинтересовался конницей, представлявшей для него совершенно новое явление. Но на приглашение, которое принес ему Сото будто бы от имени императора Карла, обратил мало внимания, обещая, впрочем, прибыть на следующий день в Кахамарку, чтобы познакомиться там с прочими испанцами и их главнокомандующим.
Для Писарро было ясно, что следующий день решит судьбу его предприятия. Его предложение тотчас же воспользоваться этим первым случаем напасть на перуанцев и захватить в плен Атагуальпу встретило всеобщее одобрение. Тщательно были сделаны все приготовления, чтобы обеспечить исход смелого плана. С возрастающим нетерпением ожидали испанцы бо̀льшую часть следующего дня, но из лагеря инков никто не приближался. Они уже склонны были думать, что план их обнаружен, несмотря на все принятые предосторожности, но поздно за полдень действительно тронулось шествие в направлении к Кахамарке, и в один момент все испанцы были на своих постах. Город казался точно вымершим при вступлении инки, и он мог дойти до базарной площади, не встретив ни одной человеческой души; самый базар был в начале также пуст. Но когда инка в открытых носилках остановился, на встречу ему вышел монах фрай Педро де Вальверде, сопутствуемый двумя туземцами, которых Писарро захватил во время своих первых походов и увез в Испанию, где образовал из них переводчиков. Монах обратился к инке с известною речью, которая, по приказанию Карла V, каждый раз передавалась переводчиками туземцев прежде, чем прибегнуть к силе. Монах начал с самого сотворения мира, рассказал о наместничестве папы на земном шаре и объяснил, что, с благословения папы, испанские правители требуют подчинения от своих индейских подданных. Атагуальпа выслушал речь, не дрогнув ни одною чертою в лице. Так как Вальверде многократно ссылался на библию, которую он держал раскрытою в руке, то инка пожелал взглянуть на книгу. Он перелистал ее и, не находя в ней ничего особенного, презрительно швырнул ее на землю. Этот поступок вызвал восклицание у монаха, которое для испанцев, следивших с самым напряженным вниманием за всей сценой, послужило сигналом к нападению. Две полевые пушки-кулевки поставленные таким образом, чтобы обстреливать базар, пущены были в ход. Всадники, стоявшие рядом с своими оседланными конями позади ближайших домов, вскочили в седла и бросились, опрокидывая все перед собою, к центру площади и к носилкам инки. В то же время стрелки и пешие воины препятствовали свите инки, состоявшей из нескольких тысяч человек, прийти на помощь сражавшимся на площади. В суматохе, которая последовала за внезапным нападением, выполнение смелого плана вполне удалось. Носильщики были опрокинуты, инка выпал из своих носилок и был взят испанцами невредимым. Несмотря на бесстрашную храбрость своих воинов, инка не мог быть освобожден, так как испанцы настолько удачно расчитали пространственные условия, что противник не мог воспользоваться своими превосходными силами. После короткой, но кровавой битвы (говорят, что пало около 2000 перуанцев), индейцы должны были отступить и предоставить инку своей судьбе.
Благодаря удачному исходу этого смелого маневра, завоевание царства инков было совершено одним ударом. Войско его рассеялось, и страна была вполне открыта для испанцев. Всякое желание последних, прикрываемое авторитетом инки, исполнялось. Атагуальпа тотчас убедился. что силою он ничего не сделает. Его окружили, правда, почетом, оставили при нем жен и придворный штат, но зорко наблюдали за ним, для чего он был помещен в одно из самых крепких зданий Кахамарки. Последнюю надежду он возлагал на переговоры. Зная, с какою жадностью испанцы искали золота и сокровищ, он обещал наполнить помещение, в котором он жил, золотом и серебром в рост человека с поднятою рукою, если ему будет разрешено вернуться на трон предков. Испанцы были настолько благоразумны, что не отвергли сразу это предложение. И каково было радостное изумление их, когда действительно, по приказанию инки, со всех концов начали стекаться сокровища в Кахамарку. Первоначальные сомнения испанцев в возможности выполнения этого обещания все более и более исчезали. Это не мешало им, однако, еще другими путями стремиться к своей цели, т. е., к покорению страны. Писарро успел пока собрать более точные сведения относительно спора за престол и узнать, что законный инка Гуаскар еще жив. Это было слишком драгоценное орудие для будущих планов Испании, чтобы по заручиться им. Атагуальпа узнал об этом и, чтобы опасный соперник его не попал в руки испанцев, отдал тайный приказ умертвить Гуаскара. Едва ли он подозревал, что этим решает и свою собственную судьбу.
Так как доставка выкупа за освобождение, по мнению как самого инки, так и испанцев, шла недостаточно быстро, то было решено отправить отряд к святилищу Пачакамака. Во главе этого отряда, первого, который проник вглубь царства инков, Писарро поставил своего брата Фернандо. Главная цель похода не была достигнута. Фернандо Писарро нашел сокровища храма уже разграбленными и ограничился тем, что разрушил глиняное изображение идола и водрузил на место его крест. Но, возвратившись, он рассказал новые удивительный вещи о высокой культуре и замечательных учреждениях в государстве инков. Еще больше рассказывали два других испанца, которые отправились с охранными листами инки, также по поводу выкупа, и достигли Куско. Нигде они не встретили следов сопротивления, и золото, как и прежде, продолжало нагромождаться в покоях инки. Слишком велика была, однако, алчность кучки авантюристов, чтобы они могли спокойно глядеть месяцами на эти сокровища и ждать, пока выкупная сумма совершенно пополнится. Они решили уже теперь поделиться между собою. Какова должна была быть масса накопившегося золота и серебра, можно заключить из того, что одна лишь королевская пятая часть равнялась почти миллиону червонцев. Атагуальпа, потребовавший теперь своей свободы, собрался в путь. Силы испанцев почти удвоились, благодаря прибытию значительного подкрепления, с Альмагро во главе. Тогда Писарро, вопреки совету многих из своих спутников, предал Атагуальпу суду, как похитителя трона и братоубийцу, и велел казнить его. Вместо него он возвел в сан инки другого члена королевской фамилии, чтобы через его посредство на будущее время обеспечить себе повиновение туземцев. Эта цель была, впрочем, не вполне достигнута. Когда оба короля инков погибли, узда, сдерживавшая туземцев в повиновении, ослабела; они все более и более сторонились от испанцев и порою становились в открытые враждебные отношения к ним.
Писарро решил тогда оставить Кахамарку. Сам он повел главные силы испанцев на юг, чтобы предпринять осаду столицы Куско, и в то же время отправил менее значительный отряд, под предводительством Беналькасара, в северном направлении с целью овладеть резиденцией Атагуальпы, а вместе с нею и царством Кито. Это оказалось весьма важным, так как слава о сокровищах Перу успела уже распространиться и возбудить аппетиты других испанцев. Педро де Альварадо, сотоварищ Кортеса по завоеванию Мексики, а в то время наместник Гватемалы, явился спустя несколько недель с толпою авантюристов в Перу, с явным намерением завоевать в Кито для себя более богатую страну, чем та, какую он нашел на севере. Немногого недоставало, чтобы здесь разыгралась такая же история, как в Мексике между Кортесом и Нарваэсом; но Альварадо был менее настойчив. Он вступил в переговоры с Писарро и Альмагро и, в конце концов, уступил им за денежное вознаграждение все свое снаряжение. Эта сделка была охотно принята его спутниками, так как царство инков было достаточно велико и богато, и они могли расчитывать на обильную добычу в другом месте.
До сих пор испанцам только один раз пришлось прибегнуть к оружию. Во время похода к Куско неприятельское войско преградило путь Писарро. Только после ожесточенных сражений, в которых испанцы также потерпели значительныя потери, удалось очистить путь. После того испанцы без сопротивления заняли Куско и основали там испанское поселение. Но Писарро не выбрал этого места столицею. Положение города на юго-востоке царства, вдали от берега моря, делало его менее пригодным для целей испанцев. Кроме того, прибытие Альварадо заставило Писарро ускорить возвращение к берегу. Здесь, на реке Римаке, он положил основание Судад де лос Рейес, позднейшей Лиме, будущей резиденции провинциального правительства.
Постоянные подкрепления боевых сил, которые получал Писарро, дали ему в возможность продолжать открытия во всех направлениях, и вскоре он очутился за пределами древнего царства инков. Ряд походов открыл Альмагро, который, вскоре после занятия Куско, двинулся оттуда, через нынешнюю Боливию, между обоими Кордильерами, далее к югу. При этом он без труда подчинил провинции, расположенные вокруг озера Титикаки. Но дальнейшее движение к югу, постоянно в горах, стоило невероятных усилий. Холод и голод заставили его, наконец, решиться перейти через покрытый льдом хребет западных Кордильер, чтобы идти обратно более удобным побережьем. Он достиг берега в области Копиано и прошел дальше Кокимбо. На обратном пути вдоль моря ему пришлось бороться в пустыне Атакаме с чрезвычайными лишениями. И все-таки этот поход дал в результате лишь исследование значительной части нынешнего Чили и привел к убеждению, что там нельзя расчитывать на открытие больших сокровищ.
Альмагро вернулся во время для того, чтобы выручить испанцев в Куско из большой опасности. Инка, поставленный Писарро в Кахамарке, вскоре умер, и на его место был возведен в королевский сан инка Манко. Но так как испанцы нигде не встречали сопротивления со стороны туземцев, то инка показался им ненужною личностью. На него обращали так мало внимания, что ему легко удалось бежать из Куско в северо-восточную горную страну, где он организовал широко разветвившийся заговор против испанцев. Слабый гарнизон города Куско был окружен и очутился в критическом положении; только бешеная храбрость Фернандо Писарро спасла его от окончательной гибели. После этой неудачи Манко отступил; но он превратил нападение в блокаду, которая была настолько действительна, что защитники Куско оказались близкими к голодной смерти. В этот момент возвратившийся Альмагро рассеял неприятеля и дал возможность городу запастись новым продовольствием. Альмагро потому еще торопился освободить Куско, что полагал принести пользу лично себе. В то время, как он переносил в Чили напрасные лишения, в Испании, по крайней мере, отнеслись к нему справедливо. Карл V назначил его наместником провинции на юге Перуанского царства, которое простиралось от западно-восточной линии, находившейся на расстоянии 270 исцанских миль к югу от реки Сант-Яго (в нынешнем Эквадоре) до неопределенных южных широт. Альмагро был того мнения, что Куско входит уже в эту провинцию, но Фернандо Писарро не соглашался с ним. И так как переговоры не приводили ни к какой цели, то Альмагро ворвался, наконец, в Куско и взял в плен Фернандо Писарро и брага его Гонсало. Франциско Писарро сделал попытку освободить своих братьев, но посланный ими отряд был разбит Альмагро. Он вступил тогда в переговоры, но, как только ему удалось добиться освобождения братьев, он тотчас же признал соглашение недействительным.
После того в перуанской провинции начался ряд междоусобных войн, которые прекратились лишь тогда, когда все личности, стоявшие во главе завоевательного дела, нашли себе кровавый конец. Прежде всего Фернандо Писарро пошел походом на Альмагро, победил его при Лас Салинасе и велел, после короткого суда, казнить его. Но когда он после этого отправился в Испанию, чтобы вести при дворе дело своего брата, то его самого предали суду. Он был присужден к пожизненному заключению и, только благодаря этому, пережил своих братьев. Чтобы восстановить право и порядок среди партийной борьбы, Индийский Совет отправил лиценциата Вака де Кастро, дав ему полномочие, в случае надобности, взять в свои руки управление провинцией. Прибыв на место действия, де Кастро застал и уже коиец следующего акта кровавой драмы. Партия Альмагро, предводимая его сыном, напала на Франсиско Писарро, и так как он оборонялся, то был убит. Молодой Альмагро, хотя и не требовал, чтобы его назначили наместником всего Перу, но настаивал, по меньшей мере, на южной провинции, которая была обещана его отцу. Вака де Кастро отказал ему и в этом. Тогда Альмагро восстал против него, причем на его стороне оказалась большая часть конкистадоров. Судьба, однако, не благоприятствовала ему. В битве при Чупасе, недалеко от Гуаманго, в 1542 году, партия его потерпела решительное поражение. Сам он вскоре после того был изменнически предан в руки противника и смертью заплатил за возмущение.
Теперь из семейств обоих завоевателей оставался свободным еще младший брат Писарро, Гонсало. Он был с 1540 года наместником Кито и в битвах Вака де Кастро против Альмагро оставался верным и преданным первому. Когда в 1544 году Бласко Нуньес Вела был назначен регентом, главным образом, с целью улучшения судьбы туземцев царства инков, которые во время долгой партийной борьбы были самым недостойным образом угнетаемы, то они также не устояли против искушения. Для грубых элементов, из которых, большею частью, состояли поселенцы Перу, защита туземцев была равносильна покушению на их права. И так как Бласко Нуньес исполнял свое поручение с большой бестактностью, то даже судьи аудиенции верховного суда в Лиме примкнули к восстанию против наместника. Во главе восстания стал Гонсало Писарро. Более рассудительные из колонистов успокоились, как скоро вместо Бласко Нуньеса был назначен тактичный и вместе с тем энергичный Педро де ла Гаска. Но Гонсало Писарро, опьяненный чувством своей власти, продолжал сопротивляться, пока положение его не приняло отчаянного оборота. Когда дело дошло до битвы, большинство ложных друзей отпало от него; сам он был взят в плен и вместе с вожаками своей партии казнен. Гаска, прибывший в 1544 году без войск в Панаму, в то время преданную также Писарро, менее, чем в шесть лет, впервые восстановил в Перу покой и порядок. После этого он попросил назначить ему приемника и возвратился в свою келью, из которой вызвал его приказ Карла V.
Еще Франсиско Писарро обратил внимание на южную провинцию, открытую Альмагро. После казни его соперника, он смотрел на нее, как на составную часть собственного наместничества, и старался устранить всякое постороннее вмешательство. С этою целью он командировал туда офицера Педро де Вальдивиа, безусловно преданного ему, и поручил ему основать испанскую колонию, превратив этим присоединение страны в фактическое. Вальдивиа шел тем же путем, как и Альмагро, но в более благоприятное время года. Ему приходилось менее бороться с естественными препятствиями, но больше с враждебностью туземцев, которые, судя по опыту прежних лет, относились к испанцам не совсем дружелюбно. Вновь основанный город Сант-Яго в первые годы влачил жалкое существование, несмотря на повторные подкрепления, получаемые из Перу, особенно после того, как в долине Кильоты были открыты и стали разрабатываться богатые рудники. Вальдивиа воспользовался подкреплениями прежде всего с тою целью, чтобы продолжать исследование страны в направлении к югу. По поручению его, генуэзец Пастене проехал в 1544 году вдоль берега, пока не достиг западных выходов Магелланова пролива, составившего южную границу провинции. Когда регенство Перу перешло к Педро де ла Гаска, Вальдивиа, оказавший ему большие услуги во времена смут, не переставал получать поддержку. Это дало ему возможность продолжать движение сухим путем в более южные части провинции. В 1550 году последовало основание города Консепсиона на границе области, обитаемой воинственными арауканскими индейцами. Этот народ защищал свою независимость в течение целых 10 лет с храбростью, достойною изумления, и битвы с ним послужили сюжетом не для одного певца. Но геройские подвиги, совершенные в это время с обеих сторон, едва ли соответствовали награде, доставшейся за победу. Страна, стоившая Испании так много крови, была плодородна и здорова, но, в сравнении со многими частями испанских колониальных владений, она представляла слишком мало заманчивого. Поэтому колонизация и эксплуатация подвигались чрезвычайно медленно.
После завоевания Перу испанцы еще в двух других местах перешли границу царства инков. Нигде не встречается более удобного доступа с западного побережья Америки к обширным низменностям востока, чем на юге озера Титикаки. Здесь восточные Кордильеры разделяются на ряд умеренно высоких горных хребтов, которые все окаймляют и прорезывают плоскогорье нынешней Боливии. О том, какую роль играла эта страна в первобытную эпоху, как колыбель народов, мы упоминали уже в другом отделе (см. выше стр. 305 и 314). Повидимому, завоевания инков также шли этим путем до истоков рек, которые направляются частью чрез Мадейру к Амазонке, частью через Пилькомайо к Ла-Плате. В 1535 году Альмагро проходил уже эти области, по пути в Чили; систематическое исследование их было предпринято спустя немного лет, когда Бласко Нуньес Вела, в свое кратковременное управление, вверил капитану Франсиско де Рохас провинции Чаркас и Тукуман. Первые исследователи, ничего не подозревая, прошли мимо необъятных сокровищ Потоси и затем, сражаясь и с туземцами и между собою, пробрались в юго-восточном направлении через провинции Хуху, Кольчаки и Катамарки далеко вглубь низменности, пока не натолкнулись на Рио Терсеро на следы испанцев, проникших туда с востока. Этим было закончено исследование материка в поперечном направлении.
После того, как в 1514 году португальцы открыли устье Ла Платы и экспедиция их зашла далеко к югу, не основав, однако, никаких поселений, испанцы поспешили фактически завладеть этими полосами земли и обеспечить себя от притязаний со стороны соседнего государства. В 1515 году Диего де Солис первый исследовал Парагвай на некотором протяжении вверх. Но когда он пал в сражении с туземцами, спутники его возвратились в Испанию. После того на реке появились быстро один за другим Себастьян Кабото и Диего Гарсиа; они вели с туземцами прибыльную меновую торговлю, отчего река получила название Рио де ла Плата, серебряной реки; но поселений они все-таки не могли основать. По указаниям их, Педро де Мендоса предпринял в 1534 году колонизацию этих стран. Флот его, состоявший из 14 кораблей, как говорят, имел на борту не менее 2000 человек и доставил ядро для испанского населения аргентинских провинций. Сам Мендоса, основав в Буэнос Айресе первую колонию и потеряв несколько месяцев в бесплодных усилиях создать условия для дальнейшего существования ее, разочарованный отказался от предприятия. Но люди, которым он доверил дальнейшее ведение дела, сумели сделать колонию жизнеспособною. Первый наместник его, Айолас, решительно оставил низменности нижнего течения реки и на 100 немецких миль выше, при слиянии Пилькомайо с Парагваем, основал город Асунсион, центр постепенно формировавшейся провинции. При попытке продолжать свои открытия на запад он поплатился жизнью. Но достойный наместник его Доминго де Ирала, продолжал дело. Следы его найдены были на Терсеро спутниками Франсиско де Рохаса. Во время дальнейшего движения он проник с верхнего Парагвая, через область чикитосов, до стран, заселенных из Перу. Хотя по приказанию Гаски, он должен был вернуться, но все таки успел основать Санта Крус де ла Сиерра, которая служила промежуточной станциею для сношений между Атлантическим океаном и Перу.
Для исследования южноамериканского материка имел значение еще один эпизод из ранней истории колонии Ла Платы. Это случилось в 1540 году, когда прибыл туда Альвар Нуньес Кабеса де Вака, чтобы принять на себя управление провинцией после Педро де Мендосы. Он находил излишним плыть окольным путем на юг до устья Ла Платы и затем снова плыть вверх по течению к северу. Поэтому он высадился с большею частью своих 400 спутников против острова св. Екатерины и попытался проложить себе путь в западном направлении к Асунсиону через лесистые низменности. Этот переход сопряжен был, как для него самого, так и для отряда, с невыразимыми усилиями и лишениями и вообще мог быть осуществлен, лишь благодаря особенно благоприятным условиям. Но кроме открытия страны, он не дал никаких других результатов. Несколько лет спустя, де-Вака невольно узнал о более удобной дороге через Буэнос-Айрес, именно когда колонисты заставили его сложить с себя должность в пользу Иралы и вернуться в Испанию.
Колония Асунсион, более известная под именем Парагвая, еще по тому заняла особое место среди всех испанских провинций, что здесь сложилось совершенно своеобразное отношение к туземцам. Испанцы с самого начала встретили дружественный прием со стороны гуаранисов Асунсиона. Эти отношения сохранились и впоследствии. В результате были более частые браки испанцев с дочерьми туземцев, чем где-либо. Испанские колонисты повсюду брали себе в сожительницы индейских девушек, особенно в то время, когда приток европейских женщин был ограничен. Во многих случаях, в особенности относительно жен и дочерей кациков, совершались действительные браки между различными расами, и во всех колониях смешанное население росло. В Парагвае такому смешению крови благоприятствовали еще, помимо трудностей сообщения с родиною, превосходные отношения, установившиеся между переселенцами и туземцами. Следы этого, как говорят, можно уловить и в наши дни в своеобразных чертах характера обитателей провиниции и впоследствии республики Парагвая.
Если на юге Ла Плата и Парагвай указали испанцам путь с побережья в Перу, то на севере другая из больших рек, почти против их воли, привела их из Перу к морю. В короткий промежуток мира, наступивший после гибели Франсиско Писарро, младший брат его Гонсало, сделавшийся наместником в Кито вместо Беналькасара, также предпринял поход с целью открытий. При этом он руководился слухами о существовании богатого государства в самой глубине материка. Последовал целый ряд походов, полных приключений, внутрь страны, которая и до сих пор еще остается не вполне исследованною. Если из Кито перейти в восточном направлении чрез один из проходов в хребте Кордильер, то мы неизбежно наталкиваемся на тот или другой поток, впадающий в Рио-Напо, а с ним в Амазонку. Впоследствии, когда в области верхнего течения Амазонки миссии различных духовных орденов развернули свое благородное соревнование в деле обращения туземцев и приучения их к оседлости, дорога через Embarcadero de Napo в Кито представлялась весьма оживленною. Но столетием раньше, когда Гонсало Писарро вел первых испанцев по этой тропе, они встречали лишь обыкновенную добычу всех пионеров – усталость, голод и болезни. Чтобы облегчить движение своего отряда, Гонсало поместил больных и слабых вместе с поклажей на плоты, а сам, вместе с более крепкими спутниками, следовал берегом реки. По мере того, как снабжение припасами становилось труднее, он все чаще высылал суда вперед по реке, чтобы можно было своевременно доставлять припасы на встречу тем, которые шли берегом. Но однажды случилось, что обе партии потеряли друг друга из виду: в поисках населенных мест, плоты ушли слишком далеко вперед, а Гонсало со своими спутниками должен был вернуться назад, не имея возможности уведомить их об этом. Начальником над судами Гонсало назначил Франсиско де Орельяну (см. «Карты к истории Америки). Последний, видя себя покинутым и считая невозможным доставить суда домой против течения, принял смелое решение: предоставить себя течению, которое должно было принести его куда-нибудь в море. С 50 спутниками, на судах, которые они должны были сами построить себе, он поплыл вниз по Напо, отсюда по Амазонке, далее в океан, и плыл еще некоторое время вдоль берега моря на cевер и на запад. Наконец, после семимесячного путешествия по воде, он достиг первого европейского поселения на острове Кубагуа. Несмотря на то, что не обошлось без столкновений Орельяна лишился лишь немногих спутников; но едва ли кто из конкистадоров перенес столько лишений и подвергался стольким опасностям, как отряд Орельяны.
Такое же путешествие было предпринято еще раз из Перу в XVI столетии. Основываясь на рассказах одного индейца, который прибыл из Бразилии в Перу вверх по Мараньону и Уальяге, встречая по пути населенные и богатые города, маркиз Каньете, в то время вице-король Перу, снарядил в 1559 году экспедицию с целью исследования, и во главе ее поставил Педро де Орсуа. Целью ее было в то же время освободиться от многочисленных беспокойных элементов, участвовавших в различных возмущениях и колебавших порядок в провинции. Но эти недобрые элементы дали предприятию совершенно неожиданный оборот. Когда они проникли в неизвестную область, достаточно далеко, чтобы считать себя безопасными от преследования, они убили Орсуа, продолжали и окончили плаванье по реке под начальством избранного ими Лопе де Агире, но затем направились к Венесуэле и тиранизировали эту провинцию в течение нескольких месяцев. Наконец, они были побеждены в сражении при Баркисимето, и большая часть их перебита. Амазонка сделалась постоянным путем движения народов лишь с 1641 года, когда португальцами была отправлена большая экспедиция из Пары вверх до Кито (ср. выше стр. 196). Этим начинается детальное методическое исследование гигантской речной системы, которое закончилось лишь вследствие вымирания индейцев и связанного с ним прекращения миссионерской деятельности.
Е. Отпрыски эпохи открытий
Наконец и северо-восток южной Америки перестал быть совершенно неизвестной областью. Несмотря на то, что Колумб именно здесь впервые вступил на американский материк, и первые попытки колонизации материка начинаются с северного побережья, оно сравнительно долго оставалось в пренебрежении. Причина заключается в том, что в нем не находили особенных богатств, а туземцы отличались бо̀льшею воинственностью, чем где бы то ни было. Караибские племена этого побережья, которые встретили первых испанцев отравленными стрелами и скрылись затем в дремучих лесах в глубине материка, которые изнуряли противника пассивным сопротивлением, не будучи в силах победить его в открытой борьбе, – эти племена наводили ужас на испанцев, и имя их сделалось нарицательным для обозначения всех вообще воинственных и враждебных племен. Извращенное слово караиб, каннибал сделалось почти на всем земном шаре равнозначащим с людоедом (ср. выше, стр. 197). Ряд попыток колонизации в области между устьями Ориноко и Магдалены окончился неудачею, прежде чем испанцы могли стать твердой ногою на этой полосе побережья. В течение этого времени описываемая область играла важную роль в испанской колониальной жизни лишь в том отношении, что, вследствие быстрого вымирания населения на Антильских островах, она давала повод к охоте за рабами в больших размерах. Главным рынком для добычи служил остров Кубагуа, расположенный у морского берега. И только в двадцатых годах XVI века Родриго де Бастидас удалось основать в Санта-Марта поселение, которое обещало послужить ядром прочной колонизации. По всей вероятности, это поселение также распалось бы после его насильственной смерти, если бы не встретило поддержки в соседней провинции, которую первые открывшие ее путешественники назвали Венесуэлой (маленькой Венецией), благодаря свайным постройкам туземцев на Маракаибском озере.
Как в Ост-Индии, так и здесь в Вест-Индии, в первых же плаваниях принимали участие верхне-германские торговые дома. Вступление на престол Карла V в Испании открыло им возможность обеспечить себе более существенное и прочное участие в колониальной торговле. Но на ряду с агентами негоциантов переправлялись бесчисленные молодые немецкие авантюристы. Некоторые из них участвовали почти во всех фазисах открытий и завоеваний. Неудивительно поэтому, если некоторые немцы также добивались и получали привилегии на колонизаторские открытия. Эхингеры находились в тесном отношении к дому Вельзеров, которому служили многие члены их семьи. Когда они получили разрешение Карла V колонизировать внутреннюю часть побережья от мыса Маракапана до оконечности полуострова Гуахиро, от одного океана до другого, они, во всяком случае, сильно расчитывали на помощь Вельзеров; несколько лет спустя они уступили им свои привилегии. Немецкие владельцы провинции исполнили лишь в отношении заселения Венесуэлы работу пионеров, которая дала возможность испанцам впоследствии сделать что-либо из этой провинции. Но для исследования неизвестной внутренней части Южной Америки немецкая колонизация имела громадное значение. Прежде всего она воспрепятствовала окончательному распадению колонии Бастидаса в Санта-Марте и этим создала почву для успешного движения Гонсало Хименеса де Кесада вверх по реке Магдалене. Затем она сама послужила исходной точкой для целого ряда экспедиций с целью открытий. Одна из таких экспедиций привела Федерманна, почти одновременно с Кесадою и Беналькасаром, на плоскогорье Богота̀. Во главе других экспедиций Георг Гогермут и Филипп фон-Гуттен двигались вдоль восточной подошвы Анд и, хотя они не дошли, как часто утверждают, до самой Амазонской реки, но все-таки первые из европейцев, проникли до больших северных притоков ее. Какета̀ и, быть может, также Путумайо.
После завоевания Перу продолжал держаться упорный слух о существовании еще другой страны, богатой золотом. Рассказы туземцев намекали на страны, находившиеся на севере царства инков. На основании их Амброзий Эхингер (которого испанцы называли Дальфингер) производил исследования долины Упаре и вверх по течению Магдалены; в то время, когда он решил повернуть обратно, он почти достит до границы царства чибчасов. Последователи его напрасно искали пути в страну золота со стороны восточных льяносов. Георг Гогермут вторично подошел к самой области чибчасов во время своей остановки в Сан Хуане де лос Льянос, местности, которая находилась в постоянных торговых сношениях с чибчасами. Только Николай Федерман отыскал проход из льяносов через Кордильеры; но когда он вступил в Фоске в область Баката̀, то нашел уже царство ее павшим и занятым испанскими завоевателями.
На долю Гонсало Хименеса де Кесада выпало счастье сделаться завоевателем провинции, которая под названием Nuevo Reino de Granada (Новое королевство Гранада) сделалась перлом в поясе испанских колониальных владений. Он прибыл в начале 1536 года вместе с губернатором Педро Фернандесом де Луго в Санта-Марту и тотчас же был командирован с несколькими стами спутников и тремя небольшими судами для исследований вверх по течению Магдалены и для отыскания могущественного правителя, который по описанию туземцев должен был находиться там. На самой реке Кесадо переживал то же самое, что его предшественники, которые после многих и утомительных переходов встречали лишь кое-где индейские деревни, нередко, впрочем, богатые добычей. В конце концов, весеннее половодье побудило его выбраться из речной долины в горы. После больших усилий, ему удалось пробраться черезъ Сиерра де Оппон и вблизи будущего Велеса открыть – почти случайно – область чибчасов. Испанцы не встретили большого сопротивления со стороны правителей чибчасских государств и провинций, находившихся в раздоре между собою. В течение трех лет Кесада, при сравнительно ничтожных потерях и опасностях, добыл прямо баснословные сокровища. Не успел он организовать вновь занятую провинцию и уже собирался оставить ее, как на плоскогории Богота появились один за другим, с промежутком в несколько недель, Николай Федерман с востока и Себастьян де Беналькасар с юга. О том, как попал туда первый, мы уже говорили. Беналькасар, который, как известно, сперва занял царство Кито для Писарро, впоследствии предпринял, с своей стороны, новую экспедицию на основании тех же слухов, которые руководили обоими другими конкистадорами. При этом он действовал медленно и систематически. Уже в Попайяне он основал новое испанское поселение, которое имел в виду соединить с областью чибчасов, но нашел уже последнюю в других руках и настолько хорошо организованною, что не мог решиться даже на попытку завладеть ею силою. С другой стороны, ни он, ни Федерман не пожелали вернуться в условия прежней зависимости. Они порешили вместе с Кесадою вернуться в Испанию и ходатайствовать перед короною о вознаграждении их за соответственные заслуги. Ни один из них не добился, однако, цели, к которой все они стремились – регентства в богатой провинции чибчасов. Федерман окончил жизнь в тюрьме, благодаря его неоднократным изменническим поступкам, Беналкасар должен был удовлетвориться наместничеством в Попайане, к которому ему обещали присоединить область на западе верхней Магдалены. Даже Кесада не пожал плодов своих побед: он вынужден был уступить наместничество Санта-Марты и Новой Гранады недостойному сыну умершего в это время Луго. Лишь после долгих лет тяжбы, он снова вернулся с титулом маршала на арену своих первых побед, где, после ряда приключений, мирно окончил свою жизнь, достигнув глубокой старости.
Хотя с покорением царства чибчасов в руки испанцев досталась страна, в учреждениях которой берет начало сказание о золотом человеке, Эль Дорадо (ст. выше, стр. 291), но поездки в Дорадо приняли особенно оживленный характер лишь в последующие десятилетия. Филипп фон Гуттен, Эрнан Перес де Кесада, брат победителя чибчасов, и, наконец, этот последний искали Дорадо в льяносах Какета̀ и Путумайо, но, пожертвовав множеством человеческих жизней, встретили лишь несколько индейских племен, стоявших невысоко в культурном отношении. Впоследствии предполагали царство Дорадо на озере Маноа, которое искали между нижним течением Ориноко и Мараньона. По этому поводу зять Кесады первый исследовал систему Ориноко от Новой Гранады (в XVI и XVII веке все принимали Гуавьяре за начало Ориноко) до устьев. В Тринидаде он попал в руки Ралея, который возобновил свою поездку в страну золота от устьев Ориноко вверх к Андам. Отчет об этом плавании более, чем описание его предшественников, способствовал ознакомлению Европы с географическим очертанием этих стран. Но фактически весь путь его шел в области, давно исследованной испанцами. С тех пор надежда отыскать Дорадо все более и более исчезала; для него не оставалось уже места в обширной колониальной области, доставшейся испанцам. Не оставалось также более места для удовлетворения стремлений к открытиям. Теперь предстояла более серьезная и трудная задача организовать бесконечно обширные области, о которых имелись лишь поверхностные сведения. Время завоеваний, conquista, окончилось и настала эпоха coloniaje, – колониального хозяйства.
5. Испанские колониальные владения
A. Casa de contratacion
Согласно толкованию, которое Колумб дал своим привилегиям, все обширное колониальное царство испанцев в Америке должно было образовать одно большое капитанство, в котором он и его потомки пользовались бы почти неограниченною властью, совмещая в одном лице наследственных вице-королей, губернаторов и адмиралов. Короне отводилось только право верховного контроля, ограниченное участие в назначении чиновников и известная доля в доходах. Это был взгляд не одного Колумба: потомки его в процессе с короною также доказывали, что письменно дарованные им привилегии не ограничиваются островами и землями, которые сделались известными, благодаря личным открытиям Колумба, но должны распространяться также на все земли, который испанская корона приобретет впоследствии в силу открытий, являющихся продолжением дела первого адмирала. Конец этого процесса был очень простой: потомки Колумба в своих притязаниях зашли так далеко и вели себя так недостойно, что сами должны были отказаться даже от своих письменно засвидетельствованных и признанных прав, чтобы избегнуть рук правосудия. Тем не менее, юридическая сторона вопроса была далеко не так проста. Колумб, с своей стороны, во многих отношениях не выполнил договора Санта Фе. Прежде всего он не достиг цели предприятия, затем он не был в состоянии, да и не старался серьезно выполнить финансовые обязательства, принятые им на себя в силу договора 1492 года. Но охотно предоставляя правительству все бремя снаряжения экспедиций, он нисколько не думал отказываться от прибыли, которая была ему обеспечена, однако, лишь в виде вознаграждения за соответственные расходы.
Вопрос был, однако, очень скоро перенесен из сферы теоретического права на чисто практическую почву. Уже между вторым и третьим путешествиями Колумба выяснилось, что̀ ожидает колонии под его управлением. Первый адмирал мечтал исключительно о том колониальном режиме, которому следовали португальцы на Гвинейском берегу, с тою лишь разницею, что в Вест-Индии он сам желал играть роль главного арендатора-монополиста, каким являлся там инфант Генрих до перехода его прав к короне. Но Колумбу недоставало той возвышенной идеи, которая воодушевляла инфанта к открытию новых стран с целью распространения христианства и в течение ряда лет побуждала его к одному пожертвованию за другим. Напротив, им исключительно руководило мелочное стремление ничего не потерять для себя лично из возможных барышей. Поэтому он и противился тому, чтобы колонисты на Санто Доминго рассеивались внутри страны и там на собственный страх разыскивали благородные металлы и другие ценности: Колумб опасался, что при этом часть добычи ускользнет от его контроля, и что это поведет к уменьшению его общей прибыли. По той же причине он ни минуты не колебался, когда в первое время для его судов не нашлось в достаточном количестве других подходящих предметов торговли, – нагружать их захваченными туземцами и, по примеру португальцев, продавать их на своей родине. Правда, гуманные законы испанского правительства также не в состоянии были остановить быстрого вымирания туземного населения на Антильских островах; но нельзя отрицать, что такой же результат должен был явиться самым ближайшим и неизбежным последствием колонизационных идей Колумба. Продажа рабов в Испании уже после первой попытки встретила категорический запрет со стороны Фердинанда и Изабеллы. Поводом к отрешению от всей колониальной системы Колумба послужила его неспособность к поддержанию порядка в его единственной колонии. Он сам потребовал присылки коронного чиновника для восстановления упорядоченных отношений (см. выше стр. 356). Следствие выяснило, что Колумбу никаким образом нельзя было предоставить управление всей областью, на чем он настаивал, опираясь на свои привилегии.
Вначале, правда, правительство Фердинанда и Изабеллы также составило колонизационный план по образцу португальского. Но при этом ожидали, что Колумб откроет цветущие и благоустроенные государства с обширной и оживленной торговлей. Главная цель путешествия Колумба заключалась вовсе не в территориальных приобретениях, а в том, чтобы отвлечь торговлю ценными и имеющими большой сбыт произведениями дальнего Востока от прежних путей и, в видах монополии, направить ее через испанские гавани. Другой целью было распространение христианства в этих государствах. Испанец, который в течение веков на собственной родине вел, ради распространения христианства, кровопролитную войну с неверными, конечно, не остановился бы и на чужбине в осуществлении той же цели при помощи тех же средств. Если бы Колумб действительно достиг гаваней Цайтуна и Кинсея с их сокровищами, их торговлей и организацией, то, по всей вероятности, испанцы укрепили бы там свою власть таким же образом, как это сделали португальцы в Ост-Индии. Так, первое учреждение, которое создали испанские правители для заведывания колониальными делами, палата торговых сношений, casa de contratacion, скопировано в главных чертах с португальской casa de Guiné, предшественницы casa de India в Лиссабоне. Название учреждения сохранилось до самого конца его; но, по существу, оно в короткое время значительно изменилось и расширилось.
При своем основании, в 1503 году, casa de contratacion была предназначена для защиты интересов короны в сношениях и, главным образом, в торговых сношениях с колониями. Административные полномочия, согласно договорам 1492 года, находились почти исключительно в руках Колумба. Самое учреждение casa de contratacion есть лучшее доказательство того, что правительство нисколько не имело в виду оспаривать эти привилегии, хотя уже тогда права Колумба были ограничены и, вместо него, назначен наместник от правительства. Тем не менее, основание многочисленных поселений на всей Эспаньоле и ближайших островах, дарование земельных участков колонистам и движение внутрь острова доказывают, что правительство порвало с колониальною системою Колумба, план которого заключался в меркантильной эксплуатации страны из определенных береговых пунктов. О таком же изменении точки зрения свидетельствует и второе преобразование casa de contratacion. Правда, торговые интересы все еще решительно стоят на первом плане. Но речь идет на этот раз не столько о выяснении выгод, ожидаемых правительством от непосредственного участия в колониальной торговле, сколько, и притом главным образом, о регулировании и контроле торговых и морских сношений между метрополией и колониями вообще, – безразлично, как в отношении коронных, так и частных предприятий. Таким образом, casa de contratacion преобразуется как бы в административный орган и вместе с тем приобретает судебные полномочия: в уставах 1511 года в штате casa мы находим, кроме трех обыкновенных чиновников, фактора, казначея и бухгалтера, и, по крайней мере, одного юриста. Самое существенное расширение власти, которое приобрела casa в этом году и которое послужило основанием для будущей роли ее, заключается в передаче этому учреждению контроля над корреспонденцией. Чиновники обязаны были не только вскрывать и читать всю корреспонденцию, отправляемую из колоний на имя правительства, но и заносить в книги палаты все правительственные акты, предназначенные для колоний. Мало того: чиновники приглашались высказываться по поводу распоряжений правительства, которые покажутся им нецелесообразными или опасными, и приостанавливать исполнение этих распоряжений. В силу такого полномочия, casa de contratacion все более и более принимала характер правительственного органа. В позднейших статутах эта роль категорически оттеняется: в менее важных делах решение casa было окончательным, а в более крупных и важных вопросах можно было апеллировать к Совету по Индейским Делам, Consejo de Indias, как к высшей инстанции.
Несмотря на широкие привилегии, обещанные, по договору, Колумбу, в качестве вице-короля, губернатора и адмирала Индии, колониальные дела с самого начала потребовали сложного контроля и руководства со стороны правительства. Это участие правительства получило особенно важное значение с той минуты, когда полномочия Колумба были приостановлены и временно возложены на коронного чиновника. Уже в то время Фердинанд Католический поручил все эти дела одному лицу, для достпжения необходимого единства и последовательности в колониальной политике. В Коронном Совете колониальные дела ведал архиепископ Фонсека. В качестве секретаря-экспедитора некоторое время действовал Грисио, а после него Лопе де Кончильос, известный по своей печальной роли в споре за трон между Фердинандом Католическим и Филиппом Красивым.
Когда в 1509–12 годах дон Диего Колон был восстановлен в правах своего отца, он получил их лишь в ограниченном объеме (см. выше стр. 360). Уже в то время подготовлялось разделение колониальных владений, все более расширявшихся. Потомкам Колумба были предоставлены, согласно договору Санта Фе, лишь те земли, которые Испания приобрела, благодаря непосредственной деятельности первого адмирала. Но и здесь привилегии их были не неограниченными. Правда, за ними было оставлено, по условию, отправление правосудия в первой инстанции на всем пространстве дарованной им земли. Однако, уже в 1511 году учрежден был апелляционный суд для всей колониальной области, под названием Аудиенции Санто-Доминго: к нему можно было аппеллировать на решения судов вице-короля, он делал постановления от имени короля и был уполномочен призывать к ответу даже самого вице-короля. В то время во всех областях жизни вопросы администрации правосудия еще не были разграничены, и всякое учреждение являлось, в сфере своих полномочий, вместе с тем и судьею. И наоборот, аудиенция, апелляционная судебная инстанция во всевозможных колониальных делах, уже в силу этого, являлась важным фактором в колониальном управлении. Это значение росло по мере того, как правительство все более и более ощущало необходимость создать противовес слишком широким привилегиям вице-короля и губернатора. Вместе с тем, новый правительственный орган должен был выражать непосредственную волю правительства и контролировать вице-губернаторов в тех колониальных областях, которые не входили в сферу договора Санта-Фе.
Другой противовес подобного рода правительство создало себе в лице духовенства. Сначала посылались на острова почти исключительно члены духовных орденов с целью поддерживать религиозные интересы и способствовать делу миссии среди туземцев. Но почти с первого появления их начались столкновения между ними и светскими властями. Фрай Берналь Бойль, сопровождавший в качестве генерального викария Колумба, во втором путешествии его, был, подобно ему, вскоре отозван на родину, так как слишком неправильно понял свои обязанности по отношению к чиновникам. Как только правительство убедилось в громадных размерах владений, доставшихся ему, оно обратило тщательное внимание и на организацию духовных дел. По предложению Фердинанда, папа Александр VI, в 1512 году, учредил первые два епископства на острове Эспаньоле в Санто-Доминго и Ла Веге. Затем, почти непосредственно за окончательным заселением, созданы были новые епархии. Вскоре вся колониальная область была усеяна широко раскинувшейся сетью архиепископств, епископств и приходов. Но правительство позаботилось вместе с тем, чтобы церковь не образовала государства в государстве и не сделалась бы, в конце концов, опасною для правительственной власти. В 1508 году корона получила от самого папы право патроната над всеми духовными инстанциями Нового Света; таким образом, колониальное духовенство оказалось вполне зависимым от правительства и сделалось даже сильною и влиятельною опорою его во всех превратностях колониальных событий.
Когда, в 1516 году, Карл V унаследовал от своего деда, вместе с испанскими коронными землями, обширные колониальные владения, управление последних уже представляло прочную организацию; можно сказать даже, что правительство тогда положило начало известной системе колониальной политики. Так как открытие Америки явилось результатом личной инициативы королевы Изабеллы, то, с точки зрения государственного права, колонии вошли в состав владений кастильской короны. С понятием колонии в XVI веке связывали представление о стране, которая всецело находилась в частном владении короны или обладателей колониальных привилегий. Поэтому, с отменою привилегий семьи Колонов, испанское правительство рассматривало колонии, как государственное имущество, доходы с которого принадлежали исключительно ему и могли быть употребляемы им по его усмотрению. Прямым следствием подобного взгляда были строгие предписания правительства относительно доступа в колонии. Для того, чтобы иметь возможность строго проверять эти предписания, все сношения между метрополией и колонией должны были исходить исключительно из Севильи, с открытою гаванью этого города Сан-Лукар де Баррамеда. Вскоре выяснилось, однако, что подобная монополия Севильи вредно отражается на торговых сношениях. В первые годы правления Карла V возникла особенно сильная агитация против этой монополии. По всей вероятности, она находилась в связи с тем обстоятельством, что испанские государства соединились с германскими и нидерландскими областями под одним и тем же скипетром и что это соединение существенно облегчало или даже прямо поощряло участие этих национальностей в заморской торговле. Был момент, когда это противотечение имело успех и, быть может, порождало широкие надежды; но, в конце концов, фискальные интересы все-таки победили, и монополия Севильи для всех колониальных сношений сохранилась неприкосновенною вплоть до позднейших времен.
В. Вопрос о туземцах
Фискально-монополистическая точка зрения составляет характерную черту не одной лишь испанской колониальной политики, но она придает ей особый отпечаток, как и в других государствах, признававших ее. Самую существенную особенность испанской политики представляет отношение ее к коренному населению колоний, к туземцам. Колумб и в отношении туземцев держался португальской точки зрения, т. е., рассматривал туземное население или как государство, с которым можно было вести войну и заключать договоры, или как продукт, который, подобно прочим колониальным произведениям, можно было покупать и продавать, сообразно с коммерческими интересами. В обоих случаях туземцы являлись с этой точки зрения чужими лицами или чужими вещами. Колумб, следуя этому взгляду; во время своего третьего путешествия, с целью вознаградить неудачные поиски золота, пряностей и других ценных товаров, нагрузил один из возвращавшихся домой кораблей рабами для продажи их в Севилье.
Но здесь он встретил отпор со стороны испанского правительства и, главным образом, королевы Изабеллы Кастильской, как главы колониального царства. Когда получена была весть о прибытии живого груза, все чиновники Севильи получили приказание не допускать продажи индейцев, пока не будет решено, следует ли согласиться на это или нет, можно ли, на основании божеских и человеческих законов, допустить превращение индейцев в рабов. Вскоре последовало распоряжение о том, чтобы отправить индейцев обратно на родину и вернуть им свободу. Это было принципиальным решением вопроса первостепенной важности, началом совершенно новой колониальной политики, до тех пор нигде не применявшейся. Весьма вероятно, что трезвый реальный политик, король Фердинанд, смотревший не совсем сочувственными глазами на все колониальное предприятие своей супруги и соправительницы, поступил бы иначе, если бы его личный взгляд мог иметь решающее значение. В пользу того говорит настойчивость, с какою королева Изабелла, в своем завещании и приложенном к нему дополнительном пункте, просит супруга о защите туземцев. Этот дополнительный пункт является следующим важным шагом законодательства в области туземного вопроса. Несмотря на свою краткость и категоричность, заключенные в нем постановления относительно туземцев имеют огромное значение: туземцы признаются равноправными подданными; жизнь и собственность их принимаются под покровительство короны, и на короля Фердинанда, как на исполнителя завещания, возлагается устранение всяких несправедливостей и невзгод, которые могли бы постигнуть их.
Без сомнения, практическое разрешение этого вопроса стояло далеко не на высоте теоретического отношения к нему. Заявление, что индейцы должны пользоваться правами свободных подданных, встретило возражение не только со стороны колонистов, но и колониальныхъ властей, и даже духовенства. Дело в том, что без достаточного количества туземных рабочих колонии не могли давать доходов или барышей, а индеец, без применения к нему известного насилия, не только не соглашался работать в такой мере, чтобы удовлетворять потребности колоний, но и не находил нужным поддерживать постоянные дружественные отношения с колонистами. А без этого не могло быть и речи о культурном воздействии на туземцев и в особенности об обращении их в христианство, чему придавалось особенное значение с самого начала истории открытия. Поэтому и светские, и духовные власти единогласно признавали дарование неограниченной свободы туземцам равносильным разорению колоний в духовном и экономическом отношениях. Из переговоров, возникших по этому поводу, развилась, наконец, система Repartimientos и Encomiendas. Принципиально этим признавалась личная свобода туземцев. Но для того, чтобы воспитать их для воспринятия европейской культуры и христианского учения, они распределяются (repartir) между отдельными колонистами, отдаются под покровительство их (encomendar). Таким образом, колонисты получаютъ известную патриархальную власть над вверенными их попечению туземцами. По букве закона все это выходило очень гуманно, но в действительности создало почти всюду для индейцев род крепостного права, которое, при одновременном существовании у них рабства, нередко совершенно парализовало доброжелательные намерения законодателей в отношении известных категорий туземцев.
Закон требовал от обладателя Repartimiento известных нравственных гарантий, а с другой стороны, совершенно точно определял высший размер работ, которые можно было возлагать на туземцев. Но под давлением фактических условий губернаторы различных колониальных округов, и в особенности вновь открытых и подлежавших заселению областей, вынуждены были награждать, в форме дарования Repartimientos, тех колонистов, которые оказали услуги в деле завладения страной. А между тем в открытиях и завоевательных походах наибольшие услуги спутникам и отечеству далеко не всегда оказывали люди с особенно выдающимися нравственными качествами. От участников в подобного рода предприятиях требовалось столько отчаянной смелости и выносливости, что совершенно понятно, если они набирались, главным образом, из элементов, которым нечего было терять и которые могли только выиграть. А тот, кто по целым месяцам презрительно ставил на карту собственную жизнь, рискуя погибнуть голодною смертью или от руки врага, не имел, конечно, ни малейшей охоты обращаться бережно и заботливо нежно с существами, по его мнению, низшего рода, – с людьми, для подчинения которых европейскому игу предстояли, быть может, еще долгие кровавые битвы, сопряженные с большими потерями. И самые благонамеренные губернаторы, при всем их желании, едва ли когда-нибудь в состоянии были добросовестно применять законы относительно Encomiendas. В местностях, слабо заселенных европейцами, необузданные элементы их, без которых едва ли возможно было распространение испанской власти, часто поднимались против распоряжений, когда те, ссылаясь на закон, стремились ограничить то, что, по их мнению, было вполне заслужено ими за их иногда почти сверхчеловеческие усилия и лишения. Эти одичавшие поселенцы устранили не одного губернатора, который хотел заставить уважать законы относительно Епсоmiendas.
Мы нисколько не думаем отрицать большие злоупотребления по отношению к туземцам на всем обширном пространстве завоеванных территорий, но полагаем, что ревнители за человеческие права туземцев, между которыми видное место занимает епископ Бартоломе де Лас Казас, преувеличивали ужасы индейского режима. Часто индейцев, действительно, обременяли непосильной работой, – и тысячи из них погибли от этого. Едва ли, однако, можно допустить, как общее правило, подобное легкомысленное обременение их, так как прежде всего сами колонисты были слишком заинтересованы в том, чтобы сохранить для себя работников. На Антильских островах, открытых и заселенных раньше других, туземное население исчезало с поразительной быстротою; но в этом, во всяком случае, участвовали причины самого различного свойства. Прежде всего численность их была вообще значительно преувеличена: Колумб был заинтересован в том, чтобы усилить значение своего открытия. Страстная агитация в пользу свободы индейцев, начавшаяся уже через 20 лет после открытия, окончательно спутала представление о численности их. Если взвесить, однако, что Антильские острова заселялись аровакскою народностью с материка лишь исподоволь, и что это племя рыболовов и охотников нигде не образовало больших, плотных поселений; что, далее, аровакам приходилось в течение ряда поколений подвергаться истребительной войне со стороны таких страшных морских пиратов как караибы (см. выше стр. 197), то едва ли можно допустить в момент открытия многочисленное население на Антильских островах. Кроме того, туземцы очень скоро узнали, что новые пришельцы являются для них, пожалуй, гораздо более опасными врагами, чем караибы. Поэтому они часто убегали из деревень в пустыни, где, сражаясь между собою и с христианами, также терпели большие потери. Ко всему этому следует прибавить непривычный род работы, перемену в питании и образе жизни и, наконец, болезни, которые, будучи занесены европейцами, эпидемически свирепствовали между туземцами и производили в рядах их жестокие опустошения. Лишь все эти обстоятельства в совокупности, а не одно дурное обращение колонистов, ответственны за вымирание населения Антильских островов.
Это уменьшение населения имело в одном отношении важное влияние на судьбу всего туземного вопроса: оно повело к нарушению принципа общей свободы индейцев. Уже в 1505 году Фердинанд Католический повелел усмирять и превращать в рабов туземцев, которые стали бы с оружием в руках сопротивляться культурным воздействиям и обращению в христианство. Быть может, это позволение имело первоначально в виду только караибские племена, которые перенесли свою вражду к аровакам на мнимых покровителей их. Но чем заметнее становился контраст между возроставшей колонизацией больших островов и убылью туземного населения, тем чаще давалось это разрешение, под покровом которого велась обширная торговля индийскими рабами. Ничего не было легче, как вызывающими действиями заставить раздраженного туземца взяться за оружие, после чего можно было, не нарушая закона, увести его, как раба. Этим путем в короткое время было совершенно вывезено население Малых Антильских островов, где не было испанских колоний. Обитатели этих островов доставлялись в виде рабов на большие острова, где, для отличия от миролюбивых индейцев, клеймились на бедрах раскаленным железом (замечательное логическое последствие мероприятия, исходившего из гуманной идеи). Вскоре, однако, и они не могли удовлетворять постоянно возроставшей потребности в рабочих силах и пополнять сильную убыль таковых. Тогда охота на рабов была перенесена и на материк и в особенности на северное побережье Южной Америки, жители которого, родственные по происхождению с островитянами, оказывали необыкновенно сильное и упорное сопротивление первым колонизаторским попыткам.
В этом периоде охота за рабами приняла такие размеры, которые вызвали первые проблески протеста. Вскоре этот протест разросся до внушительной степени, причем вопрос осложнился обстоятельствами, которые не имели прямого отношения к предмету. Мы видели, что первоначально духовенство колоний отнюдь не было склонно ратовать за неограниченную свободу индейцев. Не только белое духовенство, но и францисканцы, игравшие особенно видную роль в колониальном управлении со времен Колумба, который сам принадлежал к этому ордену в качестве мирского члена, не находили ничего предосудительного в том, что индейцев подчиняли христианам при помощи умеренного насилия и что, в случае открытого сопротивления с их стороны, следовало порабощение их и обращение с ними, как с врагами. Иное положение в этом вопросе заняли доминиканцы; благодаря тому, что различные точки зрения на туземный вопрос создавали борьбу одного ордена с другим, этот вопрос бесспорно значительно обострился. Первый, кто решился осудить с кафедры и назвать позорным и святотатственным господствовавшее отношение к туземцам, был доминиканец, брат Педро де Кордова, который, в силу того, вскоре стал известен далеко за пределами своей паствы (он проповедывал в Санто Доминго).
К идеям его примкнул Бартоломѐ де Лас Казас, который в то время был еще сам рабовладельцем на Кубе. Его страстная натура сделала его одним из самых известных и горячих пионеров в борьбе за свободу туземцев. Лас Казас отправился в первый раз к испанскому двору еще при жизни Фердинанда Католического. Хотя сочувствие к ярким описаниям его, рисовавшим жестокое обращение с туземцами, было далеко не всеобщим, но он добился, по крайней мере, того, что решено было отправить особую комиссию для исследования фактического положения дела. Борьба между францисканцами и доминиканцами в туземном вопросе достигла такой остроты, что оба ордена были принципиально устранены от выбора в комиссию. Но так как этот вопрос рассматривался, как дело совести, и поэтому желательно было передать его в руки духовенства, то, в конце концов, согласились избрать трех монахов иеронимитов и отправить их на острова, снабдив дискреционными полномочиями.
Лас Казас горячо оспаривал беспристрастие этих трех отцов, так как они не могли стать на его точку зрения. Но он был бесспорно несправедлив к ним. То, что он рекомендовал, как универсальное целебное средство, – образование независимых общин индейцев, которые сами управлялись бы и были бы доступны из испанцев только духовным лицам, как руководителям в религиозных делах, – было испробовано иеронимитами. И сам Лас Казас потерпел неудачу, когда, несколько лет спустя, попытался создать на этих началах действительно жизнеспособную общину на полосе побережья Париа, отрезанной от всяких сообщений с белым человеком. Столь же неудачны были попытки, предпринятые в этом направлении иеронимитами на Санто Доминго еще при менее благоприятных условиях. Отозвание этих монахов еще более обострило отношения между религиозными обществами, и правительство было, наконец, вынуждено изъять весь вопрос из рук духовенства и передать его светским чиновникам. Лиценциат Родриго де Фигероа держался совершенно в стороне от теоретических точек зрения и регулировал туземный вопрос исключительно на почве существующих законов. Эти законы гарантировали мирным индейцам известную свободу, но разрешали превращать в рабов тех, которые держали себя враждебно. Поэтому он прежде всего установил, кого из индейцев следует считать враждебными. Руководясь вполне беспристрастными воззрениями, он весьма существенно ограничил область, предоставленную охотникам на рабов. Обращено было более серьезное внимание на положение индейцев в Repartimientos и Encomiendas, неизбежным последствием чего было общее улучшение в обращении с ними.
Вместе с тем, приблизительно в это же время, совершился, по крайней мере, в островных колониях, экономический переворот. Долгое время, несмотря на все усилия правительства, значение испанских колоний было немногим выше постоянных торговых факторий: собирали все ценное, что̀ можно было получить в обмен от туземцев, производили с помощью их раскопки и промывки для добывания благородных металлов. Но каждый раз, когда правительство посылало за океан семена и растения, культура их не прививалась: туземцы не понимали ее, а колонисты считали для себя недостойным заниматься этим. И так как ценные продукты почвы имелись только в ограниченном количестве, то меновая торговля вскоре истощилась. Новые открытия оживили торговлю Санто Доминго, но вместе с тем постоянно отвлекали оттуда рабочие силы и все более уменьшали самостоятельное значение острова, вследствие чего поселения на нем сильно убывали. В это время культура сахарного тростника создала новое прибыльное средство для поддержания колонистов. Правда, и этот род хозяйства требовал рабочих сил, но не губил их в такой степени, как промывка золота. Кроме того, возделывание сахарного тростника было связано с оседлым образом жизни и давало колонистам постоянную работу, тогда как добывание золота представляло вечные тревоги и превратности в погоне за счастьем.
Пока на обширном пространстве колоний имелись и другие источники для добывания средств к жизни и прежде всего обширное скотоводство, возделывание сахарного тростника существенно способствовало поддержанию жизнеспособности испанских колоний. Но затем оно приобрело громадное значение для развития их, благодаря тому, что дало толчок к ввозу рабов-негров. Местами испанские властители пользовались ими уже с самого открытия Америки. Прошло немного времени и в колониях убедились, что негры превосходно акклиматизировываются там, а в смысле работоспособности значительно превосходят туземцев. Правительство не сочувствовало, однако, ввозу негров. Опасались, что эти язычники, едва только принявшие крещение и, во всяком случае, не твердые в христианской вере, окажут тормозящее влияние на обращение индейцев. Поэтому африканские негры были совершенно исключены из колоний, а вывоз черных домашних рабов подвергся наивозможному ограничению. И только повторные петиции колонистов об усилении подвоза черных рабочих сил открыли правительству значение этого вопроса. Наконец, вообще весь взгляд на него радикально изменился, когда сам Лас Казас стал настойчиво рекомендовать ввоз негров-рабов из филантропических соображений, именно для ограждения индейцев от обращения в рабство. Если и затем еще правительство принципиально воспрещало иммиграцию негров, то это делалось лишь из фискальных интересов. В действительности, уже с 1516 года почти ежегодно одними откупщиками монополии на рабов ввозилось прямо с Гвинейского берега в Новый Свет около 4000 черных, не говоря уже о массе их, которая попадала в колонии в силу особых разрешений, а впоследствии путем контрабанды. Во всяком случае, уже около средины XVI столетия черные и метисы, происшедшие от соединения их с белыми и индейцами, составили элемент населения, который имел выдающееся экономическое значение. Кроме того, они заслуживали особенного внимания еще по той причине, что они, еще менее индейцев, подняты были колонстами на какой-либо культурный уровень, и они были от природы гораздо менее податливы, но в то же время едва ли менее склонны уйти от своих владельцев и в пустыне вернуться к нравам и обычаям своей родины. Уже в 1550 году испанцам приходилось подавлять опасные восстания черного населения. От времени до времени эти вспышки повторялись, пока, наконец, после успешного возмущения в 1808 году, неграм не удалось основать независимое государство в западной половине острова Санто Доминго, в республике Гаити.
Смешение рас в испанской Америке имело сравнительно небольшое значение. В первые годы существования большинства колоний, пока европейские женщины еще не прибыли туда или, в силу господствовавших там условий, не могли прибыть, – внебрачное сожительство с туземными женщинами составляло общее правило. Там, где это продолжалось долго, как, напр., в Парагвае, образовалась, наконец, многочисленная смешанная раса (см. выше стр. 380). В Мексике и Перу, вероятно также в Богота̀, браки испанских конкистадоров с женщинами туземной аристократии заключались чаще по политическим соображениям. Испанские короли признали эту аристократию и поставили ее наравне с испанскою. В общем, однако, испанцы в колониях не менее заботливо следили, чем на родине, за чистотою и несмешанностыо крови: креолы до сих пор еще особенно гордятся тем, что прадеды и прапрадеды их были чисто испанской крови. Но если колонисты европейского происхождения сознательно противополагали себя туземным расам, то, с другой стороны, измененные условия жизни, иной климат, иные социальные условия создали с течением времени сперва смутно ощущаемый, потом совершено сознательный контраст между ними и теми испанцами, которые, в качестве купцов, солдат, чиновников, лишь временно оставались в колониях и не утратили чувства, что они там чужие.
Карл V, при вступлении на престол, застал вопрос о туземцах в полном ходу и сперва не вмешивался в развитие его. К первым годам его правления относится ожесточенная бумажная война между Лас Казасом и Сепульведою по поводу допустимости рабства индейцев; сюда же относится и неудачная колониальная попытка доминиканца, назначенного патроном индейцев. Учреждение должности защитника туземцев было, кроме того, распространено повсеместно: в каждой колонии одному из высших духовных лиц вверялась специальная охрана туземцев. Законы относительно обращения с индейцами постоянно изменялись и вырабатывались в смысле более интенсивного внимания к их интересам. Наконец, указ в Гранаде от 17 ноября 1526 года соединил все распоряжения относительно обращения с туземцами в 6 параграфов. Указ все еще признавал две категории индейцев, дружественных и диких, и разрешал обращать последних в рабство; но для этого в каждом отдельном случае было необходимо получить разрешение от особых чиновников. С тех пор этот закон имел силу не только во всех колониях, но и при всяких договорах при новых открытиях. За ним последовали быстро одно за другим дальнейшие распоряжения в благоприятном для индейцев духе. После долгих споров за и против, рабство индейцев было, наконец, уничтожено окончательно в 1530 году. Правда, проведение этой меры в жизнь встречало еще затруднения в различных провинциях и затянулось на много лет; но закон оставался непоколебимым и был, наконец, осуществлен со всею строгостью, несмотря на сопротивление колонистов.
Несколько раз правительство пыталось совершенно уничтожить encomiendas; но эта мера не была проведена по двум причинам: она грозила подорвать материальное благосостояние колонистов и повредить культурному развитию индейцев. В виду того, правительство ограничилось тем, что все более и более очищало систему encomiendas от всех присущих ей недостатков и все строже наблюдало за добросовестным применением ее. Однако, принцип способствовать культуре индейцев путем более тесного сближения их с испанцами и, с другой стороны, предоставлять конкистадорам и потомству их попечение об индейцах в виде награды и признания их заслуг, – этот принцип остался в полной силе. Впрочем, далеко не все индейцы были распределены по encomiendas. В каждой провинции, в каждом округе правительство с самого начала удержало за собою известную часть земли и часть населения, которая должна была работать для короны, но не для отдельных колонистов. Чем дальше, тем энергичнее становилась борьба с злоупотреблением encomiendas, тем более ограничивались размеры и затруднялось получение их. В конце концов, одни лишь индейцы в непосредственном соседстве местечек, основанных в эпоху конкистадоров, сохранили в отношении колонистов положение оберегаемых. Обширные области, которые не были густо заселены европейцами, оставались, как и раньше, свободной страной индейцев. Обращение в христианство и образование их были предоставлены почти исключительно религиозным обществам и миссионерам, которых посылали эти общества.
С. Миссия
Заслуги испанского духовенства в колониальной области чрезвычайно велики. Неразумное доктринерство эпохи просвещения, в связи с созданными романтизмом мечтаниями о первобытных состояниях человеческого общества, ставили в упрек испанским миссионерам, будто они в слепом фанатизме уничтожали остатки почтенной древности и приносили народам Америки, вместо духовного освобождения, одно лишь духовное порабощение. Если миссионеры и священники в тех провинциях, где существовали тщательно развитая религиозная система и многочисленная и влиятельная иерархия, поступали иногда со всей строгостью и энергией против их бесчеловечных действий (напр., в Мексико), то это было лишь актом необходимости. Нельзя отрицать, конечно, что при этом местами были уничтожаемы предметы языческого поклонения, об исчезновении которых скорбит этнографическая наука наших дней. Но, с другой стороны, именно эти священники, а во многих провинциях только они одни, не щадили усилий, чтобы исследовать, собирать, отмечать языки, нравы и предания туземцев. Современная наука обязана именно им наиболее богатым и ценным материалом для лингвистического и этнологического изучения. Правда, лишь очень немногие из них сознавали, какие услуги они оказывают будущему исследованию; внимание их было привлечено к более близким придметам – к образованию и обращению индейцев.
Там, где светское управление шло рука об руку с духовным, мы меньше слышим о благотворной деятельности религиозных общин. Тем не менее, деятельность доминиканцев и Лас Казаса, а также бесчисленные отдельные заметки в отчетах администрации и в светских и духовных хрониках доказывают, что и там деятельность их шла в том же направлении, как и в областях, где работали исключительно они одни. В особенности в истории этих последних областей они оставили по себе неразрушимые памятники. После того, как все пространство нового материка было поверхностно исследовано в период завоеваний, испанская колонизационная деятельность сосредоточилась к концу XVI века в тех областях, которые обещали европейскому хозяйству непосредственные выгоды. Наоборот, обширные массы суши, от которых не ожидали многого для культуры, частью по климатическим условиям, частью вследствие политических соображений, оставались почти нетронутыми.
К этой заброшенной области принадлежала большая часть внутренней страны южной Америки, к востоку от Кордильер и к северу от устья Ла-Платы. Эта обширная область, омываемая обильными водами Амазонки и ее притоков, Парагвая и других притоков Ла-Платы, пришла в соприкосновение с европейской цивилизацией и сохранилась для нее, почти исключительно благодаря миссионерам. В первое время, главным образом, францисканцы и августинцы из монастырей и коллегий перуанского плоскогория взяли на себя обращение индейцев, живших вниз по течению бесчисленных рек и потоков, которые устремляются с Кордильер на восток. С беспримерным самопожертвованием и самозабвением странствовали эти духовные отцы среди дикарей, и нередко в такой деятельности проходили месяцы и годы прежде, чем им удавалось вступить в сношение с туземцами и этим положить основание для своей материальной и религиозной культурной работы. Исходя из убеждения, что непрерывное перемещение индейцев крайне препятствует духовному воздействию на них и что раньше, чем образовывать, нужно сделать их оседлыми, миссионеры направили свои усилия сперва к тому, чтобы отыскать и указать индейским племенам, которых желательно было обратить, подходящие места для обитания, т. е. такие, которые соответствовали их склонностям и культурным требованиям. При этом они умышленно избегали близости европейских поселений вопреки законам, воспрещавшим вообще европейцам подолгу оставаться в индейских деревнях, и, наоборот, заняли обширною сетью индейских деревень и местечек сперва средние и верхние долины притоков Мараньона, а в течение XVII века область этой реки и других больших рек Южной Америки. Правда, с течением времени наибольшая часть этих поселений снова заглохла, частью вследствие роковой убыли туземного населения, частью же благодаря преследованиям, которым впоследствии подвергалась деятельность духовных отцов. Тем не менее, ими заложена была главная основа распространения европейской цивилизации в этой всей области.
Область и характер индейских миссий Южной Америки стали известны, главным образом, благодаря иезуитам, которые во второй половине XVI и в начале XVII века перенесли на запад в Новом Свете миссионерскую деятельность, начатую на востоке св. Франциском Ксаверием. Не следует, однако, забывать, что своеобразное устройство т. наз. редукций и миссий было изобретено не иезуитами и практиковалось не ими одними. Если представление об этих учреждениях особенно тесно связывается с орденом иезуитов, то лишь потому, что иезуитские миссии Бразилии и Парагвая оказали на политическую историю южно-американского материка более могущественное влияние, чем деятельность какого-либо другого ордена. Соперничая с другими религиозными общинами, иезуиты уже рано проявили свою деятельность в качестве миссионеров. Сначала они даже работали больше в португальских колониальных владениях, чем в испанских. С 1608 года они заняли исключительное положение, благодаря предоставлению им в Парагвае области, которая не была подчинена никакой гражданской власти. Здесь они могли применить цивилизаторскую работу и обращение индейцев в большом масштабе. Предоставление иезуитам такой необычайной самостоятельности со стороны правительства имело свою особую причину.
Булла Александра VI относительно демаркационной линии (см. выше стр. 359) устанавливала, правда, в принципе границы между испанской и португальской колониальными сферами; но для действительного государственного разграничения было недостаточно этого общего постановления, изложенного в неопределенных выражениях. Оба правительства сознавали это еще в то время, когда состязавшиеся между собою представители обеих стран открыли устье Ла-Платы. По этому поводу несколько раз происходили дипломатические переговоры; но в сущности оба правительства придавали еще слишком мало цены неисследованной и почти ничего не обещавшей области, притязания на которую были сомнительны. Лишь с течением времени вопрос стал на более реальную почву, особенно благодаря не одинаковой колониальной политике, которой следовали оба государства в этих пограничных областях. Из всех испанских колоний всего более выдавалась колония Асунсион в Парагвае, где с самого начала установились дружественные отношения между туземцами и колонистами и где дух испанского законодательства об индейцах проявился в форме, не искаженной внешними влияниями. Между храбрыми и честными гуаранисами (см. выше стр. 193) и товарищами Иралы были заключены дружественные договоры, которые в течение веков ни разу не были серьезно нарушены. Но союз с этим могущественным и распространенным племенем туписов вскоре поставил испанских колонистов в скрытое противоречие с их восточными соседями, португальцами. Силы маленькой Португалии были настолько поглощены ост-индской колониальной политикой, что Бразильская колониальная область уже менее, чем через 10 лет после открытия ее Кабралем, была вполне предоставлена частной эксплуатации. Таким образом в Бахии Всех Святых, на мысе С. Винцент, на острове С. Катерина, в заливе Рио де Жанейро возникло множество небольших поселений, которые, хотя и считались португальскими колониями, но в действительности были населены, наряду с немногими настоящими португальскими подданными, множеством темных личностей (в числе их были, кроме португальских евреев, подданные всех стран). Они вели торговлю весьма сомнительной законности и отправляли свои продукты не только в Лиссабон, но, если удавалось ускользнуть от контроля, и во французские, английские и даже в ганзейские гавани. Между тем, как чужеземные торговцы вывозили, главным образом, бразильское дерево, сахар и другие колониальные продукты, португальцы занимались преимущественно оживленною торговлею индейскими рабами, которых перевозили не столько в Лиссабон, сколько в колониальные гавани, как собственные, так и принадлежавшие к испанским владениям. Как и везде, вследствие этой охоты на рабов, туземцы уходили все дальше и дальше от морского берега. Гоняясь за своей добычей по наиболее доступным дорогам, – водяным путям, и углубляясь, таким образом, все более и более внутрь страны, охотники на рабов вскоре пришли в столкновение с гуаранисами и, косвенным образом, с испанскими колонистами.
Чтобы положить конец этому беззаконию и извлечь больше выгод из обладания колониями, португальское правительство решило изменить свою колониальную систему. В 1531 году большая часть Бразилии была подразделена на т. наз. капитанства, обширные участки земли, владельцы которых, взамен незначительной подати короне, приобретали права феодальных господ Старого Света. Такая же колониальная система была испробована англичанами в одной части Северной Америки. Созданные этой системою 35 капитанств имели то преимущество, что в некоторых местах ими действительно были сделаны попытки колонизации. Так возникли первые сахарные плантации, заводы и первые выгонные хозяйства. В общем, однако, эта система оказалась несостоятельною. Некоторые капитанства были снова заброшены своими владельцами, а другие существовали с трудом. Вместе с тем прежняя незаконная иноземная торговля и охота на рабов не прекращались и тогда, когда создано было центральное управление для отдельных округов и назначен был вице- король, имевший резиденцию в Бахии.
Насколько была слаба фактическая власть португальцев в их бразильских владениях, показывает колонизаторская попытка французских протестантов под Вильгеньоном. Экспедиция их была следствием торговли Диеппа с бразильским побережьем, которая велась с давних пор, хотя и не законно, но почти беспрепятственно. Охотники к эмиграции верили, что там им легко удастся создать новую родину и присоединить к метрополии ценный участок колониальной области. И действительно, они почти пять лет владели бухтою Рио де Жанейро. Если бы не внутренние распри и перемена политических условий на родине, которые пришли на помощь португальцам, то, вероятно, прошло бы еще много времени, прежде чем будущая столица Бразилии снова стала португальскою. Французы, отступая все далее к северу, вновь и вновь пытались стать твердою ногою на бразильской почве и при этом очень ловко держались политики, которую они применяли в большом масштабе в своих поселениях на реке Св. Лаврентия. Они вступали в союзы с туземцами, с одной стороны, для того, чтобы жить с ними в мире, а с другой, чтобы натравливать их на своих колониальных соперников. В Бразилии им тем легче было проводить такую политику, что в глазах португальцев туземцы теперь, как и раньше, оставались, в сущности, товаром, который следовало использовать возможно выгоднее.
Соединение Португалии с Испанией в 1580 году не осталось без влияния на колониальное законодательство, хотя, несмотря на завоевание Филиппом II, Португалия и ее колонии сохранили совершенно отдельное управление. Много раз издавались законы, которые в принципе стремились обеспечить личную свободу индейцев. На фактическое положение вещей они не оказывали почти никакого влияния: колонисты всегда умели добиться того, что обладание индейцами-рабами оставалось неприкосновенным даже с юридической стороны. Положение туземцев и здесь складывалось более благоприятно только в глубине страны, куда из европейцев проникали почти одни лишь миссионеры.
Там открывалось широкое поле деятельности для иезуитов, которые впервые появились в Бразилии в 1549 году. Если в северных провинциях в начале их не слишком тревожили охотники на рабов, то лишь потому, что они, в силу долголетней привычки, неясности политических границ и других условий, держались, главным образом, на юге. Но там они мало-по-малу сделались настоящим бичем не только для индейцев, но и для испанских колоний. Когда иезуиты и на юге выступили в защиту туземцев, возникла замечательная организация иезуитских миссий Парагвая, относительно которой и теперь еще взгляды так сильно расходятся.
Цель иезуитов заключалась в том, чтобы защитить гуаранисов от преследования европейцев. Когда они убедились, что колонисты и колониальные чиновники Асунсиона и Буэнос Айреса, ради собственной выгоды, нередко действовали тайно и сообща с португальскими охотниками на рабов, то, вместо того, чтобы переселиться в необитаемые места и там собрать вокруг себя туземцев, как они делали это в других областях, они добились от Филиппа III, бывшего одновременно правителем Испании и Португалии, уступки полосы земли на восток, от Парагвая до Уругвая. Здесь они имели право господствовать и управлять почти независимо от какой бы то ни было светской или духовной власти. Старания их стянут вокруг себя индейцев окружающих областей, благодаря их кроткому управлению, быстро увенчались поразительнымъ успехом; население их редукций вскоре превысило 100 тысяч душ. Здесь были не одни гуаранисы, но так как эти племена почти исключительно принадлежали к народу туписов, то иезуитам не трудно было сделать язык гуаранисов всеобщим. Ту же цель они преследовали, и также удачно, в миссиях северной Бразилии. Выработанное ими искусственное наречие гуарани фактически сделалось и осталось универсальным языком Lingua geral цивилизованных туземцев Бразилии (см. выше стр. 193). Совершенно особое впечатление на современников и потомство произвел социальный порядок, введенный иезуитами в областях миссий. Говорят, что они исходили при этом из философских учений и стремились осуществить Солнечное государство Кампанеллы: но это не более, как позднейшие толкования: примеры, которым иезуиты хотели подражать, лежали гораздо ближе к ним. Прежде всего, обширное землевладение орденских общин нередко в отдельных случаях управлялось самой общиной, но еще более иезуитское государство копировало, в главных чертах, социальный строй перуанских инков с его отрицанием частной собственности и общеобязательным трудом. Понятие о личной собственности было еще недосягаемо для большинства некультурных индейских народов, а общность всех работ составляла у них правило. Поэтому не удивительно, что миссионеры могли без затруднений проводить подобные учреждения; они давали при этом индейцу много вещей, которые он ценил и к которым стремился, но при прежней форме общественности часто не мог их добыть: правильное и обильное питание и постоянную защиту как от диких соплеменников, так и от белых врагов.
Миссионеры избрали единственный разумный путь по отношению к язычникам: они начинали обращение с образования. Высшие стороны христианских догматов разум дикаря был не в силах постигнуть. Даже цивилизованный индеец часто составлял себе об этом весьма оригинальное представление, и, чтобы сделать его вообще христианином, хотя бы только кажущимся, нужно было начать с образования его. Вследствие жестокой охоты на рабов, предпринимаемой португальцами, и обращения туземцев с испанскими колонистами, которое во многих случаях было нисколько не лучше, иезуитам удалось поразительно быстро собрать значительное число туземцев на предоставленной им территории. Они основали там ряд местечек, из которых каждое заключало, по меньшей мере, около 2000 жителей: все они представляли большое типическое сходство между собою.
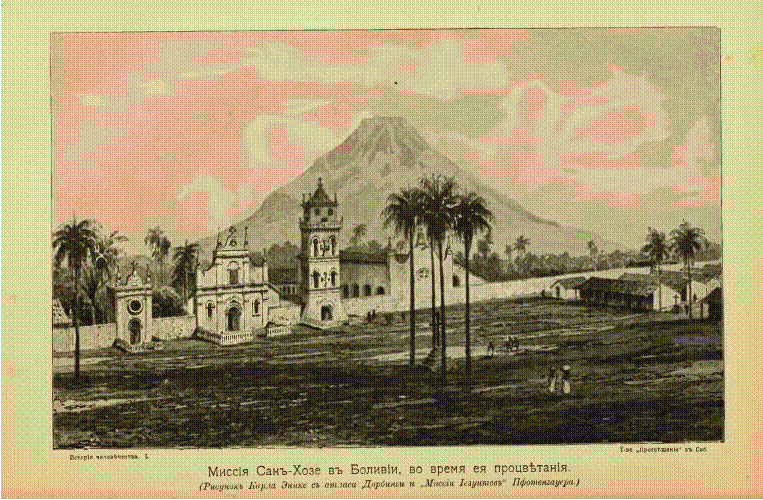
Центр каждой редукции образовала церковь. Так как поселения очень быстро достигали значительного экономического благосостояния, которое могло идти лишь на пользу самых миссий, то в этих индейских деревнях далекой глуши возник ряд почти монументальных церковных построек (см. таблицу «Редукция Сан Хозе́ в Боливии в эпоху ее процветания»). В остальном эти поселения производили весьма однообразное впечатление. Рядом с церковью находилась большая четырехугольная площадь, окруженная важнейшими зданиями – жилищем патеров, складами для припасов, домами для собраний. Отсюда шли по всем направлениям прямолинейные и прямоугольные улицы, в конце которых всегда находилась капелла, построенная на границе городского поля. На этих улицах располагались простые хижины индейцев. Все постройки были делом рук общины и оставались ее собственностью. Обитателю принадлежало только право пользования ими и небольшими садиками, расположенными поблизости, т. е., это было нечто вроде личной собственности. Сад представлял вместе с тем единственное, что семья обрабатывала лично для себя и, нужно прибавить, большею частью, довольно скудно. Обширные маисовые и хлопчатниковые поля, примыкавшие к окраине города, и значительные стада рогатого скота и овец, составлявшие главное богатство редукций, обрабатывались и содержались, согласно распоряжению миссионеров, сообща, принадлежали общине и находились в ее ведении. Весь сбор отправлялся в амбары и оттуда распределялся патерами между отдельными хозяйствами. Точно также отцы регулировали ремесленный труд, в котором обязаны были принимать участие все жители, каждый по своим способностям и знаниям.
При таком обилии рабочих рук, миссионерам ничего не стоило удовлетворять необходимые потребности в отношении жилища, одежды и питания. Но, кроме того, они ввели многие искусства, удовлетворявшие целям роскоши – резьбу по дереву, фабрикацию часов и даже книгопечатание. Во всех этих производствах индейцы не шли дальше подражания, и сами не делали никаких открытий и успехов, несмотря на более чем столетнюю культуру. Причина того лежала в неподвижности самого метода обучения их и затем, действительно, в отсутствии требуемых способностей. В ответ на обвинения, будто они сознательно подавляли человеческую свободу своих подчиненных, иезуиты возражали, что индейцев невозможно было вывести из состояния вечного детства и что предоставление им в большей мере индивидуальной свободы только подорвало бы индивидуальное и общее благосостояние. В этом, вероятно, много правды. Несомненно, что туземцы на самом деле так хорошо чувствовали себя под управлением миссионеров, что не только во все времена беспрекословно повиновались им, но серьезно старались удержать своих духовных руководителей, когда правительство находило нужным отозвать их.
Власть миссионеров была прямо и косвенно почти неограниченною. В каждой редукции находились вообще лишь два европейца, оба принадлежавшие к духовному ордену. Один, настоящий руководитель, стоял во главе духовных интересов колонии, другой управлял материальными делами ее. При них находился род муниципалитета по образцу испанских колониальных городов; он избирался из среди общины, но был всегда безусловно подчинен миссионерам. Насколько иезуиты держали в своих руках туземцев, видно из того, что собственно не существовало никакой светской карательной власти: жители управлялись почти исключительно при помощи силы исповеди. И иезуиты сами сознавались, что на исповеди лишь крайне редко обнаруживались действительные преступления. Конечно, миссионеры были и внешними представителями своих общин; они добились для них возможной политической и экономической независимости. Посторонний редко имел возможность проникнуть в миссии, и при этом оставался исключительно гостем патеров: этим устранялось, во-первых, более близкое знакомство с туземцами и, во-вторых, неблагоприятное внешнее воздействие на последних. Лишь изредка один из миссионеров, сопровождаемый наиболее надежными из туземцев, отправлялся из редукции в испанские поселения для обмена произведений, имевшихся у них в избытке, преимущественно хлопка и кож, на продукты, которые в самой редукции не производились. Но и в этом случае старались, по возможности, избегать соприкосновения с европейскими элементами.
Редукции в Парагвае быстро росли, и вскоре население их сделалось многочисленным. В этом обстоятельстве заключалась, однако, опасность для них. Все поселения были не защищены: сами миссионеры имели существенный интерес в том, чтобы усыплять воинственные наклонности гуаранисов, некогда славившихся своей дикой храбростью. Вместе с тем существовал общий закон, воспрещавший давать индейцам в руки огнестрельное оружие. Вследствие того, для португальских охотников на рабов, которые в XVII веке обладали уже правильно организованным и хорошо вооруженным войском, представлялась легкой задача похищать индейских рабов из миссии вместо того, чтобы изнурять себя в погоне за ними в пустыне. Так они и начали поступать с 1637 года. Для иезуитов это событие имело громадное значение. В виду изменившихся обстоятельств, им удалось добиться отмены воспрещения носить огнестрельное оружие для вверенных их попечению индейцев. С тех пор трудами братьев этого ордена туземцы их поселений превратились в хороших и энергичных солдат. Они с успехом отражали нападения других диких туземцев и разбивали на голову паулистов (так называли португальских охотников на рабов по имени их родины, провинции Сан-Пауло), которым пришлось поэтому перенести поле свой деятельности к северу, вглубь страны. Кроме того, они не раз выказывали себя надежными и хорошо обученными воинами в тех случаях, когда происходили внутренние восстания, или враждебные действия со стороны других европейцев угрожали границам испанских поселений.
Так прошло более столетия в мирной работе иезуитов над обращением туземцев, если не считать случайных столкновений с духовными и светскими властями соседних округов. В это время в Старом Свете дух времени становился все более и более враждебным ордену иезуитов. Такое положение вещей, в конце концов, отозвалось и на поселениях их в дальней пустынной стране. Первый толчок был, впрочем, дан чисто политическими соображениями. Вследствие постоянного открытия новых территорий внутри Южной Америки и развития их, Испания и Португалия, в конце концов, почувствовали в одинаковой мере потребность в установлении более точных границ между своими колониальными владениями. Личная уния обоих государств основанная Филиппом II, была вновь уничтожена португальским восстанием 1640 года. После многолетних неприязненных действий, Испания должна была признать в 1668 году господство Браганцского дома в Португалии и ее колониях. Вместе с тем Испания также переменила династию своих правителей. Когда Фердинанд VI приступил к внутренней реорганизации своего государства, расшатанного долгими неурядицами и многолетней войной за наследство, это отразилось и на колониальных условиях: новая, более светлая и свободная струя повеяла в жизни колоний.
Одним из последствий того явилось желание регулировать границы с Бразилией. Португальцы неоднократно заявляли притязания на левый берег устья Ла-Платы. Они основали против Буэнос Айреса город Колонию и уже не один раз стремились расширить свои поселения в этой области. Для Мадридского правительства это было настоящим сучком в глазу, так как португальские поселения имели почти исключительною целью незаконным образом переступать пределы, в которых Испания старалась держать торговлю с колониями (см. ниже стр. 404). Но так как сама Португалия имела лишь незначительный интерес в этих выдвинутых вперед береговых пунктах, то она охотно согласилась уступить Испании левый берег устья Ла-Платы взамен значительных пространств земли внутри материка; в том числе был уступлен и восточный берег Уругвая, на котором находилось семь миссий, управляемых иезуитами. Согласно договору, туземцы под предводительством своего духовного начальства должны были покинуть эту область и переселиться далее на испанскую территорию. Но когда пограничные комиссары, наконец, приступили к осуществлению договора в этом месте, они встретили не только энергичные представления со стороны иезуитов, но и вооруженное сопротивление туземцев, в начале успешное. Иезуиты, правда, вскоре смирились, получив приказ из Испании, и старались воздействовать в том же смысле на туземцев. Но последние не могли так быстро расстаться с милой им родиной, для защиты которой даже прибегли к оружию. До серьезной войны дело не дошло, но все-таки потребовалось вызвать значительную военную силу, состоявшую из испанцев и португальцев, чтобы убедить туземцев в бесплодности дальнейшего сопротивления.
Этот инцидент сам по себе был так естествен и безобиден, что едва ли давал повод к обвинению против иезуитов. Но в руках всемогущего португальского министра маркиза де Помбаля, который уже тогда искал точку опоры, чтобы сломить власть иезуитского ордена, ничтожное событие превратилось в тяжкую вину. При помощи пытки не трудно было вынудить у нескольких пленных индейцев из миссий признание, будто иезуиты подстрекали их к вооруженному сопротивлению предписаниям союзных монархов. Когда крещеный гуаранис, по имени Николай, собрал остатки индейцев, продолжавших сопротивляться приказу о выселении, и образовал из них шайку, не признающую ни отечества, ни законов, когда он стал производить с этой шайкою хищнические набеги на европейские поселения по обе стороны границы, то появился слух, будто иезуиты, с помощью туземцев, стремились создать внутри южной Америки независимое государство, не признающее никакой светской власти. Для Помбаля, который стремился и, наконец, добился изгнания иезуитов из Португалии, это обвинение имело большое значение; быть может, оно не осталось без влияния и на положение, занятое Карлом III и его министрами в войне, объявленной во всем мире иезуитам. Во всяком случае, ни Помбаль, ни кто другой из прозорливых государственных деятелей серьезно не верил в подобное обвинение. Это был лишь способ агитации, за которым скрывались чисто светские, политические мотивы, побуждавшие настаивать на изгнании иезуитов из Португалии и Испании.
Теперь, когда собственные интересы иезуитов были поставлены на карту, они, тем не менее, не сделали ни малейшей попытки снять с себя обвинения, выставленные против их миссионерской деятельности. В Бразилии, как и в Парагвае, они с немою покорностью подчинились приказу, который нежданно и без всякой подготовки оторвал их от поля деятельности, на котором они успешно подвизались в течение столетия. Даже недостойный, грубый и мстительный способ, каким во многих местах власти приводили в исполнение приказ правительства, ни разу не вывел их из пассивной, терпеливой роли. Повинуясь приказу, они повсюду удалялись: и там, где это грозило лишь благосостоянию вверенных им туземцев, и там, где их самих неизбежно ожидали нужда и гибель. Но в одном отношении история воздала им должное. Как бы мы ни судили о системе обращения иезуитов с туземцами, мы не можем отрицать, что они сумели превосходно защитить индивидуальное благо последних и воспитать из них безусловно преданных и полезных подчиненных. А кто заменил иезуитов, в течение немногих лет снова отодвинул индейцев от всех культурных успехов, завоеванных при иезуитах. Своим неумелым обращением они вернули туземцев к тому же дикому состоянию, в котором мы находим их везде, где неприкрытый эгоизм цивилизованного европейца видел лишь низшее существо в индейце, не успевшем в духовном отношении освободиться от оков вековых предрассудков.
Изгнание иезуитов составляет последнюю важную фазу в политике латинской Америки по отношению к туземцам. С тех пор и в области миссий попечение об индейцах перешло всецело в руки светских властей. Но между тем, как в других провинциях эти власти постепенно фактически осуществляли благие намерения законодательства об индейцах, здесь приходилось в отношении туземцев с самого начала проходить весь путь, на который привело других все большее и большее развитие терпимости. В последние десятилетия испанского колониального владычества в общем не слышно было сколько-нибудь обоснованных жалоб на положение индейцев: известная незрелость и зависимость там, где она существовала, являлась в гораздо большей мере результатом природной неспособности, поколениями выработанной привычки, нежели неправильного применения законов. Правильное понимание основ и воззрений европейского культурного развития и теперь еще недоступно для большей части индейцев Южной Америки, несмотря на то, что они уже в течение двух поколений считаются свободными гражданами свободных республик и пользуются всеми возможными гарантиями личной свободы. Но такое состояние неизбежно и роковым образом обнаруживается всегда, как скоро сталкиваются две нации с совершенно различными культурными основами и с огромной разницей в степени культуры. Отдельные индивидуумы, благодаря особенным способностям, могут, конечно, подняться до одинакового культурного уровня; но во всей своей массе менее цивилизованный народ всегда останется в духовной, а следовательно, и материальной зависимости от народа, стоящего выше. Никакое уравнение перед законом не может иметь для менее образованного народа такого значения, как практическое применение положения, в силу которого гуманное попечение о слабом составляет долг чести для народа более культурного.
D. Испанская торговая политика
Относительно туземной политики испанского правительства должно признать, что она была самой просвещенной и гуманпой, какая где-либо и кем-либо применялась, но нельзя утверждать того же относительно его торговой политики. Уже то обстоятельство, что все сношения с колониями монополизировались в одной гавани Севильи, является столько же следствием сделок, заключенных с Колумбом, сколько подражанием португальским порядкам. Колумб выговорил себе по условию, кроме права участия во всех дальних колониальных плаваниях, еще долю чистой прибыли в совокупных колониальных предприятиях. Для того, чтобы выполнить это обязательство, безусловно требовался строгий контроль над всеми колониальными предприятиями, над их расходами и доходами. Этого, конечно, нельзя было бы достигнуть, если бы суда могли отправляться в колонии из любой гавани испанского полуострова, окруженного с трех сторон морем. Мы знаем уже, что тяжбы между правительством и наследниками Колумба тянулись вплоть до половины XVI века, пока, наконец, после долгих тяжб и повторных сделок, не состоялось окончательное соглашение. Но, в силу воззрений правительства на этот вопрос, Севилья и впоследствии продолжала сохранять исключительную монополию сношений, и прежний порядок контроля строго соблюдался. Земли, которые вошли в состав владений кастильской короны, благодаря открытию Колумба, считались не столько территориальным приобретением страны, сколько прибавлением личных владений кастильских королей. Такого же взгляда держались в XVI и XVII веках все государства, которые вообще преследовали колониальную политику, и остатки его можно почти всюду отметить и теперь. В Испании живучесть его так велика, что она до сих пор не может вполне отделаться от него, не взирая на ряд прогрессивных революций в течение трех поколений.
При такой правовой точке зрения, конечно, всецело зависело от усмотрения правительства или тех, кому оно уступало свои права, допустить то или другое лицо в колонии для поселения или торговых целей. И, действительно, ограничения были с самого начала очень многочисленны и за исключением некоторых принципиальных уступок, сделанных в первые десятилетия, держались долго, слишком долго. Сперва право вступать в сношения с колониями принадлежало одним кастильцам, на том основании, что колонии составляли владения кастильской короны; впрочем, в 1495 году это право было распространено и на уроженцев Аррагонии. Дальнейшее распространение его последовало через несколько лет после вступления на престол Карла V. В силу преимущественно экономических соображений, он решил открыть доступ в колонии всем подданным многочисленных государств, которыми правил. Испания приобрела необъятные колониальные владения в такой момент, когда этот дар мог и должен был оказаться чрезвычайно опасным для ее развития. Испания только что устранила последние остатки владычества мавров и восстановила политическое единство на собственной земле. Фердинанд и Изабелла сделали лишь первые шаги к более энергическому развитию естественных средств страны, которая значительно отстала в экономическом отношении, благодаря непрерывной борьбе с полумесяцем. И тогда-то для местного труда появился новый опасный враг: перспектива быстрого, хотя и рискованного обогащения в колониях отвлекает тысячи и тысячи здоровых рук далеко не густого населения от медленной, но более прочной работы у себя на родине и создает серьезную конкуренцию домашнему земледелию и промышленности.
При таких затруднительных обстоятельствах Испания не могла взять на себя исключительное бремя заботы о колониальных владениях, необычайно расширявшихся с каждым десятком лет, несмотря на то. что она успешно подвигалась на пути экономического развития, основы которого были созданы католическими государями. Закон об устранении иностранцев был еще раньше нарушаем ради тех, кто умел, преследуя личные выгоды, не забывать и выгод государства и колоний. Открывая Новый Свет для всех новых подданных своих, Карл V имел в виду приобрести новые силы для осуществления экономических задач, которые колонии ставили правительству. Доказательством такой именно точки зрения его служит то обстоятельство, что он старался привлечь к колониальным предприятиям наиболее могущественные экономические факторы своих внеиспанских владений: из Германии – Ганзу и аугсбургских негоциантов, из Италии в особенности крупных генуэзских купцов.
Естественно, что законы страны относительно сношений с колониями сохраняли силу и для них. Они точно также обязаны были сперва входить со своими кораблями и товарами в Севилью и уплачивать входную пошлину; они должны были подчиняться контролю Casa de contratacion, согласно которому не разрешалось отправлять в колонии ни одного человека, никакого товара, который не удовлетворял бы всем законным требованиям и, подобно испанцам, могли возвращаться не иначе, как через Севилью, где подвергались такому же осмотру. На них распространялось также воспрещение вывозить обратно из Испании наиболее ценные предметы колониального ввоза, в особенности благородные металлы. С течением времени, однако, и для правительства, с его предвзятыми меркантильными взглядами, сделалось ясным, что подобный порядок во всей его строгости долго держаться не может, так как Испания вместе с ее колониями и через посредство их потребляла гораздо больше, чем могла вывозить. Но оно не сумело помочь этой аномалии, не усмотрело, что вследствие совершенно изменившихся обстоятельств в зависимости от добывания благородных металлов в Новом Свете, золото и серебро также низошли на степень товаров, и никакой человеческий закон не был в состоянии фиксировать их ценности. В первые годы торговля с колониями не была обложена никакими пошлинами. С усилением торговых сношений введены были и здесь такие же пошлины для ввоза и вывоза, какие были приняты вообще между отдельными испанскими странами и в других местах. Исключение составляли благородные металлы, так как они не признавались товаром. Государство, впрочем, и здесь обеспечило свою долю, именно пятую часть из всего количества добываемого благородного металла.
Для правительства было чрезвычайно важно, особенно в первое время, по возможности оживить сношения с колониями. Поэтому оно охотно предоставляло, через посредство Casa de contratacion, каждому кораблю, который желал переправиться через океан, необходимые пропуски и продавало морские карты, насколько это было для него возможно. Оно устроило собственную школу штурманов и при ней испытания для моряков. В первое время очень часто делались отступлетя от строгости закона: от времени до времени число выходных гаваней значительно увеличивалось, а в отношении Канарских островов было навсегда постановлено, что корабли не обязаны оттуда заходить в Севилью. Таможенный досмотр производился также не во всей строгости. Так, известно было, что возвращавшиеся корабли часто складывали тайком значительную часть своего груза на Азорских островах, принадлежавших Португалии, и этим путем ускользали от пошлины. Еще Филипп II в первый год своего правления велел своим Советам не поступать по всей строгости закона против этого обычая, поскольку здесь были замешаны собственные подданные его. Без сомнения, подобного рода ограничительные постановления должны были отражаться особенно тяжело на колониях. Так как они исключали свободную конкуренцию, то в связи с сравнительным избытком золота и серебра повели к тому, что цены между колонией и метрополией находились вначале в отношении 5:1; уже в конце XVI века существовало еще отношение 3:1. Поэтому агитация против ограничительных для торговли законов велась в колониях особенно оживленно. Правительство продолжало именно там держаться строго системы таможенного досмотра, так как дальность расстояния и необычайная обширность слабо населенного побережья открывали широкий простор злоупотреблениям всякой льготою и делали немыслимым какой-либо контроль.
Еще прежде чем в Новом Свете, наряду с Санто-Доминго, возникла какая-либо новая гавань, имевшая серьезное значение для ввозной торговли, политические условия метрополии сами по себе повели к новой организации торговых сношений с колониями. Эта перемена оказалась чрезвычайно полезною для контрольной системы правительства, причем связанные с этим невыгоды для колонистов не сразу дали себя почувствовать. Успехи, достигнутые испанцами и португальцами, благодаря их заатлантическим флотам, не остались без воздействия на прочие европейские государства. Французские и английские моряки, которыми в первых плаваниях часто руководили еще итальянские лоцманы, вскоре стали отваживаться сами переплывать океан. Об открытиях их в Северной Америке будет еще речь впереди (сравн. стр. 425). Пока Испания жила в мире с остальным светом, и колонии ее лишь слабо вознаграждали поглощаемые ими суммы, это вмешательство других государств в колониальную сферу не имело большого значения. Но при Карле V, когда стремление Испании к всемирному господству становилось все настойчивее, обнаружился сильный антагонизм сперва в отношении к Франции, а при Филиппе II, и в отношении к Англии. Отсюда началась открытая вражда, которая привела в Европе к неоднократным войнам, а на океане – к смелым предприятиям пиратов. Затем последовали хищнические нападения на колониальные поселения американского побережья, и, в конце концов, чужие государства с успехом стали отрывать там и сям частицы старинных испанских колониальных владений.
Эта вражда особенно чувствительно отзывалась на одиноких и безоружных кораблях, циркулировавших между Испанией и колониями. Желая предупредить нападения на них, Карл V в 1526 году издал постановлeние, чтобы корабли в военное время выходили и возвращались не каждый отдельно, но соединялись бы во флоты, способные оказать сопротивление. Таково происхождение знаменитых Flotas и Galeones. которые в течение двух столетий были исключительными посредниками сношений между испанской Америкой и остальным цивилизованным миром. Эта мера первоначально имела лишь в виду безопасность заатлантического сообщения. Вскоре, однако, все участвовавшие в ней органы почувствовали и оценили огромные выгоды, вытекавшие отсюда для целей контроля со стороны фиска.
Во время введения Flotas распространение испанской расы в Новом Свете еще не было закончено. Поэтому организации торговли предстояло еще пройти несколько фаз развития, прежде чем достигнуты были прочныя формы. Она приняла тогда приблизительно следующий вид. Ежегодно в марте и сентябре все корабли, подлежавшие отправке в Вест-Индию, собирались в Севилье или, если глубокая осадка их не дозволяла этого, в наружном порте Сан Люкар де Баррамеда, а впоследствии в Кадисе. Число кораблей должно было быть не менее десяти; в противном случае, флот вообще не получал разрешения к отплытию. Большею частью, число это колебалось от 20 до 30, а в некоторых случаях бывало значительно больше. Так, в 1589 году для перевозки всего, что было доставлено флотом в Портобело, потребовалось не менее 94 судов, которые отплыли из Панамы на юг. Корабли, которые имели менее 100 тонн вместимости, вообще не допускались к плаванию в Вест-Индию. Затем всякий купеческий корабль с большим грузом должен был иметь не менее 4 тяжелых и 16 легких орудий и каждый человек на борту – оружие. Два самых больших судна назывались Capitana и Almiranta. Первое из них с главнокомандующим всего флота на борту шло впереди; адмиральский корабль шел сзади и следил, главным образом, за тем, чтобы флот не разбивался, Capitana (капитанский) и Аlmiranta (адмиральский) были вооружены сильнее других кораблей и, для увеличения боевой способности их, они нагружались меньше, чем купеческие суда. Кроме того, в первое время флот сопровождался, по крайней мере, одним, а впоследствии по большей части, несколькими большими кораблями, Galeones, задача которых состояла, главным образом, в том, чтобы охранять безопасность флота. Они имели не менее 200–300 тонн вместимости, были сильно вооружены и не должны были брать много груза. В то же время на обязанности их лежало доставлять в Испанию в целости золото и серебро, собранное для короны в виде налогов и пошлин. Однако, и в этом виде индейские флоты, от которых все больше и больше зависело почти все благосостояние Испании, в военное время считались недостаточно обеспечеными. Сделан был добавочный налог на индейскую торговлю и на доходы с него создан охранительный флот, который состоял из галер и галеон и должен был сопровождать торговые флоты далеко в открытое море и обратно на пути домой. Впоследствии каждый флот сопровождало несколько легких судов мелкого размера, Avisos, на которых возможно было идти впереди с целью открывать грозящую опасность и своевременно предупреждать власти о прибытии флота.
Соединенный флот, прибыв из Севильи в Санто Дминго, вновь подвергался такому же досмотру, как и при отплытии. После того корабли, отправлявшиеся через Пуэрто-Рико и Гаванну в Веракрус, так наз. флот Новой Испании, отделялись от тех, которые шли через Мексиканский залив в Картахену и оттуда в Портобело, – так наз. материкового флота. Последний был несравненно значительнее, так как он поставлял товары для всего южно-американского материка. Дело в том, что все провинции этого материка не только были лишены права вступать в непосредственные торговые сношения с метрополией помимо флотов, но даже взаимный обмен между отдельными провинциями был крайне ограничен таможенными и торговыми запретами и сводился к обмену некоторыми продуктами собственной почвы; предметы европейской торговли совершенно исключались из обмена. Материковый флот снабжал из Портобело прежде всего Перу и Чили, а затем даже Тукуман и Парагвай, страны нынешней Аргентинской республики. Вследствие отсутствия сколько-нибудь значительного поселения в устьях Ла Платы, создалась странная аномалия: товары, предназначенные для юго-востока Америки, должны были два раза пробегать водораздел между Атлантическим и Великим океаном прежде, чем достигали места своего назначения. Правда, Буэнос-Айрес был в первый раз основан еще в 1535 году, но почти тотчас распался. Только в 1562 году это поселение окончательно упрочилось. В первое время, однако, оно не имело значения. Большое расстояние этого города от центров испанского колониального управления, открытое положение его на побережьи, неудобном для защиты и, наконец, непосредственное соседство португальцев, которые признавали своим противоположный берег бухты, – все это служило для испанского правительства мотивами против устройства здесь гавани для заокеанских торговых сношений. Лишь в 1617 году эта область организовалась в особый колониальный округ. После этого здесь еще долго шла обширная, но не законная торговля с другими нациями, прежде чем правительство решилось, при изменении торгового пути в Чили и Перу вокруг мыса Горна, включить и Буэнос-Айрес в число мест, куда должен был заходить флот.
До этого времени, однако, главный торговый путь лежал через Портобело. Как населенный пункт, это место не имело почти никакого значения; к тому же, благодаря своему нездоровому климату, оно оставалось большую часть года почти необитаемым. И только ко времени прибытия флота стекались сюда купцы со всех концов южной Америки. После прибытия флота открывалась сорокадневная ярмарка, во время которой совершались грандиознейшие торговые сделки и самые рискованные спекуляции во всей Америке. В городе палаток и бараков, наскоро построенных, воцарялась на короткое время жизнь, полная роскоши и наслаждений, всегда идущая рука об руку с легким обогащением. Но как только, к концу ярмарки, начиналось снаряжение флота к обратному отплытию, население Портобело исчезало. Только через полгода, через год или более возобновлялась та же картина. Прибытие флотов, большею частью, заставляло желать многого в смысле аккуратности. Правда, недостатка в готовых к отплытию судах никогда не было; но нередко стихийные причины или политические замешательства создавали серьезные тормозы для правильного отправления флота. Не раз приходилось откладывать или отменять ярмарку в Портобело, благодаря тому, что ожидавшиеся корабли погибали в бурю или делались достоянием враждебных каперов.
Таким образом, введение «флотов», которое сначала приветствовали, как шаг вперед, становилось все большею и большею тяжестью, так как далеко не удовлетворяло возраставшим потребностям и вело к необычайному вздорожанию всех предметов торговли. Тем не менее, правительство продолжало строго держаться раз установленных правил в виду возраставшей необеспеченности на море. Оно, пожалуй, согласилось бы дать свободу отплывающим флотам, и даже сделало некоторые уступки в этом направлении. Но в строгом контроле над возвращающимися судами заключался для него столь существенный интерес, что от этого оно никогда не могло отказаться. Дело в том, что «флоты» представляли единственный способ сношений между обеими частями света, единственный путь для перевозки всей официальной и частной корреспонденции и, что еще важнее, для доставления в государственные кассы колониальных доходов, необходимых для государственного бюджета. Все колониальные власти посылали свои отчеты и расчеты в известные гавани ко времени прибытия флотов. Там письма и ценности доверялись наиболее надежным и безопасным кораблям. Суда ново-испанского и материкового флотов должны были, через три месяца после прибытия в Санто-Доминго, снова собираться в Гаванне. Галеоны и вооруженные суда охраны пользовались этим промежутком для случайных пиратских похождений. После соединения флота, они снова брали на себя службу охраны и с теми же предосторожностями вступали чрез Багамский канал в открытое море и отсюда брали курс на родину. Это была самая опасная часть путешествия. Политические враги Испании, так же, как и вольные морские пираты, всегда зорко следили за тем, чтобы изловить возвращавшийся домой флот, который бывал настолько нагружен благородным металлом, что его называли «серебряным флотом». Нередко эти нападения удавались, хотя, большею частью, не вполне.
Колонии с самого начала поставляли для метрополии всякого рода произведения. Из всех частей Америки вывозилось красильное дерево. Кроме того, в первое время обратные суда нагружались еще различными лекарственными средствами и, в значительных количествах, сахаром и кожами. Но все-таки самая ценная часть груза заключалась в золоте, серебре, жемчуге и драгоценных камнях. Еще Колумб доставал от туземцев золото, правда, в скромных размерах. Когда доказано было местное происхождение его, стали производить промывки и раскопки. Золотые рудники, в которых, вследствие первобытных способов добывания с громадной затратою сил, достигалось сравнительно немногое, сделались для индейцев настоящей каторгой. Золотоискатели всюду и во все времена заключали отребье человеческого общества. В отношении подобных элементов всякие законы, имевшие целью ограждение туземцев, были бессильны. Чиновник, который вздумал бы применить эти законы на деле, рисковал собственною жизнью. Главные богатства, впрочем, во весь период завоеваний, давали не золотые и серебряные рудники, а меновая торговля с туземцами. Правительство вполне сознавало этот факт и поэтому всегда охотно покровительствовало добыванию благородных металлов, понижало пошлины, отправляло туда опытных, преимущественно немецких рудокопов. Наоборот, с золота, которое получалось от меновой торговли и пиратства, оно требовало в свою пользу пятую часть.
Только после завоевания Мексики горное дело стало прибыльной статьей. Серебряные рудники в Сультепеке и в особенности в Гуанахуато давали руду в таком изобилии, что можно было считать добывание упроченным. В Перу испанцы нашли сперва у туземцев баснословные сокровища. Но здесь, как и в других провинциях, запас благородных металлов, который давала меновая торговля, сравнительно быстро истощился. Вначале добывание золота и серебра в рудниках представляло даже меньше шансов, чем на севере, пока в 1545 году не были случайно открыты серебряные жилы в Потоси. Эта горнозаводская область оказалась на долгое время источником невероятных богатств. Благодаря, главным образом, ей и серебряным копям в Мексике, добывание благородных металлов в Новом Свете в течение продолжительного времени держалось приблизительно на одинаковом уровне.
Первоначально применявшиеся примитивные способы очистки делали выгодною обрабоку лишь самых богатых руд, и только изобретение процесса амальгамирования дало возможность более тщательной эксплуатации горных пород Мексики и Перу. По новейшими исследованиям, изобретателем амальгамирования был немецкий рудокоп, который лишился куска хлеба вследствие уничтожения огнем ртутных копей в Альмадене. Чтобы применить свое изобретение, он соединился с испанцем Бартоломеем де Медина. Но так как инквизиция пропустила в Мексику только последнего, но не немецкого учителя его, то испанец всецело пожал лавры открытия в свою пользу, и даже имя немца осталось неизвестным. Способ добывания серебра при помощи ртути произвел в Мексике полный переворот в горнозаводском деле. Владельцы рудников обещали нагрузить серебром корабли ново-испанского флота до самых мачт, если у них будет в распоряжении достаточно ртути; цена последней сразу необычайно поднялась. Рудники Альмадена, богатейшие в мире и, кроме рудников Индии, единственные, бывшие в то время в ходу, еще раньше эксплуатировались монополистами; теперь испанское правительство взяло в свои руки монополию торговли. Рудники оно отдало в аренду Фуггерам, которые, путем усовершенствованной разработки при помощи немецких сил, получали в течение полувека около 100% дохода; но они были обязаны весь вывоз предоставлять правительству, которое продавало ртуть в Америке владельцам рудников втрое и вчетверо против покупной цены. С этого времени галеоны, увозившие на обратном пути золотые и серебряные сокровища Америки, захватывали с собою ежегодно до 3000–5000 центнеров ртути. От 1563 до 1641 года, т. е. в течение периода, пока Фуггеры арендовали копи Альмадена, добыто было, при помощи полученных ими 253154 центнеров ртути, чистого серебра на сумму 253 миллионов червонцев, из которых свыше 50 миллионов червонцев падали на королевскую пятую часть.
Е. Рабство негров
В числе предметов вывозной торговли, которую поддерживала Испания со своими колониями, была еще лишь одна статья, которая, по своему значению, могла соперничать со ртутью: это были негры-рабы. Мы говорили уже о том (стр. 393), что прежнее законодательство преграждало им доступ в колонии. Но правительство не отличалось особой строгостью и охотно делало исключения. Тем не менее, негры стали играть известную роль в организме колоний и в колониальной торговле, лишь с того момента, как Лас Казас, исходя из незрелых филантропических идей, рекомендовал ввоз негров-рабов, как средство вывести индейцев из их невольнического положения. Испанское правительство бесспорно имело в виду создать из своих колоний нечто иное, чем простые опорные пункты для обмена и торговли, по примеру португальцев в Африке и Индии. Поэтому необходимо было позаботиться о рабочих силах. Было очевидно, что одни европейцы не в состоянии были выполнить этой задачи. С одной стороны, климат ослаблял их рабочую способность; даже между численностью европейских колонистов и обширностью колониальных владений было слишком велико, и нельзя было даже думать о том, чтобы справиться с колониальными задачами при помощи одних европейских сил. Вместе с тем, взгляд испанского правительства на свои задачи в отношении колоний не благоприятствовал высылке туда сомнительных элементов. Колумб, как известно, хотел даже свершить самое открытие Америки при помощи освобожденных каторжников, а Португалия, вообще державшаяся иного взгляда на колониальную политику, предприняла, в более широком масштабе, опыты с колонизацией преступников в Бразилии. Но испанские законы разрешали эмиграцию лишь незапятнанным элементам нации, и только в самых исключительных случаях правительство, снисходя к просьбам известных групп колонистов, транспортировало преступников в Америку. Однако, даже при их содействии немыслимо было бы выполнить в колониях требования горного дела, скотоводства и хозяйства на плантациях, хотя бы по одному тому, что для европейцев оставалось еще много других и при том более сложных работ. Таким образом, чтобы освободить индейца, который, при своей беспечности и стремлении к независимости, едва ли согласился бы работать добровольно в европейском смысле, от всякого принудительного труда, оставалось одно средство: ввести в колонии новый рабочий элемент.
Предложение Лас Казаса воспользоваться неграми, которых уже раньше применяли для этой цели на юге испанского полуострова и на островах африканских берегов, нашло сочувствие у правительства. В интересах фиска правительство номинально сохранило воспрещение ввоза негров, но в то же время оно разрешало отдельным лицам или обществам, при внесении известной пошлины, доставлять ежегодно определенное число черных в гавани колоний. Колониальные власти должны были даже сообщать, как велика годовая потребность в них. Первоначально установленная норма составляла 4000 голов. Затем, в течение длинного периода существования асиенто, договора с монополистами относительно ввоза рабов, эта цифра бывала повышаема и понижаема. Но колонисты всегда роптали, что ввоз негров-рабов в Новый Свет далеко ниже действительной потребности. И торговля этим ценным товаром во все времена составляла излюбленную статью незаконной торговли, которой занимались чужеземные судовладельцы. Во всяком случае, правительство долго было озабочено этим вопросом.
Невольничьи корабли пользовались известными льготами. Так, за известный залогъ, им разрешалось плыть с Гвинейского берега, где они получали свой черный товар от португальских купцов, прямо в Америку, где несколько гаваней были открыты для прибывавших негров. Уже первые асентисты пользовались известными привилегиями для покрытия расходов и обратного перевоза своей прибыли в виде колониальных товаров. Но они должны были приставать в Севилье и подлежали регистрации наравне со всеми прочими торговцами. Так как контролировать их было гораздо труднее, чем флоты и галеоны, то асентисты стали вскоре пользоваться дарованными им льготами для обхода стеснительных законов колониальной торговли и для обширной контрабанды.
Первоначально, в руках генуэзцев и немцев, злоупотребления невольничьей монополией были не особенно велики и мало наносили ущерба законной торговле. Но дело приняло иной характер, когда монополия перешла в руки наций, настроенных менее дружелюбно. Мысль о передаче исключительного права ввоза рабов португальской компании была сама по себе недурна, так как португальцы неоспоримо владели materia prima, самими неграми. Они получили асиенто в то время, когда Португалия была связана с Испанией личной унией и удержали его после отпадения дома Браганца вплоть до провозглашения независимости Португалии по мирному договору 1668 года. Затем асиенто временно перешло к севильским купцам. Когда с переменою династии в 1700 году французское влияние в Испании сделалось всемогущим, французы постарались не упустить из своих рук и это прибыльное дело. Гвинейское общество, в котором лично участвовал Людовик XIV, сохранило монополию ввоза рабов в испанскую Америку до тех пор, пока политические условия не заставили Францию отказаться от этого.
Испания, однако, не выиграла от этой перемены: Утрехтский мир категорически ставил одним из условий уступку асиенто англичанам. В их руках эксплуатация приняла бесспорно самые широкие размеры. Кроме того, они выговорили себе право отправлять ежегодно, на льготных условиях, кроме невольничьих судов, еще два корабля скромных размеров с европейскими товарами в колонии, пока еще закрытые для всех прочих наций. Но рассказывают, что эти корабли почти явно, на глазах испанских чиновников, выгружали днем разрешенный груз, а ночью снова пополняли его с больших кораблей, которые не приставали к берегу, а как будто случайно стояли далеко на рейде. Этим путем им удавалось ввозить в страну втрое и вчетверо более, чем дозволялось. Это было настолько существенное зло, что, в конце концов, Фердинанд VI счел необходимым прекратить посредством выкупа договор с англичанами еще до окончания законного срока. Правительство долго колебалось прежде, чем решиться на эту меру, так как оно само принимало непосредственное участие в доходах английской компании. Вместе с тем, одни только англичане в состоянии были поставлять в колонии условленное число рабов и даже больше, и суммы, поступавшие от этой торговли в государственную казну, достигали громадной цифры. Первоначальный налог по 2 червонца с головы, которым первые монополисты купили себе право работорговли, мало по малу повысился до 30–40 червонцев. При ежегодном ввозе от 4000 до 6000 рабов, это составляло внушительную цифру даже в колониальном бюджете XVIII столетия, в котором регалии с добываемых благородных металлов значительно понизились.
Какие суммы золота и серебра и других ценных предметов получило испанское государство и страна от своих трансатлантических колониальных владений, это – вопрос, который не раз обсуждался, но ни разу не был удовлетворительно разрешен, благодаря крайней неточности понятий, которые до сих пор имелись о торговле Испании с ее колониями. Утверждали, что испанская Америка на целые столетия отстала в своем развитии, благодаря колониальной политике Испании, а, с другой стороны, что прилив благородных металлов из Нового Света ответствен за экономическое крушение Испании, так как золото Нового Света будто бы развратило и задушило Испанию. И то, и другое сильно преувеличено. Если бы Испания была экономически здоровым государством, она столь же мало пострадала бы от избытка золота и серебра, как пострадала Англия от сокровищ Индии. Если Испания не давала колониям свободы и самостоятельной жизни и вплоть до ХVIII века видела в них лишь источник доходов для метрополии, то это была точка зрения, общая всем колониальным державам того времени. Она осталась бы, вероятно, при том же мнении до сих пор, если бы мощные революционные движения, которые повели в Новом Свете к отделению Соединенных Штатов от Англии и почти всей латинской Америки от Испании, не побудили ее изменить свою политику. Вплоть до ХVIII века испанские колонии соответствовали своей цели. Они снабжали метрополию денежными средствами, в которых она безусловно нуждалась для сохранения своего политического положения в европейском концерте. Обилие этих средств возбуждало даже зависть других стран, толкало их на колониальные предприятия и в то же время вызывало стремление отнять, по мере возможности, у испанцев часть их колониальных сокровищ.
F. Историческое развитие испанских колониальных владений
Положение, какое заняли испанские колонии относительно метрополии, доказывает уже само по себе, что они не имеют собственной истории. История их сводилась к смене чиновников, к случайным изменениям административной организации, наконец, к мероприятиям, которые предпринимались скорее для поднятия экономического благосостояния метрополии, чем самих колоний. С другой стороны, зависимость колоний от Испании невольно вовлекала их во все политические осложнения метрополии. История того, что приходилось выносить колониям, как составной части испанского государства, от врагов последней составляет как бы внешнюю историю колоний. Когда Испания приходила в вооруженные столкновения с соседними государствами, то последним трудно было воздержаться от каперских нападений на обширные морские берега противника с целью подорвать его торговлю и морское могущество. В 1512 году жертвою подобного нападения, со стороны французов, сделались корабли, которые шли обратно из колоний в гавань Севильи. В царствование Карла V и Филиппа II военное положение относительно Франции, то явное, то скрытое, почти не прекращалось. Морские нападения сделались тем заманчивее, что с открытием Мексики и Перу колониальные торговые суда приносили больше добычи, чем вначале столетия.
Этот факт также не ускользнул от испанских правителей. Нападения врагов на индейские корабли не мало способствовали развитию морского превосходства над всеми прочими нациями, которое Испания удерживала за собою в течение большей части XVI века. Это превосходство было бы еще прочнее, если бы обширные вне-испанские колониальные владения Испании не предоставляли в распоряжение Карла V столь удобных вспомогательных сил. Здесь случилось то же самое, что с колониальной торговлей: не имея возможности удовлетворить требований в горячую пору, Испания допустила участие в морской торговле итальянцев, голландцев и немцев. Этот порядок упрочился, благодаря обилию сокровищ, которые страна все еще черпала в своих колониях. Но при этом были упущены из виду опасные последствия, вытекавшие из подобного положения вещей в случае отпадения прежних союзников. Правда, испанцам сначала удавалось без труда сохранять первенствующее положение на море. До 1580 года ни один народ не осмелился бы открыто выступить против испанского флота на океане. Даже в мелких морских стычках, которые завязывали каперские суда, особенно французские, с испанцами, последние вначале бесспорно одерживали верх. И только чрезвычайно неблагоприятное положение страны и колоний по отношению к врагам давало последним возможность оставаться в выгоде в каперских войнах, несмотря на все потери.
Совместные плавания колониальных торговых флотов в сопровождении, вдоль берегов, военного флота, скоро разогнало корсаров от берегов Андалузии и мыса С. Винцента, где они в первое время нередко угрожали возвращавшимся в Севилью кораблям. Им пришлось перенести поле своей деятельности дальше в море, где береговые флотилии не так легко могли прийти на помощь торговым флотам. Однако, им не удалось укрепиться также на Канарских, Азорских о-вах и о-вах Зеленого Мыса, куда они впоследствии перенесли свой операционный базис. Оборонительные мероприятия испанцев, в конце концов, заставили врагов искать добычу там же, где находили ее сами испанцы – в колониях. Рейсы, предписанные флотам и зависевшие от морских течений, не долго оставались от них скрытыми. Столь же мало могло оставаться неизвестным для них то, что множество мелких Антильских островов и даже длинные береговые полосы больших островов были совершенно покинуты колонистами и, следовательно, лишены всякого контроля. Здесь, в гаванях, каперские суда могли свободно скрываться, готовиться к нападению, исправлять повреждения и прятать в укромное место захваченную добычу. От перехватывания испанских кораблей в заатлантических водах был только один шаг к нападению на колониальные поселения и грабежу их. Первые открытые враждебные действия последовали во время третьей франко-испанской войны в сороковых годах XVI столетия. Смелость корсаров, которые, благодаря тайной помощи французского правительства, были провосходно вооружены, вскоре настолько возросла, что они не ограничивались уже ограблением и наложением контрибуции на отдаленные колониальные побережья. В 1542 году они уже произвели нападение на Санта Марту и Картахену. В 1555 г. они овладели столицею Кубы, Гаваной, и удерживали ее в течение 26 дней. Против этого правительство нашло лишь одно средство: оно повелело, насколько возможно, укрепить береговые города, а где это оказалось неосуществимым, – уничтожить поселения на морском берегу и перенести их дальше внутрь страны.
В это время появляются у колоний новые враги. До того времени дело шло, главным образом, о французах, которые старались, по мере сил, вредить колониальной торговле и колониальным поселениям своих традиционных врагов. Но королева Елизавета английская вступила на престол, который до тех пор Филипп II делил с ее сестрою. С этой минуты раздор между Англией и Испанией растет из года в год и все больше переходит в открытую вражду по мере того, как яснее обнаруживается склонность Елизаветы к протестантизму. В то время английские морские силы еще значительно уступали испанским и не могли соперничать с ними на океане. Вначале, впрочем, английские мореходы и не выказывали прямой враждебности против испанцев. Они старались лишь нарушить строгую замкнутость испанских колоний от всяких прямых сношений со Старым Светом. Там же, где они чувствовали превосходство на своей стороне, а колониальные власти, тем не менее, сопротивлялись их незаконной торговле, они отваживались открыто нападать на корабли, а за тем и на поселения противников. Большею частью, тактика англичан состояла в том, что они отнимали у португальцев на Гвинейском берегу партию негров-рабов. Они знали, что эта торговая статья найдет верный сбыт в колониях и что испанские власти часто смотрели в этом случае сквозь пальцы. Но при этом они ловко умели пользоваться случаем для столкновения. Если вызов, брошенный испанцами, оказывался удачным, они давали делу такой оборот, как будто прибегали к оружию лишь с целью самозащиты. Около 1530 года Ричард Гаукинс начал промышлять невольничьей контрабандой. Он положил основание богатству, которое дало возможность его более известному сыну Джону Гаукинс, создать впоследствии собственную каперскую флотилию. В шестидесятых годах этим родом торговли занималось множество английских кораблей. На необитаемых побережьях шла меновая торговля с туземцами. В испанских поселениях они вымогали разрешение на торговлю, в случае надобности, силою: большею частью, впрочем, приходилось прибегать к силе лишь для виду. Но если иногда победа выпадала на долю испанцев, то они расправлялись не совсем деликатно, как в этом могли убедиться Гаукинс и Дрэк в 1568 году в Вера-Крусе. С другой стороны, и англичане не брезговали совершать настоящие хищнические нападения, если представлялся благоприятный случай; таков, например, набег Дрэка в Номбре де Диосе и Панаме, предпринятый, правда, без окончательного успеха, в 1572 году. Спустя несколько лет, тот же Дрэк первый прорвался чрез Магелланов пролив в Тихий океан, ограбил совершенно беззащитные побережья Чили и Перу и увез колоссальную добычу. Чтобы уйти, на обратном пути, от рук испанцев, которые всюду подстерегали его, он обогнул южную оконечность Африки и счастливо спасся в Лондоне, где королева Елизавета почтила его посвящением в рыцари. И это не взирая на обвинение испанцев, которые требовали выдачи Дрэка, как пирата.
До этого времени официальный мир между Испанией и Англией до некоторой степени сдерживал английских пиратов. Но с 1585 года обе страны находятся в положении воюющих сторон. В этом же году Дрэк выступил в море с 23 кораблями и 2500 человек экипажа и, помимо бесчисленных каперских захватов, ограбил города Санто Доминго и Картахену, разрушил Сан Агустин во Флориде и, кроме массы ценностей, захватил 240 пушек на захваченных кораблях и занятых береговых местечках. С тех пор почти не проходило года до самой смерти королевы Елизаветы, чтобы не снаряжались более или менее многочисленные английские флоты, которые грабили побережья Испании или брали контрибуцию с колоний. Английские моряки, испытанные в смелых каперских плаваниях, громили непобедимую армаду. И вот, когда, благодаря этим разгромам, стал рассеиваться ореол, окружавший до тех пор морское могущество Испании, англичане стали серьезно помышлять о том, чтобы отвоевать у испанцев первенствующее положение на море. Этот поединок, начавшись с Дюнкирхена, завершился при Трафальгаре полной победою англичан. Основание положению Англии, как владычицы морей, создали моряки, подобные Гаукинсу и Дрэку. Начав с подвигов пиратов и контрабандистов, они как бы открыли глаза правительству, которое сознало, какое значение может иметь господство на море для благосостояния страны и государства с географическим положением Англии. Вальтер Ролей, пользуясь своим положением при дворе, как фаворит королевы Елизаветы, предпринял первые колонизаторские попытки на американской земле, вначале, правда, не прочные. Его походы в Гвайану в 1595, 1597 и 1616 годах представляют первые серьезные посягательства иностранцев на южный материк с тем, чтобы не только овладеть побережьем, но проникнуть и внутрь страны. Здесь, как и на севере, они послужили толчком для иностранных держав, чтобы стать твердой ногой в области испанско-португальских колониальных владений.
Между тем на сцену выступили новые соперники Испании, тем более опасные, что раньше, как подданные испанской короны, они имели полную возможность обстоятельно ориентироваться во всем, что касается колониальной торговли. Когда Нидерланды еще не отпадали и корабли их впервые доставили в Америку товары, колонисты увидели в этом такую выгоду для себя, что делали всевозможные представления испанскому правительству, в которых ходатайствовали о даровании нидерландцам и обитателям Канарских островов права прямых сношений с колониями и об обязательной остановке для них в Севилье лишь на обратном пути. На это Индейский Совет никак не соглашался, но он не отнимал права колониальной торговли у нидерландских, немецких и итальянских купцов даже после того, как общее разрешение, данное Карлом V, было отменено. Нередко король нанимал для официальных плаваний по океану крепкие и пригодные для этой цели голландские суда. Возмущение протестанских провинций против испанского ига сильно повредило этой коммерческой льготе, но и взгляд Филиппа II на это восстание помог нидерландцам. В отпавших провинциях он продолжал признавать своих подданных, хотя и возмутившихся. На этом основании он разрешил судохозяевам северных провинций, которые воздерживались от прямого участия в враждебных действиях, принимать участие в испанской и колониальной торговле. Голландские корабли, по прежнему, приставали к Севилье и колониям и вели торговлю открыто и под испанским флагом, хотя ни от кого не составляло тайны, что золото, получаемое этим путем, стекалось в кассы бунтовщиков. Лишь в 1603 году эта аномалия отчасти была устранена, по крайней мере, тем, что нидерландская торговля была обложена особой пошлиной в 30% ad valorem: но и этот налог был снова уничтожен во время 12-летнего перемирия (1609–1621). Несмотря на это, нидерландцы не удовлетворялись разрешенными законными рамками торговли и очень рано стали стремиться к обогащению незаконным путем на счет колоний. Они захватывали испанские суда и, минуя установленный маршрут, вели торговлю непосредственно с Америкою, частью с поселениями испанцев и португальцев, но еще чаще с индейцами не занятых европейцами областей. Подобно англичанам, они держались, главным образом, береговой полосы между Ориноко и Амазонкой, так как и они еще верили в легенду о существовании Дорадо между этими реками. Впрочем, будучи народом трезвым, они, в поисках сокровищ, не теряли с самого начала из виду менее блестящих, но верных выгод.
В роли настоящих колонизаторов Америки нидерландцы выступают лишь с возобновлением войны с Испанией. В это время возникли Вест-Индская Компания, по образцу Ост-Индской. Первоначально она занималась преимущественно тем, что грабила испанско-португальские колонии и наносила им ущерб. Но рядом с этим ею основывались небольшие поселения у Ойяпока, Бербисе, Эссекибо и пр., из которых впоследствии образовалась колония голландской Гвайаны. Еще более Вест-Индская Компания прославилась нападением на Бразилию, которая в то время была еще подвластна испанскому королю. В тридцатых годах XVII столетия голландцам замечательно быстро удалось стать твердой ногою в Олинде и Ресифе и мало-по-малу почти совсем вытеснить португальцев из четырех северных провинций Бразилии. Благодаря разумной национальной политике и религиозной терпимости, Компания добилась того, что большая часть старых поселенцев безусловно признала новый порядок вещей и отдала себя в его распоряжение. Новая община быстро расцвела и без труда могла выдержать испанско-португальский натиск. Самую блестящую эпоху колонии составляет время управления графа Иоганна Морица Нассауского (1637–44), который сделал свою столицу Морицштадт, не только средоточием торговли, но и очагом серьезных научных работ, которые до тех пор едва-ли где производились на американской почве. Ход вещей был нарушен изменением политических условий, когда в 1640 году Португалия отделилась от Испании и заключила союз с Нидерландами. Вначале Вест-Индская Компания отстаивала свои права на бразильские завоевания и находила в этом поддержку со стороны Генеральных Штатов. Но на долго у нее не хватило энергии для сохранения спорных владений. Поэтому португальской части колонии, которая с 1640 года значительно окрепла, постепенно удалось все более и более оттеснить голландцев к берегу; наконец, они отвоевали обратно и этот последний при помощи португальского флота. Мирным договором 1661 года голландцы официально подтвердили свой отказ от всяких прав на бразильские владения за известное денежное вознаграждение. После того они стали снова обращать преимущественное внимание на так назыв. «дикое побережье» Гвайяны. Правда, старейшие поселения в этой области Бербисе и Эссекибо, были ими уступлены в 1814 году англичанам; но, с другой стороны, Нидерланды до сих пор владеют в Суринаме остатками стран, некогда колонизированных под охраною Вест-Индской Компании (см. «Карты к истории Америки»).
Пример нидерландцев, основывавших торговые общества, поддерживаемые государством, возбудил внимание остальной Европы, главным образом, благодаря громадным успехам их Ост-Индской Компании. Почти одновременно французы также основали привилегированное торговое общество под именем Компании американских островов. Этому Обществу, первым владением которого был, впрочем, нынешний английский Сен-Христофор, Франция обязана своими настоящими вест-индскими колониями, каковы Мартиника, Гваделупа и более мелкие, относящиеся к их числу. Прежде чем они перешли в непосредственное ведение государства, судьба их несколько раз менялась. Первое общество потерпело крушение еще в 1650-м году и спаслось от окончательного банкротства лишь тем, что продало свои территориальные права отдельным владельцам; последние некоторое время управляли здесь почти неограниченно, как в португальских и северо-американских капитанствах. Но затем Кольбер с большим жаром ухватился вновь за систему привилегированных обществ, откупил обратно вестъ-индские острова и передал их, вместе с другими территориями и правами, французской Вест-Индской Компании, которая, однако, вследствие политических неурядиц в первые десятилетия XVIII-го века также потерпела крушение. Дания и, временно, Швеция таким же образом приобрели колониальные владения в Антильском море при посредстве привилегированных торговых обществ и отчасти старались удержать их. У англичан толчек к колониальной деятельности исходил, главпым образом, от частной инициативы; тем не менее, и они достигли более крупных результатов лишь путем сосредоточения сил в привилегированных торговых Обществах.
Громадная растянутость испанских колониальных владений неминуемо привела к тому, что Малые Антильские острова, не особенно изобиловавшие естественными богатствами, вскоре были забыты, хотя это была первая страна, открытая Колумбом в Новом Свете. Вначале XVI столетия они еще изредка посещались испанскими охотниками за рабами. Но когда и эта надежда не оправдалась, большинство мелких островов было окончательно оставлено. Они были необитаемы и здесь укрывались лишь вольные пираты всех наций, выслеживавшие испанские корабли. Когда, по примеру голландцев, и у прочих народов стало обнаруживаться сильное стремление к колониальным приобретениям, вполне естественно, что на заброшенные острова было вновь обращено внимание. Так, еще в 1605 году несколько англичан овладели совершенно покинутым островом Барбодосом, сперва не стремясь, впрочем, колонизировать его. Но с основанием, в 1623 году, поселения в Сен-Китсе (Сен-Христофор), явился и для Барбодоса охотник, который добился от короля привилегии на этот остров, на правах капитанства, и на торговлю на нем. В течение последующих годов англичане, французы и голландцы постепенно заняли почти все мелкие Антильские острова. Дальнейшее расширение английских колониальных владений последовало в эпоху Кромвеля. В 1655 году Лорд-Протектор, при помощи значительных боевых сил, произвел нападение на Санто-Доминго. Нападение было здесь отбито; успешнее действовали англичане в Ямайке, которая окончательно перешла в их руки. До этого момента Испания все еще продолжала смотреть на все чужие поселения, как на вторжение в сферу ее власти. И только в 1670 году, по мирному договору с Англией, она признала право последней на колониальные приобретения ее. Последующими мирными договорами такое же право Испания признала за Францией.
Для Антильских островов это было самое бесправное время. Англичане и французы держались своеобразного обычая: чтобы увеличить число рабочих сил, они переселяли в колонии преступников, под условием принудительного труда в течение известного числа лет. Правда, в числе их было много осужденных за политические или религиозные преступления, но не было недостатка и в элементах самого худшего сорта, которые крайне злоупотребляли возвращенной им свободой. Из их рядов набирались знаменитые буканьеры и флибустьеры. В эпоху, когда европейские торговые компании почти все распались, и даже англичане почти всецело были поглощены войнами у себя дома, эти морские пираты являлись бичем и наводили ужас на Антильских водах; своими смелыми нападениями на побережья испанских колоний, вплоть до самого Тихого океана, они напоминали времена Гаукинса и Дрека. Эти шайки бездомных, не признававших закона разбойников составлялись из подданных всех стран; одним только испанцам не было места в их обществе: мирные в отношении прочих наций, они преследовали все испанское с самой ожесточенной ненавистью. Поэтому враги Испании неоднократно пользовались услугами их и даже оказывали им покровительство. Но по той же причине изменение политической атмосферы, наступившее с воцарением Бурбонов на испанском престоле, нанесло решительный удар разбойничьим похождениям. Флибустьеры, смотря потому, из какой национальности они преимущественно набирались, примыкали к англичанам или французам. Лучшие элементы между ними растворились в массе колонистов, а неисправимые постепенно становились жертвою своего ремесла или попадались в руки властей и несли заслуженную кару.
Переход испанского всемирного царства от Габсбургской династии к Бурбонам, вызвавший в Европе более чем десятилетний пожар, не произвел в колониях серьезных потрясений. Они примирились с установившимся после войны statu quo, как это было с присоединением и затем отпадением Португалии: очевидпо, колонии все еще не жили собственной жизнью. В первые десятилетия политика новой династии была всецело поглощена европейскими событиями. Когда, после разнообразных столкновений, сознали, что Испания, если она желает занять в совете держав место, достойное ее великого прошлого, нуждается прежде всего во внутренних преобразованиях, поднялось и значение колоний в глазах правительства. Хотя испанские Бурбоны, под давлением обстоятельств, поразительно быстро национализировались, но все-таки они внесли много французского в духовную жизнь страны, прежде крайне замкнутую. И переворот в системе колониального управления, совершившийся при Фердинанде VI и Карле III, является в сущности продуктом французских идей.
Совершившиеся в этот промежуток времени перемены в условиях торговли и сношений привели к тому результату, что метрополия наравне с колониями страдала от ограничений, сковывавших колониальную торговлю. Первая брешь в старой системе не может быть признана существенною. При тех размерах, которые приняла заатлантическая торговля в XVIII веке, Севилья не была удобным исходным пунктом. Лежала ли причина в том, что фарватер нижнего Гвадалквивира значительно ухудшился вследствие засорения, это не имеет большого значения. Во всяком случае, времена, когда каравелы признавались лучшими судами для колониальных сношений, миновали безвозвратно, а для больших океанских кораблей, с которыми давно освоились, вынужденная остановка в Севилье была лишь сопряжена с промедлением и неудобством. Поэтому перенесение главного центра индейской торговли в Кадис, совершившееся в 1715 году, являлось, если не действительным прогрессом, то, во всяком случае, приспособлением к назревшим потребностям. Бухта и гавань Кадиса способны были вместить даже самые крупные суда и флоты.
Вскоре монополия индейской торговли вообще подверглась серьезным нападкам. Само правительство сильно терпело от анахронизма, состоявшего в том, что сношения между метрополией и колониями все еще должны были приноравливаться к отправлению флотов не более двух раз в год. В сфере политики также стало чувствоваться влияние времени. Мы не говорим уже о том, что экономический рост колоний давно сделал невозможным удовлетворение потребностей их редкими и неправильными рейсами флотов, вследствие чего незаконная торговля практиковалась в широких размерах. Все приветствовали поэтому установившиеся при Фердинанде VI ежемесячные сообщения между Испанией и Америкой при помощи отходивших из Коруньи быстроходных судов. Правда, они служили прежде всего правительственным целям, но, насколько позволяла вместимость, принимали и частные грузы. Эта мера не оказала почти никакого влияния на флоты, значение которых сильно упало. Благодаря, однако, появившейся возможности удовлетворять потребности колоний законным путем, иностранная контрабандная торговля уменьшилась.
Благоприятные результаты, полученные этим путем, дали, наконец, смелость просвещенному правительству Карла III совершенно порвать с прежней системой. В 1774 году была объявлена свобода торгового обмена между колониальными провинциями, с известными ограничениями в интересах охранения испанского производства. Этим открывалось широкое поле для зарождавшейся колониальной промышленности. Спустя четыре года, в 1778 году, совершилось также полное преобразование заатлантической торговли. Сообщение при помощи флотов уничтожено, монополия Кадиса и Севильи отменена, и право отправления кораблей в колонии предоставлено девяти важнейшим гаваням метрополии; а по ту сторону океана открыто 22 гавани для прямых сношений с Испанией. Одновременно с тем для этой торговли был издан принаровленный к обстоятельствам таможенный тариф. Если контрабанда англичан и португальцев все еще не могла быть окончательно подавлена, то, тем не менее, главная доля торговых сношений вошла в законную колею.
Вместе с тем утратили значение ярмарки в Портобело, которые уже давно не соответствовали потребностям. Торговые сношения, некогда направлявшиеся из Панамы через Перу и Чили в Тукуман и Буэнос-Айрес, отныне совершенно преобразовались. Буэнос-Айрес согласно новым распоряжениям, а также в силу своего естественного положения, стал главною гаванью для сношений между южными колониями и Испанией. Корабли, предназначенные для Чили и Перу, направлялись, зайдя в Буэнос-Айрес, вокруг мыса Горна, в гавани Тихого Океана. До этого времени провинция Буэнос-Айрес была пасынком правительства; под охраною новых законов, она быстро заняла, благодаря своим плантациям и стадам, почетное место наряду с богатейшими колониальными провинциями Испании.
Облегчение сношений повлекло за собою значительный подъем торговли. Фермер и плантатор теперь легче находили выгодный сбыт для своих продуктов, которые необычайно плодородная почва давала в колоссальном изобилии. Таким образом, оживление торговли, в свою очередь, дало мощный толчок сельскому хозяйству и промышленности. Кроме того, правительство, особенно при Карле III, ревностно стремилось наверстать упущенное, благодаря вековому застою. Снаряжались научные экспедиции для точной съемки не одних берегов, но и всей поверхности стран; вместе с тем, задача их заключалась в подробном исследовании минералогических, ботанических и зоологических особенностей Нового Света. Так составились большие коллекции колониальных произведений в Мадриде, – предшественники наших ботанических садов и естественно-исторических музеев. Эти исследования обогатили науку продуктами, которые ныне являются необходимыми. Так, мы обязаны им хинином, добывание которого внесло промышленное оживление вглубь стран, не представлявших прежде никакого интереса для европейского поселенца. Какое глубокое действие эти предметы оказали на все человечество, какие незабвенные факты они раскрыли для науки, это достаточно характеризуется одним именем: по поручению испанского правительства, предпринял свои многолетние путешествия в центральную и южную Америку Александр фон-Гумбольдт. Научная разработка результатов этих путешествий составляет новую эпоху в истории географии и естествознания. Путь, на который вступили тогда эти науки, не оставляется ими и до нашего времени.
Это была самая светлая страница испанской колониальной политики. Только в сфере управления она все еще продолжала коснеть в идеях прошлого и не могла отрешиться от устарелой системы. Это тем более отражалось на ней, что и в Старом Свете вторая половина XVIII века характеризуется невероятным духовным переворотом, связанным с быстрым ходом развития. Благодаря этому прогрессу, пропасть между положением вещей в колониях и требованиями духа времени со дня на день все более и более увеличивалась. Вскоре выяснилось, что заполнить эту пропасть, перейти через нее нормальным путем уже поздно. Вероятно, такой нормальный ход развития был бы немыслим и в том случае, если бы не вмешалась политическая катастрофа, которая насильственно порвала национальную связь метрополии с колониями, к несчастью обеих сторон, и, таким образом, не прекратила взаимодействия между ними.
6. Английские колониальные владения
А. Исследование северного материка
Северо-aмериканский материк и особенно восточные побережья его являются в течении XVI века ареною, на которой подвигаются все нации с целью открытий. Потребовались, однако, усилия целого ряда поколений, прежде чем одной из соперничавших держав удалось основать здесь прочные поселения. Причина заключалась в том, что побережье мало привлекало с внешней стороны. Правда, оно отличалось приятным климатом, зелеными лугами, громадными лесами, но в то же время сильные и воинственные туземцы давали серьезный отпор высаживавшимся пришельцам, а простота нравов и скудость обстановки их не обещали легко добываемых сокровищ в этих странах. Поэтому различные экспедиции удовлетворялись чисто платоническим занятием страны именем того или другого монарха. Ни Испания, ни Португалия не усматривали серьезной необходимости в том, чтобы протестовать против обозначения на картах, в течение десятков лет, земель, расположенных в сферах их открытийй, английскими или французскими территориями.
Первыми европейцами, вступившими на почву Северной Америки, были викинги, прибитые морем к берегу ее, около 1000 года, во время плавания, с Лейфом Эриксоном и Торфинном Карлсэфне, из Исландии в Гренландию. Но воспоминания о кратковременных поселениях их в Винланде, Маркланде и Гуитраманаланде давным давно исчезли из памяти людей к тому времени, как подвиг Колумба открыл Новый Свет. Только повторные попытки самого Колумба, за много лет до осуществления его надежд, заинтересовать в пользу своего проекта различные европейские дворы, заставили их обратить серьезное внимание на его успехи и, несколькими годами позже, принять участие в исследовании Нового Света.
Пальма первенства в числе первых, проникших на северо-американский материк, принадлежит Джиованни Габотто или, как он назывался в Англии, Джону Каботу. Король Генрих VII дал ему, в 1497 году, категорическое поручение, по примеру Колумба, открыть западный путь к сокровищам Индии, а если он встретит новые земли, то присоединить их к владениям Англии. Во исполнение этого полномочия, Джон Кабот, в 1497 и 1498 годах, два раза переплывал между Англией и Северной Америкой океан, как известно, более узкий в этих широтах. В первый раз он высадился на Лабрадорском берегу и проследил его в северном направлении; второе плавание привело его к несколько более южному пункту американского берега. Отсюда он бегло объехал в южном направлении, по всей вероятности, все побережье нынешних Соединенных Штатов до широты Флориды.
Но затем англичане почти целое столетие обращали весьма мало внимания на страну, в которой их расе суждено было играть столь великую роль; лишь случайно тот или другой английский корабль направлялся к отмелям Ньюфаундлэнда с их неисчерпаемыми рыбными богатствами. Известие об экспедиции Кабота открыло португальцам, что, подобно Бразилии на юге, есть и на севере неизвестные территории, которые должны были принадлежать им в силу разграничения сфер открытия. Во всяком случае, это послужило поводом к отправлению братъев Гаспара и Мигэля Кортереаль. Король Мануэль предоставил им привилегию на исключительное владение и право торговли в странах, которые они откроют к северу от испанской колониальной сферы и по сю сторону условленной демаркационной линии. Эти права оставались и признавались за ними и их наследниками, по меньшей мере, до 1579 года, хотя португальцы точно также не делали серьезных попыток к заселению открытых областей. В первое свое плавание в 1500 году Гаспар Кортереаль открыл остров Ньюфаундлэнд, с его величественными лесами и обилием рыбы в прилегающих водах. На следующий год он пустился во второе плавание, также увлекаемый призраком северо-западного пути к сокровищам Индии, вдоль Лабрадорского берега на север. Нужно полагать, что он и спутники его сделались, в Гудзоновом проливе, первыми жертвами арктических льдов. После того португальцы еще долгое время предпринимали случайные поездки к отмелям Ньюфаундлэнда. Одна из первых поездок этого рода, предпринятая с целью отыскания экспедиции Кортереаля, с братом его Мигэлем во главе, была второй жертвою ледяных пустынь севера. С тех пор плавания все более и более ограничивались ловлею рыбы, которою изобиловали тамошние моря. И только случайно португальские моряки расширяли область новооткрываемых земель в Северной Америке. Так, Иоанн Альварес Фагуэндес объехал в 1521 году полуостров Новую Шотландию и залив Св. Лаврентия.
Особенно ревностно следовали этому примеру французы. Судовладельцы Диеппа и Гонфлера, по меньшей мере, с 1508 года, деятельно участвовали в рыбной ловле на отмелях Ньюфаундлэнда. Эти рыболовные экспедиции, без сомнения, сопровождались временными посещениями близлежащих побережий, где запасались водою и съестными припасами, чинили суда и, главными образом, сушили и коптили рыбу для перевозки. От подобных стоянок Бретонский мыс до сих пор сохранил свое название, а имена Тиерра, Багия, Рио де Бретонес часто повторяются на старых картах Канады. В начале двадцатых годов XVI века, эти заатлантические страны обратили на себя внимание и французского правительства, по поручению которого Джиованни да Вераццано произвел в 1524 году подробное исследование восточного побережья Северной Америки, на протяжении от Флориды почти до нынешней северной границы Соединенных Штатов. Быть может, дело не ограничилось бы этим путешествием, если бы не энергические протесты португальцев, даже дипломатическим путем.
Несравненно больше сделали и для исследования Северной Америки испанцы, хотя их деятельность ограничивалась, главным образом, более южными областями. Охота на рабов между Лукайскими островами уже давно ознакомила испанцев с южной оконечностю Флориды. Но эта область казалась так мало заманчивою, что в течение многих лет они даже не давали себе труда исследовать – принадлежит ли мыс острову или материку. Только в 1512 году Хуан Понсе де Леон, губернатор Пуэрторико, предпринял поездку с тремя кораблями, с целью проверить баснословные рассказы, циркулировавшие относительно страны на севере. В день св. Троицы, Pascua Florida, он достиг неизвестного побережья, которому дал название Флориды. Отсюда Понсе плыл вдоль восточного берега дальше, до широты будущего Сан-Агустина. Но плоский берег тянулся с бесконечным однообразием и он повернул обратно, обогнул южную оконечность мнимого острова и шел, также на большем протяжении, вдоль западного берега. Наконец, не видя нигде ни проливов, ни богатых стран и всюду сталкиваясь лишь с враждебными индейцами, он вернулся в Пуэрторико. Прошли годы, прежде чем он решился на вторичную попытку исследования открытых им стран. Его побудило к тому желание устранить соперничество со стороны других мореплавателей, которые также заходили в страны, причисленные им к области своих открытий. Так, когда Франсиско Фернандес де Кордова совершил свое плавание для обследования берегов Юкатана и Мексики, вверх до Пануко, он взял, на обратном пути, слишком точный восточный курс и пристал к западному берегу Флориды в таком месте, которое с положительностью трудно определить. Это открытие показалось настолько интересным, что Франсиско де Гарай поручил своему лоцману, на которого первоначально было возложено доставление известного числа колонистов в занятую им область Пануко, обратить несколько больше внимания на северное побережье Мексиканского залива. При этом Пинеда не только убедился в том, что от Пануко до полуострова Флориды берег не прерывается, но открыл и устье Миссисипи. Однако, отсюда он не заключил, – как некогда сделал Колумб относительно Ориноко, – что масса вод в этой реке должна свидетельствовать о громадных размерах орошаемых ею пространств.
Понсе де Леон усмотрел в этих предприятиях посягательства на его собственные открытия. Поэтому он обратился в Испанию и, по установленному порядку, добивался привилегии на открытую им страну, обязуясь, с своей стороны, фактически занять ее и колонизировать. В 1521 году он снова пустился в путь, взяв с собою 600 колонистов, скот и припасы. Но попытки его утвердиться на западном побережье Флориды терпели неудачу за неудачей, пока, наконец, смертельно раненый неприятельскими стрелами, он не был вынужден повернуть назад. Бо́льшая часть спутников его погибла еще на пути, а сам он успел добраться лишь до Кубы, где и скончался.
Однако, именно враждебное отношение индейцев заставляло обратить внимание на Флориду. Индейцы островов частью были умиротворены, частью же ускользали от испанцев. Чтобы находить невольников для работы, приходилось отправляться все дальше и дальше. Случилось так, что два корабля, нагруженные рабами и принадлежавшие лиценциатам Матиенсо и Айлону, встретились в водах северных Лукайских островов и решили сообща напасть на воинственных индейцев Флориды. Помимо кое-какой добычи, они привезли в Сан-Доминго очень благоприятные вести о стране. Лиценциат Люка с Васкес де Айлон решился, поэтому, продолжать исследование и, если окажется возможным, попытаться колонизировать страну. Ему не трудно было получить от Двора привилегию на земли, лишившиеся владельца со смертью Понсе. После многолетних приготовлений, во время которых моряки Айлона изучили атлантическое побережье вплоть до Сент Ривера, он отплыл в 1526 году из Эспаньолы в свои владения на трех кораблях с 600 колонистов. Счастье, однако, не улыбалось и ему. И море, и берег оказались одинаково враждебны ему: самый большой из кораблей его потерпел крушение. Попытки его к высадке у Рио Хордан или Сан Матео встретили столь энергический отпор со стороны индейцев, что ему никак не удалось утвердиться дальше выстрела своих аркебуз. К тому же колонисты неимоверно страдали в болотистых местностях побережья. Наконец, и сам Айлон погиб от лихорадки, после чего остатки экипажа его укрылись на кораблях и вернулись на Эспаньолу.
С тех пор колонизация атлантического побережья была отложена на многие годы. Но, с другой стороны, ареною дальнейших открытий сделался берег Флориды (так называли испанцы всю известную им часть северного материка) со стороны залива, – и это обстоятельство имело чрезвычайно важное значение для исследования Северной Америки. Уже в 1528 году Панфило де Нарваес, известный противник Кортеса (ср. стр. 367), будучи губернатором Флоридского берега Мексиканского залива, прошел морем от Кубы до Аппалачской бухты и исследовал одновременно с моря и с суши обещанную ему область к западу. Вскоре, однако, сухопутное войско и флот потеряли друг друга из виду. Флот, напрасно прождав несколько месяцев Нарваеса и его спутников вблизи Миссисипи, отплыл обратно на Кубу. Когда Нарваес, выбившись из сил, вернулся, наконец, к берегу, ему не оставалось ничего другого, как построить кое-какие суда и, с помощью их, выбраться из негостеприимных пустынь в пределы цивилизации. Он полагал, что находится ближе к Пануко, чем к испанским островам, и поэтому направил свои суда на запад, но в дельте Миссисипи почти вся экспедиция погибла. Лишь немногие уцелели и могли продолжать свой путь к западу по суше. Наконец, благодаря только особенно счастливой случайности, они добрались до испанских поселений в Новой Мексике. Мы уже говорили, как преувеличенные рассказы их дали новый толчок к розыскам сказочных городов Тусаяйана и Кивиры (ср. выше, стр. 371).
Несравненно более обширная территория внутри Северной Америки была открыта благодаря авантюристскому походу Эрнандо де Сото. Этот поход носит почти легендарный характер: несмотря на беспрерывные неудачи, находились все новые охотники, и притом в значительном числе, которые пускались в неизвестные места с таким легким сердцем, как будто речь шла об увеселительной прогулке. Личность де Сото, принадлежавшего к самым богатым конкистадорам в Перу, производила столь сильное обаяние, что, при самом строгом подборе спутников, он мог вывести из Севильи отряд в 1000 человек. Завершив на Кубе свое снаряжение, он отплыл к бухте Тампа на западном берегу Флориды, где его ожидало необычное счастье: он встретил дружественный прием индейцев и мог спокойно заняться приготовлениями к путешествию внутрь страны. Правда, не долго длилось такое расположение туземцев к испанцам. Как только последние двинулись в северном направлении, им пришлось иметь дело с индейцами, которые со времен Нарваеса поклялись бороться с европейцами на жизнь и смерть. Три года блуждали, таким образом, испанцы и, за немногими исключениями, только в тех случаях приобретали дружбу дикарей, когда вступали в союз с одним племенем и оказывали ему помощь в борьбе с соседями. После бесконечных и необычайных приключений, схваток и лишений, от блестящего отряда де Сото осталась жалкая кучка в каких-нибудь 300 авантюристов, полуодетых и до крайности изнуренных.
Однако, не в этих внешних событиях заключается историческое значение описанного похода. Для потомства имеет наибольший интерес географическая и этнографическая сцена подвигов де Сото, которая может быть очерчена, по крайней мере, приблизительно на основании дошедших до нас отчетов. Сперва испанцы двигались в определенном расстоянии от болотистого побережья, к северу, пока не достигли оконечности Аппалачского залива. Отсюда они уже стали удаляться от моря, углубляясь в страну в северном и северо-восточном направлениях чрез всю Георгию и южную Каролину до самых истоков Альтагамы и Саванны. Они не решались, однако, ни здесь, ни далее к югу, перейти чрез покрытые густым лесом Аллеганские горы: настолько страшною казалась им эта лесная пустыня; их не манило и на север, и они предпочли западное и юго-западное направление. Проходя чрез нынешнюю Элэбему, они достигли реки того же названия и в Пепсакольском заливе восстановили временное сообщение с морем и флотом, который доставлял им новые припасы. Долгие и безуспешные блуждания все-таки не могли удержать де Сото от дальнейшего похода. Отдохнув продолжительное время в Мобиле (в то время этот пункт находился значительно выше современного нам города того же имени), он снова двинулся вглубь пустынь и, наконец, недалеко от нынешнего Мемфиса, дошел до Миссисипи. Переход через «отца рек» снова надолго задержал его. Но, в конце концов, переправа могла быть совершена при содействии индейцев и при помощи нескольких шлюпок, сооруженных собственными силами. Отсюда де Сото продолжал путь чрез Арканзас и южный Миссури до верхнего течения Белой реки. Идя к северо-западу и достигнув мест, от которых плодородие страны и густота населения стали уменьшаться, де Сото снова изменил направление и двинулся на юг и запад чрез Вашиту к Красной реке. Здесь, впрочем, ему пришлось убедиться, что в лесах и прериях не скрываются сокровища и не попадаются культурные царства. Разочарованный в своих надеждах, он решился вернуться к Миссисипи и снова достиг этой реки выше устья Красной pеки. Здесь, спустя почти ровно три года после отплытия из Кубы, он погиб от лихорадки и меланхолии, в которую впал вследствие неудачи своих планов. Спутники де Сото думали, что находятся близко к границам Новой Мексики, и поэтому еще раз попытались добраться туда сухим путем. Но недостаток съестных припасов в западных областях заставил их в третий раз вернуться к Миссисипи. В конце концов, они должны были считать себя счастливыми, что выбрались на своих плохих самодельных судах по течению реки в открытое море, прежде чем силы их истощились настолько, что уже не могло быть и речи о борьбе с враждебными индейцами. Однако, им предстояло еще продолжительное плавание вдоль берега Мексиканского залива, прежде чем они достигли первого христианского поселения в Пануко и здесь могли, накопец, оправиться от бесконечных лишений и переходов. Из 1000 спутников де Сото только 311 достигли цели своих усилий. Но ценою этих жертв было так мало достигнуто для дела колонизации, что испанское правительство в скором времени воспретило новыя экспедиции в эту враждебную страну.
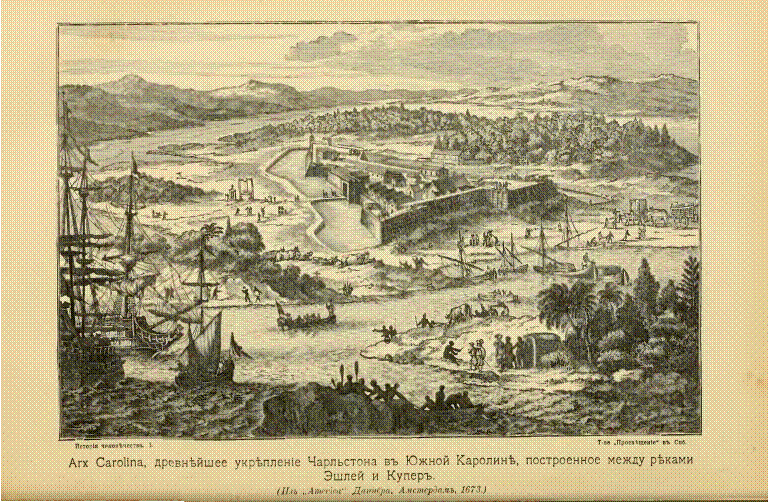
В. Французские попытки колонизации
Если Флорида так сильно разочаровала испанцев, то у других наций она пользовалась далеко не такою дурною славою. Религиозные распри во Франции послужили уже однажды поводом к исканию за океаном страны мира и терпимости: мы говорим об основании Виллегеньоном колонии в Рио де Жанейро (ср. выше, стр. 390). Но в то время имелось в виду лишь создать убежище для обоих исповеданий. Вторая попытка этого рода, предпринятая Рибо и Лодоньером в 1562–65 годах, имела целью устроить на берегу Флориды колонию, если не исключительно, то, главным образом, для протестантской общины, которая терпела на родине все бо̀льшие и бо̀льшие гонения и притеснения. В начале не представлялось ни малейших затруднений к отысканию на заброшенном восточном побережье Флориды места, удобного для высадки экипажа и склада припасов. Вожаки выбрали для этой цели бухту Чарльстона, которую они называли Майской рекою, а испанцы Рио Сан Матео. Самая колония, над которою возвышался укрепленный холм, была названа в честь французского монарха Arx Carolina (см. таблицу «Агх Carolina»). Если бы поселенцы удовлетворились тем, что обрели, наконец, на дальнем побережье мир и терпимость и отдались бы обработке земли и мирному труду, то, по всей вероятности, они могли бы прочно утвердиться там и основать колониальное государство, как это сделали впоследствии англичане в этом и в других местах того же побережья. Но дело в том, что и в этой колонии работники составляли наименьшую часть, а большинство предпочитало более легкий способ обогащения: на поспешно построенных легких судах они пускались в Антильское море и там, как морские пираты, нападали на всякого, с кем надеялись справиться.
Подобный образ действий навлек на них месть испанцев. Филиппу II трудно было примириться с мыслью, что чуждая нация, и притом наследственно враждебная Испании, осмелилась укрепиться у самых границ испанских колониальных владений в сфере испанского влияния. Но еще труднее для него было освоиться с тем, что это были еретики и что они представляли опасность для распространения католичества, в чем Испания усматривала свою историческую миссию. В виду того, Менендесу де Авилес, одному из лучших моряков, какими располагала в то время Испания, дано было поручение во чтобы то ни стало разрушить чужеземное поселение на испанской земле. Он получил категорический приказ принципиально не давать ни малейшей пощады еретикам. Французы обвиняли испанских предводителей в беспримерной жестокости; но едва ли они были правы, так как в своих собственных религиозных распрях они проявляли не меньше фанатического ожесточения друг против друга, чем обнаруживал по отношению к ним Менендес. Во всяком случае, фанатизм религиозных войн был по этому поводу впервые перенесен на почву Нового Света. Еще раньше, чем Менендес сосредоточил вновь свои боевые силы, рассеянные бурею во время плавания чрез океан, он добился важного успеха. Под покровом ночи ему удалось пробраться между материком и французским флотом, стоявшим на якоре у Сан Матео, и оттеснить флот от берега. Когда он затем произвел нападение на форт Каролину не с моря, а со стороны суши, для чего ему пришлось сделать трудный обход чрез леса, то он, можно сказать, не встретил никакого сопротивления и почти без всяких потерь с своей стороны уничтожил гарнизон. В то же время экипаж французского флота потерпел крушение от бури и был выброшен на берег в таком жалком состоянии, что всецело зависел от милости испанцев. Менендес поступил, конечно, жестоко, не выказав ни малейшего сожаления к этим беззащитным людям и пощадив только тех из них, которые перешли в лоно католической церкви; но он исполнял лишь веление короля и нисколько не скрывал, что каждый еретик, который попадется в его руки, обречен на смерть.
Впрочем, деятельность Менендеса не ограничивалась одним разрушением. Ему в то же время было поручено колонизировать Флориду для испанцев. На том месте, на котором он впервые пристал к берегу, был воздвигнут им Сан-Агустин, старейший город на земле Соединенных Штатов, который сохранился до наших дней, хотя его неоднократно переносили с места на место. Второе поселение, устроенное им на месте Агх Carolina, имело менее счастливую судьбу: спустя немного лет, оно было взято приступом французскими протестантами под предводительством де Гурга, который, желая отомстить за павших земляков и единоверцев, безжалостно истребил всех испанцев, очутившихся в его руках. Но Карл IX не одобрил этого образа действий, усмотрев в нем разбойничество, и раз навсегда категорически отказался от Флоридского побережья. После того испанская колония Сан Агустин, медленно развивавшаяся, в течение долгого времени отстраняла всякие иноземные попытки колонизации.
Здесь, на юге, Франция без сопротивления отказалась от своих притязаний; но еще ранее того она приступила к заселению крайнего северо-востока северо-американского материка. Этот план она преследовала с большим упорством и даже мечтала покорить отсюда весь материк. Еще в 1535 году Жак Картье предпринял экспедицию с целью исследования берегов Ньюфаундлэнда и Лабрадора. Хотя эти страны не могли привлекать своими богатствами, но он, уже на следующий год, вернулся сюда, чтоб продолжать исследования. Во время этого второго путешествия, он глубже проник в залив св. Лаврентия и открыл громадную реку того же имени, изливающуюся в этот залив. Плывя вверх по реке, Картье достиг со своими кораблями места нынешнего Квебека, а затем на судах меньшего размера проник до главного города индейцев Хочелаги, нынешнего Монреаля. Бурные воды потока положили преграду его дальнейшим исследованиям, и он вернулся к своему флоту. На месте стоянки его он провел тяжелую, полную лишений зиму и на следующий год возвратился во Францию с первым грузом канадских мехов. После того прошло несколько лет прежде, чем сделана была серьезная попытка колонизировать страну, открытую Картье. Только в 1541 году Франциск I дал с этой целью полномочие Робервалю: Картье должен был сопровождать его в качестве лоцмана, а затем приступить к дальнейшим открытиям. Оба они отдельно переплыли океан и основали вблизи Квебека небольшие поселения, которые послужили исходным пунктом для исследования соседних областей. Однако, и этим колониям не было суждено продолжительное существование. Проведя две длинных и полных лишений зимы в суровом климате Канады, колонисты в 1543 году отказались от дальнейших попыток основаться здесь и были отправлены во Францию.
Прошло много времени прежде, чем официально были предприняты новые попытки колонизации. Но отдельные французские суда, наряду с рыбною ловлею на отмелях Ньюфаундлэнда, производили при случае меновую торговлю мехами на реке св. Лаврентия. И эта торговля оказалась настолько прибыльною, что в первые годы XVII века группа бретонских купцов составила с этою целью товарищество и сумела добиться монополии от Генриха IV. Колония в Канаде получила с самого начала своеобразную форму: это было нечто среднее между торговым обществом и коронной колонией; первые предприниматели, Понграве, Шовен и де-Мон, стремились лишь развить и прочнее организовать торговлю мехами. Основанное ими поселение Тадуссак, при слиянии рек св. Лаврентия с Сагенеем, представляло собою не более, как торговую факторию. Но в 1603 году, со вступлением в общество Самюэля де Шамплэна, не только расширились задачи предприятия, но мало-по-малу изменилось и отношение его к государству в том смысле, что правительство приобрело большее влияние и вместе с тем приняло на себя бо̀льшую долю ответственности. В 1612 году, во главе канадских предприятий был поставлен граф де Суассон с присвоением ему титула вице-короля; после него это место занял принц крови, и колониальное предприятие, таким образом, все более принимало официальный характер. Этому в замечательной степени противоречили экономические условия колонии. Вплоть до XVIII столетия канадские поселения французов носили вполне характер торговых факторий и миссионерских станций. Женщины, за исключением духовных сестер, были там так же редки, как и настоящие колонисты. Бо̀льшую часть обитателей составляли солдаты, купцы и духовные лица. В отношении содержания их, колонии еще в течение многих лет оставались в зависимости от привоза из Европы и от меновой торговли с туземцами. Прокормить себя колонии Новой Франции вообще не были в состоянии, пока не перешли в руки англичан, и, в связи с этим, во внутренней организации их не произошли существенные изменения.
Несмотря на то, характеристической чертой французского колониального управления являлась потребность в расширении и притом в расширении почти до бесконечности и, во всяком случае, несоразмерном с силами колонии. Отчасти это зависело, конечно, от экономического положения колонии: доходы с меховой торговли должны были покрывать расходы, которые беспрерывно росли, несмотря на скромное число колонистов. Это было возможно лишь при условии, чтобы торговая монополия располагала обширной внутренней страной. Здесь тем более требовалось фактическое занятие страны, что пионеры голландско-английской колонизации все более и более проникали за Аллеганские горы и начинали выступать в качестве соперников французских охотников и мехоторовцев. Нет сомнения, что в этом постоянном стремлении к несоответственному расширению эксплуатируемой области играл не малую роль целый ряд совершенно своеобразных авантюристов. Попадая случайно в канадские предприятия, они вновь и вновь давали толчек к дальнейшему движению, не смущаясь временными неудачами. Так создалось французское колониальное царство в провинциях Новой Франции, Канаде и Луизиане, которое оказалось колоссом на глиняных ногах, когда от него потребовалось доказательство его внутренней силы.
Первым в ряду открывателей, усиленно способствовавших расширению Новой Франции, был Самюэль де Шамплэн. С 1603 до 1616 года он находился частью на службе, частью во главе Канадского колониального управления. Однако, интересы правительства торговой компании никогда не в состоянии были прочно привязать его даже и там, где с этим были соединены теснейшим образом его личные интересы. Его влекло за океан и вечно манило вновь и вновь в пустыни запада стремление разгадать тайны, которые скрывались в дальних лесах, и обеспечить за Францией первенство среди прочих наций в деле внесения света в первобытный лес.
Уже при первых своих предприятиях он убедился в том, что для осуществления его планов ему безусловно необходима надежная дружба с индейцами. Туземцы, которые спускались вниз по реке св. Лаврентия в Квебек и Тадуссак, чтобы сбывать французам свою охотничью добычу, большею частью, принадлежали к племени гуронов и к некоторым племенам алгонкинов, которые жили в соседстве с гуронами и были связаны с ними общей враждою к ирокезам, жившим к востоку и юго-востоку от них (см. выше, стр. 211). Так как в руках этих племен находился путь к неизвестному западу, то Шамплэн, не колеблясь, вступил с ними в союз и даже не побоялся купить их услуги тем, что оказал им поддержку против ирокезов, смертельных врагов этих племен. Первый поход был предпринят им в страну, где озеро Шамплэн до сих пор еще напоминает о нем. Поход был успешен и чрезвычайно поднял уважение к европейцам в глазах их диких союзников. Благодаря тому, Шамплэну удалось вполне осуществить свои собственные планы и намерения, но при этом ни ему, ни кому-либо другому не приходило на ум, что своими действиями он вызывает непримиримую вражду союза ирокезов к своим соотечественникам. Быть может, это обстоятельство и не получило бы значения в виду огромного превосходства европейского вооружения над индейским, но дело в том что нашлась другая европейская держава, враждебная французам, которая естественно примкнула к ирокезам и снабжала их средствами к борьбе. Вследствие того, дикари сделались вскоре очень опасными противниками для обширных, но слабо заселенных колоний французов. Под охраною гуронов и их союзников, Шамплэн занялся прежде всего исследованием области реки св. Лаврентия во всех направлениях. Озеро Шамплэн на юго-востоке, средний Сагеней на севере и озеро Гурон на западе, – таковы были пределы территории, на которую предстояло распространить влияние Франции. Гуронского озера Шамплэн достиг через Оттаву и Ниписсинг, не имея первоначально ясного представления о великой системе северо-американских озер.
Шамплэн сделал еще один важный шаг, способствовавший укреплению этого влияния: он вызвал в Канаду миссионеров. Члены торговой компании неохотно мирились с этим в виду возрастания расходов, тем более, что стремления миссионеров приучить индейцев к оседлости прямо вредили торговле мехами. Тем не менее, при содействии французского правительства, более возвышенные взгляды Шамплэна одержали полную победу над узким бессердечием купцов. Сперва Шамплэн пригласил в колонии францисканских монахов, которые построили в Квебеке первую массивную церковь в северной Америке. Несмотря на то, что в торговой компании играли большую роль протестанты, относившиеся к иезуитам весьма враждебно, трудно было устранить последних из канадских колоний, так как миссионерская деятельность их была выше всякой похвалы. С 1625 года они работали наряду с францисканцами. Обширная литература, обнародованная братьями ордена о деятельности их в Канаде, свидетельствует о том, сколько сделано ими и здесь, на севере, для обращения индейцев. Политические события на родине (после взятия Ларошели, последней твердыни протестантизма, Ришелье добился воспрещения протестантам жить в колониях) способствовали тому, что они все более и более становились преобладающим элементом в колонии; это положило на них отпечаток, сохранившийся отчасти и до сих пор, несмотря на продолжительное английско-протестанское господство.
Уже в эту раннюю эпоху французская Канада однажды едва не перешла в руки англичан. В 1621 году сэр Уильям Александр получил от Иакова I привилегию на основание феодальной колонии под названием Новой Шотландии; в пределы ее входила большая часть Новой Франции. И когда религиозная распря повела к открытой войне между Англией и Францией, Александр сделал попытку осуществить это право на деле. Корабли его много раз прорывались вверх по течению реки св. Лаврентия, захватывали французские корабли и этим почти совершенно уничтожали сообщение между Квебеком и родиною. В 1628 году они, однажды, появились перед самым городом и потребовали сдачи его, и только твердость Шамплэна побудила их отступить. На следующей год, однако, они снова явились, и на этот раз колонисты, истощенные суровой зимою и лишенные всякой поддержки из Европы, должны были сдаться. В этот момент Канада была уже в руках англичан. Но так как еще до падения Квебека в Европе заключен был мир, гарантировавший договаривающимся сторонам территориальную неприкосновенность, то Квебек был возвращен Франции, и французская Канада могла процветать еще более столетия.
Шамплэн вернулся еще раз в Квебек и успел кое-что сделать для канадской колонии до своей смерти в 1635 году. Английские притязания были более или менее устранены, мир с гуронами подтвержден, и выше по течению реки св. Лаврентия, в Трех Реках, основано новое поселение. Но сделано было еще нечто большее в его духе, хотя весть об этом уже не успела дойти до него. Один из самых выдающихся учеников Шамплэна, Жан Николе проник старым путем через Оттаву к Гуронскому озеру и отсюда по проливу Мэкинау до озера Мичигэн, а затем спустился по западному берегу его. Правда, он не ознакомился с геологическим строением бассейна озер и с настоящим составом его. Но, вступая в союзы с индейцами вплоть до Фокс Ривера, он проложил путь, который впоследствии приобрел важное значение.
Последующие годы оказались неблагоприятными для Канады. Хотя в 1643 году в Монреале было основано третье французское поселение, но, подобно старейшим колониям, оно чрезвычайно страдало от враждебных ирокезов, благодаря которым опасно было выходить за пределы городских стен. Последствия политики Шамплэна в отношении индейцев давали себя чувствовать самым роковым образом. Ирокезы, быть может, готовы были заключить мир с французами, но под условием, чтобы те пожертвовали им гуронами. Этого, однако, они не могли сделать уже в интересах собственного существования. Хотя им и не удалось спасти гуронов от истребления, но все-таки, отклонив от себя помощь ирокезов, они сохранили дружбу гуронов и соседей их. Вначале перевес был бесспорно на стороне ирокезов. После продолжительных битв, сопровождавшихся большими потерями, гуроны, а вместе с ними и некоторые из соседних алгонкинов, должны были покинуть насиженные места на реке св. Лаврентия и на Онтарио и направиться на дальний запад. После некоторых странствований, они осели, наконец, в области между Миссисипи и Верхним озером. Для французских торговцев мехами это было равносильно необходимости двигаться далее на запад. Выселение гуронов непосредственно способствовало открытиям в этом направлении; в то же время оно не принесло ожидаемых вредных последствий для колоний на реке св. Лаврентия. Удовлетворив чувство мести, ирокезы заключили мир с белыми, правда, ненадежный. Они даже допустили к себе французских иезуитов-миссионеров. Исследования, произведенные последними, выяснили необычайные выгоды географического положения страны ирокезов на возвышенности, от которой брали начало воды, текущие к востоку непосредственно в океан, к северу в реку св. Лаврентия и к западу к неизвестным большим водам запада. Это облегчило впоследствии занятие области Миссисипи французами.
В целом, однако, Канада влачила грустное существование до тех пор, пока Кольбер не вмешался в колониальные дела со свойственной ему энергией. Он уничтожил основанную Ришелье «Компанию Ста», которая до того времени монополизировала торговлю в Канаде, но лишь с целью передать ее в руки крупного Французского вест-индского общества, деятельность которого действительно внесла новую жизнь в канадские предприятия. В короткое время область озер была исследована во всех направлениях, и французское влияние упрочено, благодаря миссиям и торговым станциям; важнейшие из них находились у водопада Сент-Мари между озером Верхним и Гуроном, у Мэкинау между Гуроном и Мичигэном и, наконец, самая молодая стоянка у Шагарского водопада.
До этого момента французские исследователи также поддерживались надеждой открыть водный путь на запад от озер к Катайскому морю. Но когда взамен того на западе открывались все новые обширные страны и попадались воды, которые текли на восток, то стали внимательнее прислушиваться к рассказам индейцев о великой реке на западе; в 1670 году европейцы впервые узнали ее название «Миссисипи». Исследование этих вод явилось ближайшей задачей для любознательных французских путешественников. С разрешением этой задачи, Франция достигла кульминационного пункта своего колониального владычества. Первыми европейцами, которые проникли с севера до Миссисипи, были Жолье и Маркетт. Первый из них был командирован по распоряжению Кольбера новым канадским губернатором Фронтенаком в 1673 году для исследования таинственных «Западных вод». К нему добровольно примкнул Маркетт, который в то время жил в Мэкинау в качестве миссионера. Отсюда оба они двинулись уже известным путем через Зеленую бухту вверх по реке Фокс. Индейские проводники привели их здесь к месту, где, протащив лодки на протяжении не более двух английских миль по сухому пути, они очутились в притоке Висконсина. С этой минуты оставалось лишь отдаться течению, чтобы, спустя несколько недель, достигнуть самой Миссисипи. В устье Огайо они узнали водный путь, который смутно указывали ирокезы. Когда французы достигли мощного притока Миссури, задача, которую они преследовали, была решена. Река подобного размера позволяла предполагать существование обширных масс суши и громадного водораздела на западе и на северо-западе; а самая большая река, имевшая по преимуществу южное направление, могла вести только к Мексиканскому заливу. Они проследили ее до устья Арканзаса. Так как и дальше они находили подтверждение своих предположений, то предпочли не подвергать свое открытие опасности вследствие возможных враждебных отношений со стороны испанцев. Они двинулись, поэтому, обратно через Иллинойс и Де-Плен в направлении к Чикаго.
В самой Франции лишь мало-по-малу выяснились громадные перспективы для французских колониальных владений, вытекавшие из открытия Жолье. Но в Канаде не было недостатка в дальновидных людях, которые готовы были тотчас же продолжать дело. К ним принадлежал губернатор Фронтенак. При его посредстве, Рене Робер Кавелье, сьер Де-Ла-Саль, один из мелких феодальных владельцев, каких было много в Монреале, получил в 1678 году королевский патент, который давал ему привилeгию на торговлю в Иллинойсе и основание там факторий. Таким образом, Ла-Саль стал пионером запада и открыл Луизиану, с обладанием которою он справедливо связывал самые широкие надежды для будущности французской торговли и французской колонизации. Лично он, впрочем, немного выиграл от этого. Минуя озера, он направился к реке Сен-Джон и оттуда к Иллинойсу, где построил форт Кревкер, как точку опоры для дальнейших предприятий. Судьба преследовала его, однако, на каждом шагу. Корабли его погибли; когда сам он отправился в Канаду, чтобы получить подкрепление, гарнизон сдал форт. Через несколько лет он вернулся сюда с новой экспедицией, но застал всю страну опустошенною. Враждебные ирокезы, подстрекаемые из Новой Англии, преследовали французов до самой пустыни. Ла-Саль не падал, однако, духом. Вместе со своими спутниками он добрался до устьев Миссисипи и именем Людовика XIV овладел страною, которой дал название Луизианы. Вначале, конечно, это занятие страны было лишь пустым звуком: ее предстояло еще заселить, а пока не было ни колонистов, ни припасов, и Ла-Саль вернулся еще раз через Иллинойс. Для того, чтобы обеспечить себе господствующий пункт, он соорудил форт Луи на Starved Rock. Дальнейшей задачей его было обеспечить себя от нападений испанцев со стороны Мексиканского залива сооружением форта в устьях Миссисипи, подобно тому, как форт Луи должен был защищать от нападения англичан со стороны территории ирокезов. Успехи Ла-Саля возбудили интерес в самой Франции. Снаряжены были четыре корабля, которые должны были доставить его с колонистами морем к устью «Отца рек»; к сожалению, он сам не в состоянии был отыскать это устье со стороны моря. Проплыв напрасно слишком далеко к западу, он высадился в Техасе в устье Колорадо, приняв эту реку за рукав Миссисипи. Когда он понял свою ошибку, то корабли были уже далеко. Он сделал, однако, попытку добраться до Миссисипи сухим путем, но был убит собственными людьми. Колонисты на Колорадо также погибли частью от климатических условий, частью от руки туземцев. Когда Рафаэль де Тонти, вернейший приверженец Ла-Саля, проник в 1687 году из Иллинойса до низовьев Миссисипи, чтобы оказать помощь своему господину, он впервые узнал о полном крушении предприятия последнего.
Темъ не менее, подвиги Ла-Саля имели решающее значение для будущности Луизианы. По пути, указанному Жолье и Ла-Салем, двинулись в обширную и плодородную область запада миссионеры и торговцы мехами, охотники и авантюристы. На Иллинойсе, Каскаскии, Арканзасе и пр. стали возникать небольшие поселения. Правда, французы, как первоначально в Канаде, не пускали здесь корней в качестве настоящих колонистов и землевладельцев. Но, благодаря свойственному им умению приспособляться к нравам туземцев, они приобрели решающее влияние на последних и сумели, в борьбе, которая очевидно подготовлялась между колониями французской Канады и атлантической Англии, привлечь их на сторону политических интересов Франции. Вместе с тем, при их содействии все более и более распространялись сведения о необычайном богатстве страны. И если принять во внимание последующее развитие ее, то мы, по крайней мере, отчасти поймем ту сенсацию, которая была связана, хотя и недолго, с именем Луизианы.
В 1699 году Лемуан д’Ибервилль отплыл из Франции в Мексиканский залив с целью осуществления проекта, за которым смерть застала Ла-Саля. Он был счастливее его. После нескольких лет попыток и разведок, он основал поселение Розалию, первый французский город в устьях Миссисипи. В течение многих лет она была лишь точкою опоры для меховых торговцев, искателей приключений и лесных бродяг; тем не менее, даже случайных успехов их было достаточно, чтобы вновь и вновь возбуждать внимание во Франции. В течение недолгого времени купец Кроза̀ арендовал у правительства монополию торговли в Луизиане. Затем она перешла в руки Индейской компании, во главе которой стоял Джон Лоу. В руках этого финансиста, который был одно время всемогущим при дворе регента, Луизиана стала предметом необузданной спекуляции, окончившейся, как и следовало ожидать, величайшим крахом, о каком только знает всемирная история. В действительности, в то время не мало делалось для Луизианы. Прежде всего туда было отправлено много колонистов, хотя, правда, большинство их представляло довольно сомнительный элемент. Этим переселенцам обязан своим возникновением Новый Орлеан. И это не единственная колония, которая, несмотря на все пережитые опасности, все-таки продолжала держаться и уцелела до наших дней. Вскоре, однако, рискованные предприятия Лоу, в связи с плохой способностью французов к колониальным предприятиям, положили конец чрезмерным ожиданиям. И, как всегда бывает, обратный толчек был пропорционален силе первоначального подъема. Колония, из которой разумное управление могло бы создать нечто гораздо большее, чем из негостеприимной Канады, была предоставлена самой себе в течение более полувека. И прежде, чем вновь серьезно принялись за развитие ее, мечты Ла-Саля о создании французского колониального царства от Атлантического океана до Мексиканского залива были навсегда разрушены. После повторных, все вновь обострявшихся распрей, Франция в борьбе колоний между собою безнадежно потерпела крушение и, согласно Парижскому миру, должна была уступить все свои владения к востоку от Миссисипи – Англии и к западу – Испании (см. «Карты к истории Америки»).
С. Англичане в северной Америке
а) Первые шаги английского колониального владычества
Отцом английской Америки был Вальтер Ралей. Он был воодушевлен желанием вырвать у испанцев часть их необъятных колониальных владений и воспользоваться для себя и для своего отечества хотя долею тех сокровищ, которые притекали к испанцам из их колоний. Еще в 1584 году он составил план колонизации англичан на Атлантическом побережье Северной Америки, известном тогда под общим именем Флориды. Первые корабли, посланные с этой целью, пристали к берегу нынешней Каролины. Они вернулись обратно, не сделав попытки к основанию поселения, но рассказы их были настолько восторженны, что королева Елизавета назвала эту страну Виргинией, подразумевая свое девственное состояние. Не далее, как на следующий год, отплыл флот из семи кораблей, уполномоченный прочно занять территорию. Однако, колонисты в эпоху королевы-девственницы далеко не принадлежали к категории тех, которые создали впоследствии величие Новой Англии. Они не были склонны трудиться в поте лица, а надеялись без особых стараний обогатиться и вести затем беззаботную жизнь, полную удовольствий. В то время, однако, это еще не было возможно, несмотря на благоприятные условия страны. Колония Ралея долго влачила жалкое существование, несмотря на большие жертвы, которые принес делу сам основатель, и в 1590 году окончательно распалась.
Первый толчек к созданию более прочных поселений дал и здесь пример голландской компании в Ост-Индии. В 1606 году король Иаков I даровал привилегии (charters) двум английским обществам: одно из них, «Виргиния», должно было колонизировать страну от 34⁰ до 38⁰ широты, другое общество, «Плимут» – от 41⁰ до 45⁰. Между этими территориями, в Акадии и в области реки св. Лаврентия, находилась страна, на которую предъявляла права Франция. Несмотря на это, английский король объявил, что оба общества могут свободно конкурировать на пространстве между 38⁰ и 41⁰ лишь с условием, чтобы между поселениями их всюду соблюдалось расстояние не менее 100 (английских) миль.
b) Общество Виргиния
Общество Виргиния тотчас же приступило к деятельности. Правда, первые шаги были для него столь же трудны, как и для всякого нового предприятия. Тем не менее, уже спустя немного лет, оно установилось прочно и могло выдержать все бури тревожного революционного периода в Англии. Управление, которое Иаков I даровал обществу «Виргиния», с точки зрения государственного права представляло самое удивительное учреждение, когда-либо существовавшее. Верховные права над колонией принадлежали обществу, которое считало в числе своих членов множество богатых лондонских купцов и влиятельных личностей (в числе их находился Ричард Гаклюит, известный своими географическими сочинениями). Виргиния не была, следовательно, коронной колонией. Тем не менее, управление обществом было такого рода, что открывало самый широкий простор для вмешательства правительства. Собственно говоря, общество даже всецело находилось в зависимости от короля, так как он самолично избирал совет правления компании в Лондоне и административный совет, имевший резиденцию по ту сторону океана. Члены компании пользовались следующими правами: они свободно распоряжались в колонизированной ими области, оставались английскими гражданами и могли вести неограниченную торговлю произведениями своих колоний. В особенности этот последний пункт стоял в резком противоречии с тогдашним положением колоний в прочих странах. Благодаря ему, общество Виргиния не было поставлено в необходимость сбывать свои продукты исключительно на родину или через ее посредство. Но Иаков I, без сомнения, не предвидел значения этого обстоятельства во всей его силе и даже делал попытки устранить его. Позднее Кромвель своим Навигационным актом существенно ограничил права общества. Возникло стремление навязать и английским колониям общепризнанный принцип ограничения торговли пределами отечества. Это обстоятельство, в числе разных других причин, не мало содействовало отпадению Соединенных Штатов от верховной власти Англии.
Вначале колонии приходилось бороться с обычными трудностями. Первыми колонистами, которые в 1607 году остановились на реке Джемс и основали Джемстоун, были искатели приключений и вообще подонки общества, у которых не было и в мыслях основать свое существование на упорной борьбе и честном труде. Здесь едва ли помогла бы и железная энергия, с какою капитан Смит, главный основатель возникавшей общины, отстаивал благо юной колонии извне и внутри, если бы за золотоискателями и лентяями не потянулись мало-по-малу настоящие колонисты, земледельцы и ремесленники. Сам Смит много сделал в этом направлении.
В первое время все хозяйство колонии велось сообща. Капитан Смит ввел, по крайней мере, временно, общеобязательный шестичасовой труд. Но дело пошло лишь с тех пор, как участки земли были розданы колонистам в виде частной собственности. А когда было открыто возделывание табаку и стало принимать широкие размеры, поселения Виргинии быстро расцвели. В первое время колонистам, из которых многие были доставлены на счет общества, приходилось работать для возмещения расходов по переезду, и о приобретении собственности не могло быть речи. Но, благодаря табаку, цены на который в Голландии были очень высоки, колонисты скоро сделались независимыми и даже были в состоянии покупать новую землю. Выгодность дела являлась сама по себе наилучшей рекламой для приманки новых переселенцев, в числе которых вскоре можно было встретить не одних пролетариев и неудачников, но и предприимчивых, и богатых людей: последние стали вести хозяйство плантаций в широком масштабе и, конечно, все более и более увеличивали значение его. Недостаток в женщинах, который ощущался в первое время, был также устранен, благодаря торговому оживлению. В 1619 году Общество, в виде опыта, отправило в Виргинию на свой счет несколько молодых девушек. Каждый, кто выражал желание жениться на одной из них, должен был возвращать расходы за переезд, хотя бы в виде табаку. В самое короткое время все девушки были уже замужем, и Общество, повторяя эту попытку, имело возможность повысить цену. Система перевозки в колонию преступников на каторжные работы, процветавшая в широких размерах на Антильских островах, была также неоднократно применена в Виргинии, где была даже учреждена колония преступников; быть может, она привилась бы здесь в широких размерах, но самолюбие колонистов было до такой степени возмущено этим, что еще в 1620 году они решительно восстали против введения подобных элементов в их среду.
Напротив, они радостно приветствовали прилив населения иной расы. В 1620 году голландский корабль доставил в Джемстоун первых рабов-негров. Спрос на них был настолько значителен, что вскоре не только голландские корабли стали доставлять этот груз в изобилии, но и англичане, и даже сами виргинские купцы занялись торговлей черным товаром. Мало-по-малу плантации уже в XVII веке стали получать то развитие, которое было впоследствии так характерно для южных штатов Союза. Вскоре белые образовали лишь аристократию в Виргинии; они жили в качестве владельцев плантаций, в своих обширных поместьях, или, как ремесленники, не менее многочисленных городах. Главная тяжесть работы на табачных плантациях и на хлопчатобумажных полях, приобревших вскоре еще большее значение, лежала, если не считать немногих несвободных белых, на неграх, число которых беспрерывно росло по мере того, как расцветала колония.
Быстрому подъему колонии способствовали также политические условия. Уже через несколько лет после обнародования первой привилегии Иаков I отказался в пользу Общества от многих прав, которые удерживал за собою. Так, еще в 1609 году выбор административного совета был предоставлен членам самого Общества; эти последние, вместо колониального совета, назначали губернатора провинции, который, в виду отдаленности резиденции верховной власти, пользовался почти неограниченной властью. Все зависело, таким образом, от выбора подходящих личностей на этот пост, что не всегда удавалось; но Общество было настолько разумно, что во всех случаях сообразовалось с заявлением колонистов, и вообще влияние последних не только беспрерывно росло, но вскоре было даже урегулировано законом. В 1612 году дела управления Обществом перешли от административного совета в его собственные руки, и все вопросы колониальной администрации должны были решаться на четырех ежегодных общих собраниях. Спустя семь лет, это общее собрание допустило участие колонистов во внутреннем управлении. Из одиннадцати местечек, существовавших в то время в Виргинии, каждое должно было посылать двух депутатов в Джемстоун. Эти депутаты, вместе с губернатором и советом, избираемым в помощь ему, обсуждали общие дела и составляли постановления. И чем больше росли внутренние раздоры в самом Обществе и чем больше оно вовлекалось в политические течения на родине, тем сильнее выдвигалась роль этих колониальных собраний. Когда Иаков I в 1624 году нашел необходимым распустить Виргинскую торговую компанию и подчинить колонию непосредственному ведению короны, дух независимости настолько успел окрепнуть среди колонистов, что мог выдержать даже давление правительства.
Туземный вопрос долгое время не играл существенной роли в Виргинии. Первым колонистам, и в особенности капитану Смиту, удалось приобрести дружбу краснокожих, которая была окончательно закреплена, когда, славившаяся своей красотою, дочь одного из их начальников Покагонты вышла замуж за англичанина. Когда в 1621 году индейцы сделали попытку воспротивиться все более распространявшемуся господству иноземцев, они поплатились за это своею кровью. После того прошло много времени прежде, чем снова стали обнаруживаться враждебные отношения между ними и колонистами.
В материальном отношении колония развивалась чрезвычайно успешно; во всех прочих вещах она проявляла большой индифферентизм. В силу своего экономического положения, она вообще приняла аристократический характер. Когда между Карлом I и демократическими течениями на родине возникли разногласия, виргинцы были безусловно на стороне монарха, а когда в Англии победила революция, многие роялисты удалились в эту провинцию. Это не помешало, однако, колониальному собранию признать парламентское правительство без ущерба для своих собственных парламентарных прав и воспользоваться для своих плантаций обязательным трудом военнопленных, которые были сосланы туда по приказанию Кромвеля. Наоборот, реставрация Стюартов сопровождалась для Виргинии весьма вредными последствиями. Карл II восстановил в усиленной форме постановление Навигационного акта и этим почти уничтожил некогда свободную торговлю Виргинии; колонии были поставлены чуть ли не в такое же положение, как и испанские. Виргинцы, которые сами мало занимались торговлей, отнеслись к этому сравнительно равнодушно, но были сильно возмущены другими мероприятиями, которые ближе касались их интересов. Карл II, со свойственной ему бессовестною расточительностью, предоставил в 1669 году всю Виргинию двум своим фаворитам на 31 год; хотя колония сохранила при этом свои конституционные права, но все-таки она должна была примириться с тяжестью новых налогов. Виргинские наместники короля были столь же бессовестны, как и он сам. Восстание индейцев, вспыхнувшее в это время в колонии после полувековой мирной совместной жизни, прямо зависело от бесстыдной эксплуатации их со стороны креатур наместника, клонившейся исключительно к его личному обогащению. Дело зашло так далеко, что часть колонистов восстала против губернатора, и в этой гражданской войне, которая была задушена в потоках крови, сама столица погибла в пламени. Несмотря на это, большинство населения сохраняло прежнюю апатию. Настоящий виргинец сидел, как паша, в своих обширных поместьях и оставался ко всему почти безучастным, пока это не тревожило привычек его комфортабельной жизни. Благодаря богатству, он мог расширять свой умственный кругозор. Из всех колоний виргинцы поддерживали, повидимому, наиболее тесные духовные сношения со Старым Светом. Вошло в моду путешествовать и оказывать по истине царское гостеприимство гостям из Старого Света. Но в политике тогдашние виргинцы не шли дальше, чем этого требовала свобода, к которой приучила их старая конституция.
Материальные интересы колонии больше всего страдали от непосредственного соседства, от существования рядом с нею других колониальных провинций, развивавшихся при совершенно однородных географических условиях. Каролина обязана своим названием неудавшемуся колониальноиу предприятию, которое было начато в 1624 году Робертом Гитом на основании привилегий, дарованных Карлом I. До фактического захвата земли дело, однако, не доходило, пока Карл II, расточительно раздававший земли, не отдал и области между Флоридой и Виргинией восьми своим любимцам в наследственное владение и при том на все времена. Самым интересным в этой колонии является история ее конституции. Уже в самом королевском рескрипте говорилось, что колонистам должна быть предоставлена доля участия в местном управлении. Затем философ Джон Локк выработал для этой провинции проект конституции, представлявшей как бы компромисс патриархальной аристократии с парламентскими нравами, существовавшими в соседней Виргинии. В частностях, однако, это государственное здание было так сложно и непрактично, что никогда не могло быть вполне осуществлено. И только два принципа Локковской конституции пережили эпоху ее составления: терпимость в религиозных делах и рабство. В остальном влияние соседней Виргинии имело гораздо большее значение для северной Каролины, чем (отмененные в 1729 году) верховные права ее аристократических владельцев. Северные пограничные области получили из Виргинии своих первых колонистов еще прежде дарования королевского патента. Хозяйство виргинских плантаций распространилось и сюда; виргинские губернаторы неоднократно вмешивались в управление северной Каролины, а распри внутри Виргинии захватывали обыкновенно и северную Каролину. Главное различие между обеими колониями заключалось в том, что в Каролине в первые десятилетия вообще не могло организоваться твердое правительство, и что поэтому туда направлялось много сомнительных элементов, которые пользовались правами самоуправления лишь для того, чтобы поддерживать смуту. Положение дел изменилось лишь с того момента, как провинция стала коронной колонией. Она начало быстро развиваться и экономически походить на Виргинию, сделавшись вскоре опасной соперницей старшей сестры на хлопчато-бумажном и табачном рынке.
Восемь каролинских феодалов обратили, главным образом, свое внимание на южную Каролину. Здесь, при содействии поселенцев, значительная часть которых прибыла с острова Барбадоса, был основан в 1670 году город Чарльстон (см. таблицу «Агх Carolina»); здесь же имели место вышеупомянутые эксперименты введения конституции по мысли Локка. Сообразно с ее аристократическо-централистической тенденцией, правители придавали особое значение тому, чтобы главная сила колонии сосредоточивалась в городской общине с целью избежать раздробления, характерного для Виргинии и северной Каролины. Вследствие того Чарльстон расцвел гораздо быстрее, чем Джемстон. Благодаря той же тенденции хозяйство плантаций в южной Каролине никогда не могло развиться до таких размеров, как в более северных провинциях. Кроме того, более упорядоченные условия жизни и религиозная терпимость вызвали прилив в колонию таких элементов населения, которых лишены были северные соседи: пуритан из Нью-Йорка, гугенотов из Франции, пресвитериан из Шотландии. Все эти элементы стремились, и с успехом, пробиться собственными силами и противодействовать перевесу системы крупного землевладения. К тому же и соседство испанской колонии Сан Агустин изменило ходъ развития южной Каролины по сравнению с другими провинциями. Стычки, возникавшие по временам между соседними колонистами, большей частью, не имели серьезного значения. В конце концов, они даже пришли к соглашению сохранять мирные отношения и в том случае, если бы между их родными странами вспыхнула война. С другой стороны, близость испанских владений являлась сильным соблазном для дальнейшего ведения флибустьерской войны, с которою были хорошо знакомы колонисты, переселившиеся с островов. Наконец, пример испанских соседей сильно подействовал на южную Каролину в том смысле, что там можно было встретить множество индейцев-рабов, большею частью захваченных на испанской территории или на испанских кораблях. Так или иначе, но под этим влиянием выработалось отношение к туземцам совершенно иного рода, чем в других провинциях. В южной Каролине возникло движение, благодаря которому права восьми феодальных господ были снова упразднены. Колонисты Чарльстона нередко должны были, по приказанию высших властей, отказываться от плодов своей победы над испанскими соседями в пограничных стычках, но никто не вознаграждал их, если им приходилось страдать от испанцев. Но подобная опека, в связи с недостатками управления, неоднократно вызывала возмущение против феодальных владельцев. В конце концов, власть последних была устранена в 1719 году, а в 1729 году отменена за известное финансовое вознаграждение.
Приблизительно в то же время, к югу от английских колониальных владений была выделена новая провинция, управлявшаяся также на совершенно иных началах. Гуманистические стремления проявились в Англии особенно рано и, по примеру колонистов Новой Англии и Уильяма Пенна, часто находили себе применение и на американской почве. Сочувствие к томившимся в английских долговых тюрьмах побудило Джемса Эдуарда Огльторпа начать движение в пользу их. Собрав с частной и общественной помощью необходимые средства, они купили у Георга I право на колонизацию страны между реками Саванной и Альтагамой от океана до океана, в течение 21 года. Колония, подобно ее северным соседям, была окрещена именами правящей коронованной особы и получила название Георгии Августы. Она приобрела большое значение для южной Каролины, так как отделяла ее от испанских владений. Взяв на себя защиту границы (сам Огльторн несколько раз выступал в поход против испанцев), она обеспечивала соседним провинциям беспрепятственное и успешное развитие. С индейцами заключены были союзы, и немногие белые колонисты пользовались таким уважением у своих краснокожих соседей, каки мягкий и достойный Огльторп. В первое время провинция развивалась вполне согласно с его намерениями: она служила убежищем для теснимых и преследуемых; терпимость в религиозном и политическом отношениях была одинаковым лозунгом для всех. С течением времени, однако, естественные факторы оказались сильнее человеческой воли. Страна, которая по своим физическим свойствам, подобно Виргинии, чрезвычайно благоприятствовала экономическому развитию, не могла долго оставаться в обладании бедных и обездоленных. Плантаторы захватывали и в Георгии все больше и больше территории, наводняли ее своими рабами и, таким образом, в корне подавляли всякие попытки мелкого хозяйства. Около средины XVIII века Георгия, подобно Виргинии и обеим Каролинам, представляла из себя государство плантаторов и, как таковое, наряду с ними продолжало и дальше свое политическое развитие.
Возникновение и развитие южных штатов Северо-американского союза резко отличается от той картины, которую привыкли считать типичною для английской колонизации в Америке. Решающее значение в ходе развития их имеют географичecкие факторы. Даже там, где колонисты стремились создать поселения, какие мы встречаем в штатах Новой Англии, совершается постепенный переход к системе, впервые достигшей законченности в Виргинии. Большинство этих колоний находилось, по крайней мере, временно под влиянием феодальных условий Старого света. Правда, в большинстве случаев они довольно скоро эмансипировались от этих условий; но аристократический дух, характеризующий феодальное государство с подразделением людей по состоянию и значению, оживает в них в измененной форме. Вместо английских феодальных господ выступает на сцену аристократия крупных землевладельцев, от которых всецело зависит, если не в правовом, то в материальном отношении, не только масса черных рабов, но и большая часть белого населения. Правда, равенство индивидуумов провозглашается как основной принцип права; но факты и слабость правительственной власти, всегда без исключения присущая юным общинам, делают это равенство почти призрачным. В действительности, владельцы плантаций являются неограниченными властелинами в своих владениях и все вместе почти беспрекословно управляют своей провинцией на основании парламентских полномочий, всюду предоставленных колонистам.
Таким образом, южные колонии, по своим воззрениям и требованиям, стоят гораздо ближе к испанским колониям, чем к северным провинциям Новой Англии. Заселение страны часто происходило здесь совершенно в таком же духе, как в португальских колониях, лишь с тою разницей, что в этих последних не существовало общего английским и французским феодальным колониям права раздачи титулов и должностей, которое сообщает южным штатам столь сильный аристократический оттенок; право владения приобретается захватом, как и в испанских, португальских и французских колониях. В южной Каролине обращение с туземцами воспроизводит худшие испанские образцы. Если они держат себя враждебно, их делают рабами; если даже они миролюбивы, то они все-таки не пользуются правами подданных, как в испанских колониях.
Северо-американцы претендуют на то, что предки их обращались самым лучшим образом с туземцами. Испанцы будто бы не только завладели страною, но и самою личностью туземцев и заставляли их работать на себя и платить подати. Французы, хотя и предоставили индейцам личную свободу, но все-таки отняли у них землю исключительно по праву завоевания. Наоборот, англичане (и наряду с ними голландцы), как они заявляют, не посягали ни на свободу индейцев, ни на их право располагать своими землями, приобретая последние путем покупки. Если не вникать в сущность дела, то в некоторых северных штатах Союза, пожалуй, так и было. Мы знаем, что правительство Соединенных Штатов установило принцип, которого придерживалось до наших дней, – покупать у индейцев землю. Но нельзя сказать, чтобы этого держался весь Юг при основании колоний так же, как это не применялось и к большей части Севера.
Без сомнения, короли Испании и Португалии требовали, на основании папской буллы, разделившей между ними неизвестную половину мира, чтобы вся эта земля вместе с ее населением сделалась их собственностью. Если туземцы оказывали сопротивление, то с ними часто обращались очень жестоко, особенно в эпоху конкистадоров и до законодательного регулирования туземного вопроса. В принципе, однако, Испания еще со времен завещания королевы Изабеллы уравняла туземцев своих колониальных владений в правах со своими собственными подданными. Взамен работы, которую они обязаны были производить для государства, им давались защита и закон. Французы не пошли так далеко. Право французского подданства не распространялось на гуронов, на Иллинойс и проч.; впрочем, со времен Шамплэна Франция признавала индейцев своими союзными друзьями, которые, как таковые, имели право на защиту и дружбу своих белых союзников. И этот взгляд французы бесчисленное множество раз проводили на деле, вступая в войну вместе с индейцами или без них против ирокезов, этих заклятых врагов всех индейцев, поддерживавших добрые отношения с французами. Кроме того, испанцы и французы через посредство своих миссий сделали чрезвычайно много для духовного и материального блага предоставленных их попечению туземцев.
В сравнении с этим, миссионерская деятельность англичан в отношении индейцев прямо ничтожна, и притом, за немногими исключениями, относится уже к периоду времени, которого мы пока не имеем в виду. Что касается покупок земли, то в громадном большинстве случаев они не делают чести ни правительству Соединенных Штатов, ни их предкам. В те времена можно было купить у индейца, имевшего смутное представление о договорах, прекрасный кусок земли за горсть пороху и несколько европейских безделушек. Но тогда было еще много простору на обширном материке Северной Америки, и племя, продавшее места своего обитания, могло без особенного труда основать далее к западу новую родину. Но по мере того, как цивилизация следовала за индейцами на запад, территория, остававшаяся в их распоряжении для отыскания новых мест, все более суживалась. Неизбежным последствием такой политики обезземеления в отношении индейцев (и Соединенным Штатам это было не безызвестно) являлись бесконечные кровавые схватки между отдельными племенами; стесняемые все более и более, они вынуждены были истреблять друг друга только для того, чтобы иметь возможность существовать, если им не представлялся случай напасть на соседей за пределами территории Штатов. Начиная с XVII века, во время межколониальной войны, англо-американцы охотно оставались зрителями такого взаимного уничтожения и поощряли его путем продажи оружия и пороха. Ни одна нация не сделала так мало, как англо-американцы, для того, чтобы смягчить природную дикость индейца и приобщить его к культуре. В фарисейском сознании, что они, на основании юридического договора, приобретали собственность индейца, американцы еще в эпоху своих предков систематически изгоняли индейца с его старого пепелища, как мешающего им нищего, не заботясь о том – погибнет ли он затем от голода или от неприятельской стрелы. Если же индеец в отчаянии делал попытку силою вернуть потерянное, то англо-американцы в способах ведения войны лишь немногим уступали беспощадностью испанским завоевателям.
Вся разница в отношениях к туземцам заключалась в том, что перед законом испанца индеец считался братом, француз признавал его другом, а для англичанина он был чужим.
с) Общество Плимут
Одновременно с обществом Виргиния, Иаков I разрешил в 1606 году другую торговую компанию, которая должна была колонизовать земли между 41⁰ и 45⁰ с. ш., и была названа обществом Плимут по местопребыванию своих наиболее влиятельных членов (ср. выше стр. 431). Но деятельность его не шла дальше предварительных изысканий, даже и тогда, когда Иаков в 1620 году заново организовал это общество, предоставил ему страну от 40⁰ до 48⁰ и даровал ему права феодальных владельцев. Хотя в этой области и возникли в то время первые английские колонии, но без всякой связи и даже в противоречии с учредительным обществом, которое в 1638 году окончательно распалось. Деятельность его почти исчерпывается добыванием денег путем продажи заокеанских прав. Первыми настоящими колонистами в этой области были английские беглецы-отщепенцы от церкви. От английской господствующей церкви рано отделились некоторые группы и общины, которым официальная реформация казалась недостаточно радикальной. Число их все более и более росло, и они соединились в новые секты пуритан, сепаратистов и проч., навлекая на себя этим сильное преследование со стороны господствующей церкви. Вначале они спасались от этих преследований, большею частью, в Голландию. Но когда всеобщее внимание было обращено на заокеанские колонизационные предприятия, то и в среде пуритан созрел план отыскать за морем свободное и безопасное убежище для исповедания своей веры.
Посланные их, при поддержке единомыслящих друзей в Англии, добились от общества «Виргиния» права основать поселение по ту сторону океана. Осенью 1620 года корабль «Mayflower» доставил в Америку первых колонистов, которые основали город Новый-Плимут. Несмотря на пуританскую строгость и простоту, эта колония также должна была выдержать тяжелую эпоху борьбы прежде, чем окрепла и начала развиваться. Договор ее с английским Обществом обеспечивал переселенцам почти полную независимость. «Отцы-пилигримы» с самого начала почти исключительно управлялись сами по себе. Но хотя они бежали от английской нетерпимости, это нисколько не мешало им создать в своей среде, по меньшей мере, такой же нетерпимый режим. Всякое уклонение от их пуританской ортодоксии влекло за собою беспощадное изгнание из колоний. В эпоху, когда каждая здоровая рука была желательной для укрепления дела колонизации, они неоднократно изгоняли из своей среды полезных тружеников только потому, что те не желали подчиняться политическому и религиозному ригоризму колониального правительства. Вследствие того, им долго не удавалось добиться от метрополии колониальной привилегии для себя, хотя область, где поселились пуритане, лишь номинально принадлежала Англии, а в 1627 году она и от этого отрешилась.
Лишь после нового аналогичного предприятия были достигнуты более прочные политические условия, благодаря стечению счастливых обстоятельств. В 1628 году Карл I дал Обществу залива Массачусетса привилегию, в силу которой оно приобретало формальное право основывать колониальные поселения. Форма привилегированного общества была избрана лишь для того, чтобы удовлетворить ходячим мнениям; но в сущности, здесь, как и в Новом Плимуте, речь шла об отыскании убежища для «диссентеров», которых жестоко преследовали в Англии. Уже на следующий год последовало изменение организации в том смысле, что правящее общество в Лондоне прекратило свое существование и управление колонией перешло в руки самих колонистов. С тех пор поселенцы сами избирали себе губернатора и его заместителя, а также, в помощь им, совет, в который каждая община избирала двух депутатов. Колония с успехом отстаивала свои права перед обществом «Плимут». Правда, впоследствии Карл I попытался изменить конституцию ее в централистическом смысле, но он пал раньше, чем колонистам понадобилось открытое сопротивление королевской воле для защиты добытых собственными руками привилегий. При Кромвеле все пуританские общины Нового Света пользовались благосклонным покровительством. Только Карл II временно отменил привилегию для колонии Массачусетс, но и ему не удалось победить пассивное сопротивление колонии. Вильгельм Оранский восстановил ее во всех правах. После того она, уже в союзе со всеми американскими колониями, отстаивала свою независимость против новых притязаний правительства.
Религиозная нетерпимость, которая некогда привела пуритан в Новый Плимут и Бостон, продолжала действовать в их собственной среде в том же духе. В 1635 году совет Массачусетса изгнал уважаемого проповедника Роджера Уильямса только за то, что он нападал на частые компромиссы пуританской правоверности с политическими правами колонии и стоял за полную терпимость. Он бежал при содействии индейцев Наррагансета в Род-Айлэнд. К нему стали стекаться массы единомышленников как из соседних колоний, так и из Англии, и он основал новые поселения, политическое устройство которых, по примеру Массачусетса, всецело основывалось на принципе народного избрания; что же касается веры, то она признавалась частным делом, и перед законом все исповедания были равны. Наряду с неверотерпимыми соседними пуританскими колониями, Род-Айлэнду было трудно остаивать свою независимость, тем более, что для него не находилось места в союзе, образованном ими в 1643 году. Уильямсу удалось, однако, получить от Карла I грамоту для своей колонии и этим обеспечить ее от алчности недружелюбных соседей.
Между тем, частью из старых колоний, частью непосредственно из Англии, образовался на побережье Новой Англии целый ряд мелких поселений. Нью-Гэмпшир, основанный некогда английскими купцами под именем Лаконии, настолько ассимилировался с нетерпимым Массачусетсом, что в 1642 году, по собственной инициативе, присоединился к нему. Ковнектикут также представлял чисто пуританскую колонию, которая организовалась по образцу Массачусетса, на вполне демократических началах. За исключением Нового Плимута, эти поселения развились поразительно быстро. С туземцами отношения были хорошие, благодаря вообще мирной политике и заключенному в 1643 году союзу; от правительства метрополии они долгое время не требовали никакой защиты. Смуты английской революции и переменные торжества различных партий настолько отвлекали стоявших у кормила правления, что они охотно предоставляли колонии самим себе и даже с необычайным усердием покровительствовали эмиграции. Не только побежденные искали убежища в независимой атмосфере колоний, но и многие стремились за океан потому, что политические бури, потрясшие родину до основания, исключали всякую возможность спокойного прогресса и успешного развития. Правда, колониальная политика Кромвеля, которая наиболее рельефно воплотилась в так наз. «навигационном акте», отчасти ограничивала свободу торговли колоний; но эти мероприятия соответствовали духу времени и, главным образом, затрагивали лишь торговые сношения с Голландией. От Франции и особенно от Испании колонии чувствовали себя отделенными в силу тех же национальных и религиозных антипатий, как и на родине; чувство солидарности было еще настолько крепко, что ни у кого не возникало и мысли оказывать этим порядкам такое же сопротивление, каким колонии встречали и давали успешный отпор всякому вмешательству в их внутренние дела.
Внутреннее устройство всех этих колоний было совершенно одинаково. Торговля стояла вообще на втором плане: основным принципом жизни общины признавался труд. Силы не тратили ни на поиски благородных металлов, ни на меновую торговлю с туземцами, а тем более на покорение их. Если не удавалось справиться с ними мирным путем, их оттесняли с помощью силы, но лишь настолько, насколько требовалось земли, чтобы обеспечить свое существование при содействии земледелия и скромного возделывания немногих продуктов. Рабство и осязательный труд допускались в такой же мере, как и в южных английских колониях; но для широкого применения их не имелось данных ни в естественных, ни в экономических условиях. Земледелие требовало труда настолько интенсивного, что немыслимо было добиться его от подневольных работников, а климат столь же мало благоприятствовал жизни черных, как и возделыванию произведений, которые свободно произрастали в крупных землевладениях южных колоний. Но так как каждый в отдельности жил плодами собственного труда, то немногочисленные общины нуждались в сравнительно небольшой территории. Поэтому они медленно расширялись вглубь страны и только впоследствии пришли в столкновение с обитателями ее. Но, с другой стороны, они сильнее привязывались к земле, чем колонисты какой бы то ни было другой части Америки. Население их было не только гуще, но, в виду гораздо меньшей примеси посторонних элементов, несравненно однороднее, чем в других колониях. И так как переселенцы явились в Новый Свет почти все с женами и детьми, с твердым намерением остаться там и создать родину для своего потомства, то именно здесь раньше и сильнее всего развилось национальное чувство американцев, чему сильно способствовала и демократическая свобода конституции, возникавших в одной колонии за другою. Это привело уже в 1643 году к сознанию тесной солидарности колоний в отношении не только чужеземцев, но и собственной старой родины.
d) Голландцы
Первые, против кого обратилось пробуждавшееся национальное чувство американцев, были голландцы. Внимание их на береговые страны северной Америки было впервые обращено английскими моряками. В 1609 году Генри Гудсон, по поручению их, открыл реку, которая носит его имя. Хотя в то время о настоящей колонизации еще не было речи, тем не менее, голландские корабли часто заходили в эту реку и в последующие годы и посещали остров Мангатта, расположенный у ее устья, в убеждении, что открытие Гудсона дало им право на этот остров. Эти претензии приняли более серьезный характер, когда Вест-Индская компания, основанная в 1621 году, получила в распоряжение для своей колонизаторской деятельности и область Гудсона. Прошло немного времени, и на острове Мангатта, вместо временных хижин, в которых голландские купцы производили меновую торговлю с индейцами, появились прочные здания. А когда в 1626 году весь остров был куплен у индейцев за 60 голландских гульденов, то в Новом Амстердаме, наряду со многими зданиями, красовалась первая каменная церковь.
Тем не менее, господство голландцев не пустило крепких корней на Гудсоне. Этому было много причин. Прежде всего, Вест-Индская компания здесь, как и везде, преследовала гораздо больше интересы торговли, чем колонизации. Затем, чтобы лучше утилизировать свои владения, она совершила роковую ошибку, учредив феодальные баронства, существование которых являлось тормозом для создания сильного строя колониальных граждан. Наконец, общество было несчастливо в выборе губернаторов. Оно уволило Петра Миннуита, который немало способствовал процветанию Нового Амстердама и, вследствие того, перешел на сторону шведов. Колония этих последних у Делавэра держалась лишь энергией и осторожностью Миннуита; но и присоединение шведской колониальной территории не могло придать голландскому поселению недостающей внутренней жизненной силы. Соседние ново-англичане все больше и больше оспаривали у нее ее территорию и в самых пределах голландской колонии из года в год брал перевес английский элемент. Когда в 1664 году четыре английских корабля появились перед Новым Амстердамом, губернатор, предоставленный Вест-Индской компанией самому себе, был не в силах оказать сопротивление. Еще прежде, чем пролита была хотя капля крови, он сдал неприятелю город и всю территорию Новых Нидерланд. В честь герцога Йоркского (впоследствии Иакова II), главный город был переименован в Нью-Йорк (см. «Карты к истории Америки»). Хотя здесь еще долго чувствовались следы неблагоприятных условий, созданных господством Вест-Индского общества, тем не менее, Нью-Йорк с самого завоевания тесно примкнул к штатам Новой Англии. В 1673 и 1674 г. голландцам еще раз удалось на время овладеть городом, но по Вестминстерскому миру они вынуждены были навсегда отказаться от своих северо-американских владений, которые растворились в английском колониальном царстве.
е) Уильям Пенн
Соседняя Пенсильвания также обязана своим происхождением религиозной нетерпимости, которая свирепствовала против квакеров не только в Англии но, едва ли еще не хуже, и в пуританских штатах Новой Англии. В смысле церковной общины, квакеры, с их устранением всяких внешностей, с их неограниченною любовью к человеку, представляют скорее нечто курьезное: их догматы почти исключительно состоят в отрицаниях. Но в социальном отношении основанный ими штат представляет интересный, хотя и не совсем удачный опыт. Других заставляло относиться к ним особенно враждебно вторжение учений квакеров в сферу политики, выражавшееся в нежелании присягать и поступать на военную службу. В Англии квакерские общины стали появляться с 1655 года. Само собою разумеется, что партия господствующей церкви преследовала их так же беспощадно, как она вообще стремилась изгонять или покорять иначе мыслящих. В числе преследуемых бежали в Новую Англию и квакеры. Но им пришлось с горечью убедиться, что пуритане, вопреки всем прекрасным словам о равенстве и братстве, были к ним еще более нетерпимы, чем приверженцы господствующей церкви. Между тем, как в Англии довольствовались заключением в тюрьму квакеров, отказывавшихся присягать, в Бостоне их провозглашали нарушителями мира и секли, а четырех даже казнили.
Поэтому появление Уильяма Пенна, указавшего возможность основать собственное владение, было для них настоящим избавлением. Как сын английского адмирала, Пенн обладал состоянием и связями. Отец Пенна и многие другие считали его полуневменяемым чудаком за то, что он предпочел присоединиться к бедным и преследуемым квакерам, вместо того, чтобы поступить на службу утопавшего в роскоши двора Карла II. Но, как квакер из высших и лучших кругов, он обратил на себя внимание, без которого секте едва ли удалось бы добиться королевской санкции на основание самостоятельной области. На деньги, которые он отчасти внес сам, отчасти собрал при помощи своих друзей, Пенн купил часть земель, отнятых англичанами у голландцев и подаренных герцогом Йоркским нескольким друзьям, как это часто делалось в расточительную эпоху Карла II. Колония была названа Нью-Джерсеем. Пенн набросал для нее проект конституции на квакерских началах и добился от Карла II санкции, которая и была дана, отчасти из любопытства. Сам он пожелал назвать страну Сильванией, но король присовокупил к этому имя основателя (Пенн-Сильвания). Согласно данной привилегии, Пенн, подобно прежним владельцам пользовался в новой колонии правами феодального господства. Еще прежде, чем он сам имел возможность прибыть в Америку, выселение туда квакеров стало принимать большие размеры. А когда он пожелал в 1683 году лично освятить Филадельфию (т. е., город братской любви), то в нескольких городах и деревнях Нью-Джерсея и собственно в Пенсильвании находилось уже несколько тысяч его единоверцев. Из своих феодальных прав Пенн сделал самое честное употребление. Колония организовалась на тех же демократических началах, как и соседние колонии Новой Англии. Но, тем не менее, несмотря на все противоречие с демократическими принципами квакерства, Пенн не отказался от своих прав и даже стал серьезно домогаться восстановления их, когда Иаков II временно отнял у него эти права. Он умер как «собственник» Пенсильвании, хотя, конечно, это владение не вознаградило его за все траты, понесенные им в интересах улучшения его.
Пенсильвания долго сохраняла квакерский характер, хотя среди быстро возраставшего населения ее квакерский элемент отступал все более и более на задний план. Это обстоятельство действовало благотворно на развитие колонии в двух отношениях. Во-первых, Пенн, следуя принципам своего вероучения, с первых же шагов стремился поддерживать дружественные отношения с туземцами. Правда, и в этом случае у них покупалась земля с целью обработки ее по европейскому способу, но прежние собственники не изгонялись с эгоистическою строгостью, а, наоборот, с ними продолжали поддерживать патриархальную дружбу. И между тем как обитатели соседних колоний вели кровавые и жестокие войны с краснокожими, колонисты Пенсильвании долгое время нисколько не опасались их. И только когда дальнейшее развитие Пенсильвании стало все более и более привлекать другие элементы, которым миролюбивые и братские учения квакеров были не по вкусу, обнаружилось и в Пенсильвании нарушение доброго согласия между краснокожими и белыми. Переселение приверженцев иной веры рано дало себя почувствовать. Всеобщая любовь и терпимость, проповедуемая учением квакеров, делала для них невозможным запрещение селиться в колонии иначе мыслящим. И так как даже в Новом Свете религиозная терпимость была мало распространена в других местах, то естественно, что всякие религиозные секты, теснимые в других колониях, искали убежища в Пенсильвании под охраною квакерской терпимости. Так, по инициативе самого Пенна, переселились сюда первые немецкие эмигранты: кальвинисты из Пфальца, пиетисты и мистики, а позднее многочисленные французские гугеноты. Все это были трудолюбивые и энергичные работники, которые добивались лишь труда, нестесняемого религиозным и политическим гнетом. Они не ошиблись в расчете и, с свой стороны, не мало способствовали тому, что развитие Пенсильвании пошло быстрее и сильнее сравнительно с большинством других колоний. Но, вместе с тем, они мало-по-малу лишили колонию ее исключительно квакерского характера. В конце концов, в провинции вообще сохранилась лишь широкая терпимость, направляемая дружескою рукою, в связи с известным политическим индиферентизмом, который объясняется у одних бесцветностью вероучения и отвращением к мирской суете, а у других – стремлением обходить все, что может нарушить беспрепятственное развитие материального благосостояния.
f) Мерилэнд
Была еще одна колония, соперничавшая с Пенсильванией и, быть может, даже превосходившая ее в деле терпимости, – колония Мерилэнд. Первое разрешение для основания этого поселения дано было еще в 1632 году лорду Балтимору, любимцу Карла I, который настолько разделял его католические симпатии, что перешел в римскую церковь. Но вместо того, чтобы примкнуть к нетерпимости короля, он воспользовался преследованиями, которым сам подвергался из-за веры, в таком смысле, что организовал колонию, дарованную ему дружественным королем, на началах абсолютной свободы вероисповедaний. Мерилэнд – единственная из всех английских колоний, «владелец» которой не принадлежал к протестанской вере, хотя и здесь большинство колонистов признавали различные формы реформированной церкви. Но между тем, как в штатах Новой Англии господствовала самая фанатическая нетерпимость пуритан, в то время, как даже более веротерпимые южные штаты строго изгоняли всех папистов из своей территории, Мерилэнд принципиально открывал свои двери для всех религиозных мнений, и все-таки свободные учреждения колонии от этого нисколько не страдали. Как и в большинстве других колоний, права собственников и здесь отступали все более и более на задний план перед неизбежной самопомощью и самоуправлением поселенцев, которые, по примеру своих соседей, организовались на демократических началах. В Мерилэнде пришлось, быть может, несколько дольше бороться с точкой зрения «собственника», чтобы заставить и его признать эту организацию; но, тем не менее, цель была достигнута. В силу своего географического положения, Мерилэнд развивался в направлении плантаторского штата, но от системы крупного землевладения, как в Виргинии, эту колонию спас обильный прилив скромных элементов, а от ужасов рабовладельчества – миролюбивый дух, витавший над нею при самом основании. С туземцами также существовали дружественные отношения, и Мерилэнд мог служить во всех отношениях примером разумной умеренности и мудрого правления.
g) Возникновение чувства солидарности
Различие происхождения, неодинаковость политического строя и, наконец, пространственная разъединенность долго служили препятствием в северной Америке, как и на испанском юге, к созданию общей истории колоний. В эпоху своего развития, отдельные провинции почти все без исключения, ограничивались узкими береговыми полосами и, несмотря на соседство, все-таки были разъединены лесистыми пространствами. С увеличением народонаселения, контрасты не только не исчезли, а, наоборот, обострились. Соприкосновение границ неоднократно было причиною продолжительных тяжб между отдельными колониями относительно права собственности. В северной Америке общность интересов в истории отдельных поселений точно также ограничивается сношениями с представителями других штатов, которые, правда, были здесь гораздо многочисленнее, чем на испанском юге.
Это обстоятельство, быть может, повлияло на то, что чувство солидарности гораздо сильнее развилось между английскими колониями в сравнении с испанскими. Носителями этой идеи были с самого начала штаты Новой Англии, и они сохранили за собой эту роль до новейшего времени. Мы уже упоминали (стр. 440) о том, как эти штаты соединились в 1643 году, чтобы, с одной стороны, дать отпор внутренним врагам, а с другой, справиться с опасностями, вытекавшими из политических осложнений на родине. Уже в следующем году они пытались убедить южные колонии присоединиться к их союзу. Но это не могло осуществиться вследствие неодинаковости политических и экономических воззрений. И еще долгое время то, что можно бы назвать общей историей английских колоний, сводилось лишь к истории штатов Новой Англии, тогда как южные колонии безучастно оставались в стороне. Завоевание Нового Амстердама и вытиснение голландцев было, конечно, прежде всего делом англичан метрополии. Последствием этого было не расширение колоний Новой Англии, но основание ряда новых штатов, которые, однако, в силу своего дальнейшего развития сами собою примкнули к ним. С того момента, как все атлантическое побережье от Мэна до Георгии, не прерываясь чужими владениями, очутилось в английских руках, чувство вселенной связи оказало свое действие. В данном случае этого пожелало само правительство. Как Карл II, так и Иаков II сделали попытку устранить разнообразие колониальных условий и соединить их под одною центральною властью. Благодаря, однако, пассивному сопротивлению колонистов, дело не подвинулось далее первых шагов, когда революция 1688 года смела Стюартов с их централистическими стремлениями, а Вильгельм и Мария снова подтвердили прежние конституции колоний.
h) Борьба с французскими колонистами
В эту эпоху начало все сильнее и сильнее обнаруживаться соперничество между английскими и французскими колонистами. Если это не случалось раньше, то, главным образом, благодаря различию экономических условий в колониях. Английские поселения существовали почти исключительно сельским хозяйством, и население их не настолько возросло, чтобы плодородная земля между побережьем и Аллеганскими горами не могла удовлетворять его в изобилии. У них не было, следовательно, особого интереса углубляться внутрь страны, и, действительно, ими сделано сравнительно мало для исследования ее. Наоборот, французские поселения, которые почти исключительно жили торговлею мехами, нуждались для поддержания своего существования в обширной внутренней стране, которая всецело находилась бы в сфере их влияния. Всякое оживление в собственных колониях, всякое усиление интенсивности торговых оборотов заметно увеличивало потребность в территориальном расширении. Эта необходимость заставила их пройти весь материк от устьев р. св. Лаврентия до дельты Миссисипи.
Первыми противниками их на этом пути были голландцы Нового Амстердама. Они также были скорее торговцами, чем земледельцами, и интересы их тем более сталкивались с интересами французов, что колонии их находились на недалеком расстоянии от последних и не были разделены никакими естественными преградами. Торговля мехами заключалась, главным образом, в меновой торговле с туземными охотничьими племенами. Поэтому торговая конкуренция необходимо повлекла за собою соперничество в заискивании дружбы индейцев. И так как при Шамплэне случай сделал французов союзниками гуронов, то голландцы естественно примкнули к их противникам, ирокезам. Благодаря тому, что голландцы снабжали ирокезов военным материалом гораздо щедрее и обильнее, чем это делали французы, по политическим соображениям, в отношении своих друзей, то ирокезы сделались не только страшными для всех индейцев, живших на пространстве между озерами, Аллеганскими горами и Миссисипи, но представляли постоянную опасность даже для европейских поселений, не находившихся в дружбе с союзом ирокезов. С завоеванием Нового Амстердама англичане в одно и тоже время приняли на себя наследство этой дружбы и вражды; голландский торговый дух надолго остался особенностью Нью-Йоркской колонии. Поэтому англичане вскоре стали относиться столь же враждебно к французам, как и голландцы, и даже еще враждебнее, чем незначительная голландская колония. Первоначально борьба происходила только на меркантильной почве. По инициативе двух французов, недовольных правительством Канады и поступивших на английскую службу, было основано в 1670 году общество Гудзонова залива, которое в течение известного времени было опасным соперником французской маховой торговли до Сагенея. Но пограничная война, которая долго велась в ничтожном масштабе, разлилась широко, когда Англия и Франция, столкнувшись в Европе, перенесли военные действия и в колонии.
В промежуток времени от 1688 до 1763 было не менее пяти подобных колониальных войн. Обыкновенно дело начиналось с того, что французы вместе с своими индейскими союзниками пробирались чрез лесистые болота к югу от реки св. Лаврентия к пограничным деревням английских колонистов. Здесь им не трудно было одерживать победы над беззащитными и жившими в одиночку фермерами, над которыми индейцы творили недостойную кровавую расправу. Ново-англичане пробовали отвечать тем, что нападали на французские миссии и торговые стоянки, но они не могли приносить такого же вреда своим врагам, которые не были столь беззащитны, не говоря уже о том, что самые объекты нападения по ценности не могли равняться плантациям ново-англичан. Кроме того, трудно было побудить к совместному энергическому действию различно мысливших руководителей провинций, составлявших союз ново-английских штатов. Колония Массачусетс, благодаря тому, что столица ее, Бостон, была резиденцией ново-английского союзного собрания, приобрела как бы гегемонию. Но она выражалась лишь в том, что иногда эта колония брала на себя инициативу там, где не была уверена в согласии союзных колоний, и не встречала поддержки с их стороны; но действительным авторитетом она не пользовалась ни сама по себе, ни как представительница союзного собрания. С другой стороны, Бостон все более и более становился пунктом, где собирались посылаемые из Англии боевые силы для разрешения колониальных распрей и ставились на боевую ногу.
Для англичан не было, конечно, выгодным дробить свои военные силы в мелких стычках с лесными колонистами, к которым войско их не было подготовлено и которые даже при самом благоприятном исходе не приводили ни к какому решению. Им выгоднее было найти такой объект для нападения, где мог бы принимать участие военный флот, и без того служивший для перевозки войск. Подобным пунктом являлся полуостров, расположенный между рекою св. Лаврентия и северной границей ново-английских штатов; французы называли его Акадией, англичане – Новой Шотландией. Он был заселен в начале ХVII века французами, однако, уже спустя несколько десятков лет, не только вошел в состав территории, дарованной сэру Уильяму Александру, но, вместе с тем, в первый раз был фактически занят англичанами. Тем не менее, мирный договор, возвращавший французам завоеванный в то же время Квебек, вернул им и обладание Акадией, где, после продолжительного периода внутренних смут, возник, наконец, ряд цветущих поселений; самым значительным из них был Пор-Рояль, главный город колониальной провинции. Однако, ново-англичане не переставали зорко следить за этой страною и ждали лишь удобного случая, чтобы попытаться вновь завоевать ее. В 1654 году английский флот, отправленный для покорения Нового Амстердама, но осужденный на бездействие вследствие быстрого заключения мирного договора, очутился неожиданно перед Акадией и без особого труда покорил ее. Лишь с восшествием на престол Карла II, в 1667 году, полуостров был возвращен французам.
Во время войны за испанское наследство полуостров Акадия был в третий раз занят англичанами и фактически уступлен им по Утрехтскому миру. Французы отступили после того к Кап-Бретон-Айлэнду и соорудили там форт Луисбург. Эта крепость приобрела такое значение, что ново-англичане назвали ее северным Дюнкирхеном: подобно последнему, она сделалась исходным пунктом постоянного пиратства и набегов, а господствующее положение ее служило вечной угрозой для открытого побережья Новой Англии. В виду того, когда в 1743 году вновь вспыхнула война, союзное собрание в Бостоне с радостью ухватилось за случай, дававший возможность завоевать этот пункт. Английские пленные, бежавшие оттуда, рассказали, что там важные посты плохо защищены и еще хуже снабжены провиантом, и что, кроме того, множество находившихся там пленных обещали в решительную минуту перейти на сторону нападающих. В апреле 1745 года было отправлено небольшое войско для покорения Луисбурга, которое, несмотря на свое численное превосходство, все-таки едва ли могло сравниться в отношении военных качеств с французским гарнизоном. Но целый ряд счастливых обстоятельств настолько помог ему, что французы отчаялись в возможности удержать за собою крепость и поэтому вступили в переговоры и капитулировали, выговорив себе право свободного отступления. Когда на следующий год французы попытались отбить крепость обратно, случай во второй раз оказался на стороне англичан. Флот, предназначенный для этой цели, сильно пострадав от бури, попал в руки англичан. Тем не менее, война еще раз окончилась без всяких выгод для колонии. Во время мирных переговоров в Ахене, английское правительство возвратило французам крепость, приобретенную деньгами и кровью колонистов, взамен вознаграждения, которое ему самому казалось очень важным, но колонистами не было ни понято, ни оценено.
Война против французов, поскольку в ней вообще участвовали колонии, была до тех пор ведена исключительно ново-английскими поселениями. Южные штаты относились совершенно безучастно к борьбе их северных соплеменников, и никакие призывы к национальному чувству не в состоянии были пробудить их из апатического покоя. Даже сознание, что поступательное движение французов в долинах Огайо и его притоков грозит совершенно отрезать от них внутреннюю страну, расположенную по ту сторону Аллеганских гор, едва ли в состоянии было бы подвигнуть их к деятельности. И только возраставшая враждебность и дерзость соседних индейских племен, находившаяся в связи с приближением французского влияния, заставила их подумать о собственных интересах. Англичане, впрочем, никогда не умели долго сохранять дружественные отношения с туземцами. Далее на крайнем севере, где голландцы завещали им ценную дружбу с могущественным союзом ирокезов, им не удалось надолго сохранить приверженность этих страшных воинов. Французы, пользуясь перемирием, умели добиться мирных договоров с этими злейшими из своих врагов, и, в последней решительной битве достигли, по крайней мере, того, что ирокезы уже не все сражались на стороне англичан. Накануне окончательного поражения, которое навсегда уничтожило их колониальное царство, они не могли, конечно, воспользоваться этими постепенными успехами в расположении к ним туземцев. Но англичане еще долго после эпохи войны за независимость тяжело ощущали эту вражду к ним индейцев, которую систематически сеяли французы.
Ахенский мир 1748 года оставил в колониях еще больше материала для брожения, нежели в Европе, и дело дошло до открытого столкновения еще раньше, чем в Европе возобновились враждебные отношения. В области истоков Огайо английские колонисты столкнулись с французскими отрядами, и опасность показалась англичанам настолько серьезною, что они выслали своих милиционеров на помощь скваттерам. В 1754 году в дело вмешалось и союзное собрание. Пенсильвания и Виргиния, которым также грозила опасность со стороны французов, приглашены были к обсуждению вопроса о том, какими средствами можно было бы устранить ее. Правительства Англии и Франции, в свою очередь, признавали положение дел в Америке серьезным. И хотя они избегали дипломатических объяснений, но втихомолку оба готовились возобновить борьбу за колониальные границы. Но так как оба подозрительно наблюдали друг за другом, то для французов не было тайною, что англичане отправляли войска в Виргинию, а для англичан, что французы усиливали гарнизоны в своих канадских укреплениях. Случай дал толчок к началу враждебных действий. Английские корабли встретили на мелях Ньюфаундлэнда два французских транспортных судна, во время тумана отставших от своего флота, и захватили их. На это канадцы ответили угрозами и репрессалиями, и борьба в Америке, таким образом, снова вспыхнула без объявления войны. На море с самого начала победа была решительно на стороне англичан; но на суше в первые годы войны превосходство оказалось безусловно на стороне французов, хотя на этот раз английское правительство не полагалось на союзное собрание Новой Англии, а с первой минуты вело войну по определенному плану. Решено было сразу напасть на важнейшие опорные пункты французских владений, разрушить и завоевать их. Однако выполнить эту задачу было нелегко, имея неспособных предводителей во главе, при отсутствии путей сообщения и этапов. Совершить поход в лесистых странах Аллеганских гор или по болотам области озера Шамплэна, было не то, что вести войну на полях битв Старого Света. Генерал Старой Англии должен был обладать необычайным талантом, чтобы ориентироваться в этих совершенно измененных условиях. Этим объясняется, почему первые действия против французских портов в долине Огайо и в области озера Шамплэн были или вовсе неудачны, или привели лишь к ничтожным и временным успехам.
Во всяком случае, война в лесах не могла привести к решительному результату. Она имела лишь целью подготовить, главным образом, нападение на пункты, служившие ключом к французским колониальным владениям: на форт Ниагару, который господствовал над сообщением между Канадой и Луизианой, на Монреаль, заграждавший верховья реки св. Лаврентия и путь к Гуронскому озеру, и на Квебек, сердце французской колонии и ворота к сношениям с метрополией. В первые три года англичане терпели почти одни только поражения, и только в 1758 году они несколько приблизились к осуществлению планов своего похода. Форт Луисбург, который они так легкомысленно вернули французам в 1748 году, был вторично взят Амгерстом и Вольфом после 7-недельной осады. Затем в руки англичан перешел ключ к крепости Монреаля, форт Фронтенак, расположенный у выхода реки св. Лаврентия из озера Эри. Захват этого форта чрезвычайно затруднил сношение с укреплениями в долинах Огайо и Миссисипи. Но французское оружие все еще имело перевес в области истоков Гудзона, где границы штатов Новой Англии были наиболее уязвимы. Лишь на следующий год англичане пожали лавры и на этом театре военных действий. При Тикондероге у озера Шамплэна Амгерст одержал новую победу, которая заставила французов уступить фланг Монреаля. Одновременно с этим занятие фортов Ниагары и Кревкер совершенно отрезало от сообщения с Канадою область к югу от больших озер. Таким образом, к следующему году было обеспечено осуществление плана концентрического нападения, составленного английским правительством.
Когда достигнуты были эти результаты, время года не позволяло уже предпринять что-либо серьезное для окончательного покорения Канады. Тем не менее, в самые последние недели перед установлением суровой канадской зимы случилось событие, которое имело решающее значение для судьбы страны. С половины июля 1759 года перед Квебеком находились английские военные силы под предводительством генерала Вольфа. Они выступили в сопровождении большого флота с целью проникнуть со стороны низовьев реки св. Лаврентия к центру Новой Франции, по возможности, овладеть Квебеком. В течение многих недель битвы под самой столицей шли с переменным успехом, и ни одной из сражающихся сторон не удавалось достигнуть решительного результата. Англичане бомбардировали ниже лежащие части города Квебека и затрудняли снабжение провиантом его и войска, сосредоточенного к востоку от него в укрепленном лагере под предводительством генерала Монкальма. Англичане не могли стать твердой ногой на северном берегу реки, а французам не удавалось вытеснить их с южного берега. Приближение зимы наполняло французов радостной надеждой, что близко время, когда наступит конец их лишениям и страданиям. Но в то же время английский генерал пришел к убеждению, что необходимо решить дело теперь же или отступить, что было бы равносильно, по своим последствиям, тяжелому поражению. Так как у французов стояло еще на реке, выше Квебека, несколько кораблей, и северный берег ее к западу от города был почти недоступен, то нападение и защита сосредоточились на полях непосредственно ниже Квебека. Тогда англичане построили последний план на том, чтобы получить возможность пристать выше города, занять возвышенность, на восточной оконечности которой, образуемой рекою св. Лаврентия и рекою Шарля, расположен город Квебек, и, таким образом, занять позицию, господствующую над французской армией. Движение войск по южному берегу в западном направлении не могло ускользнуть от генерала Монкальма. Опасения его еще более усилились, когда часть английского флота форсировала проходы под выстрелами из пушек Квебека и стала на якоре в нескольких милях выше города. Тогда он отправил часть своих войск вверх по реке; но они должны были остановиться, так как северный берег вблизи города считался недоступным, а флот ушел далеко вверх на значительное расстояние от города. На этом Вольф основал свой план нападения. Он открыл место, приблизительно на середине между городом и западным крылом французов, где подъем казался ему осуществимым. В ночь с 12 на 13 сентября он заставил избранный отряд с флота пробраться вниз по реке на лодках. Так как французы часто получали ночные транспорты провианта по воде из Монреаля, то ему удалось обмануть первые посты. Когда французы узнали свою ошибку, десантный отряд англичан был уже настолько значителен, что мог отбросить неприятельские пикеты и врезаться клином между западным крылом и главной армией французов. К несчастью, командовавший крылом все еще не понимал значения английской атаки; он полагал, что это одна из обычных стычек и оставался бездеятельным.
Таким образом, Вольфу удалось сосредоточить свои войска на возвышенности Авраама. У них оставалось еще несколько часов для отдыха и приготовления к битве прежде, чем Монкальм подошел из лагеря, лежавшего ниже города, и открыл сражение. Несмотря на удавшееся нападение врасплох, положение англичан все еще было чрезвычайно опасно. Правда, французские войска были не достаточно обучены и при том дезорганизованы вследствие продолжительных лишений; но на их стороне имелось значительное превосходство силы, и, даже в случае поражения, им представлялась возможность отступления и сосредоточения отрядов под стенами города. Для англичан, наоборот, поражение было бы равносильно не только уничтожению лучших войск, избранных для десанта, но, вместе с тем, потере всех вообще результатов победы и, быть может, даже всего флота и остатков операционных войск. Вольф сумел разъяснить это не только подвластным ему начальникам, но почти каждому солдату в отдельности. Он отдал приказ ждать врага в лежачем положении и позволить подойти на столько близко, чтобы каждый был уверен в своем выстреле. И только тогда, когда залпы на самом близком расстоянии произведут смятение в колоннах атакующих французов, англичане должны ударить в штыки. Для Монкальма не оставалось выбора: он должен был наступать, так как с каждым часом могли прибыть новые войска к англичанам и чаша весов склониться не в его пользу. Однако, его милиционеры, подкрепляемые лишь небольшим числом регулярных войск, не в силах были выдержать разрушительного огня английских фузильеров. Сражение длилось лишь несколько минут, после чего французы обратились в бегство и достигли с большими потерями лагеря по ту сторону реки С. Шарль. Генерал Монкальм и большая часть французских высших офицеров пали или были тяжело ранены.
Квебек был оставлен на произвол судьбы; расстроенные остатки войска отступили к Монреалю, и туда же стянулось западное крыло, неучаствовавшее в сражении. Но и английский вождь не пережил своей победы. Когда генерал Вольф, во главе одного из английских полков, бросился на колеблющиеся колонны неприятеля, в него попал ряд выстрелов, которые выбили его из строя. Он умер еще до окончания битвы; но все-таки, умирая, он слышал восторженные клики своих соотечественников. Тем не менее, англичане не могли продолжать победоносного движения. Они были слишком слабы и плохо обеспечены со стороны сообщений для того, чтобы рискнуть слишком удаляться от флота. Несмотря однако на то, что остатки французского войска могли беспрепятственно отступить к Монреалю, победный приз, Квебек, достался англичанам без дальнейшего кровопролития. Измученный голодом, наполовину испепеленный город капитулировал спустя несколько дней. С падением главного города судьба страны была решена.
Впрочем, еще до полного наступления зимы, Квебеку пришлось отбить нападение французов, а на следующий год даже выдержать опасную, хотя и непродолжительную осаду. Но вырвать его у англичан французы уже не могли. Наоборот, с наступлением благоприятного времени года, англичане приступили к взятию последней твердыни, над которою еще развевались французские лилии. Совершенно отрезанный от сообщения с родиною и теснимый двумя, численно превосходными английскими отрядами, которые почти одновременно появились в виду города, оперируя выше и ниже по р. св. Лаврентия, Монреаль не был в состоянии оказать серьезное сопротивление. Губернатор сдал город без боя, чтоб избежать бесполезного кровопролития. Быть может, он надеялся, что дипломатические переговоры и события на других театрах военных действий еще раз вернут Франции то, чего она не могла отстоять силою оружия. Но роль Франции в Америке была сыграна. По парижскому миру, Людовик XV навсегда отказался в пользу Англии от канадских владений и признал Миссисипи границею между Луизианою и английскими владениями.
Франция не могла, однако, удержать и Луизиану. Испания в течение ряда лет с унынием и бездеятельно глядела на мировой пожар, в котором развернулись страсти всех европейских держав. Наконец, 15 августа 1761 года Карл III заключил с Людовиком XV знаменитый бурбонский семейный договор, в силу которого Испания, все еще жившая воспоминаниями о своем гордом прошлом, окончательно утратила положение в концерте европейских государств. Враждебные отношения, вспыхнувшие вследствие этого между Англией и Испанией, обнаружились раньше всего на Антильских островах. Британский флот овладел городом Гаваною и покорил почти весь остров Кубу. На флоридской границе не происходило серьезных действий; но, после завоевания соседней Кубы, слабые испанские гарнизоны Сан-Агустина и Пенсаколы были взяты почти без боя. Во время мирных переговоров Англия была готова возвратить испанцам Кубу с тем, чтобы ими была очищена и уступлена Флорида. Карл III, покинутый Францией, был рад уже тому, что получил западную Луизиану взамен того, что он вынужден был уступить англичанам к востоку от Миссисипи.
По парижскому миру, французское господство исчезло из пределов северной Америки, которая была разделена между Англией и Испанией. Миссисипи, великая река, исследование которой почти всецело было делом французов, сделалась на будущее время границею между обеими нациями, принявшими французское наследство.
7. Войны Севера за независимость
А. Очерк событий, предшествовавших отпадению
Отпадение Соединенных Штатов от Англии в самых различных отношениях тесно связано с завершением войны, которая подчинила всю северную Америку до Миссисипи английскому скипетру. Правовое положение старых колоний по отношению к метрополии было такое же, как и в испанских колониях: они являлись не столько составною частью анлийского государства, сколько исключительно коронными владениями. Для Англии это обстоятельство имело совершенно особое последствие: важные ограничения, которые парламент постепенно накладывал на абсолютную власть монарха в метрополии не распространялись на колонии. Каждый раз, когда английский парламент пытался вмешиваться в дела колоний, ему разрешалось касаться лишь внешней торговли и говорить от имени колоний, отстаивая их интересы в сношениях с чужими нациями. Но в делах внутреннего управления каждая отдельная провинция требовала, чтобы посредником между монархом и ее подданными являлось, вместо парламента, ее собственное законодательное собрание. В особенности они стояли на том, чтобы право утверждения налогов и расходов принадлежало исключительно этим провинциальным собраниям. Старые провинции, в которых население состояло, главным образом, из англичан, которые бежали от религиозной нетерпимости на родине, и жизнь и благосостояние которых создались собственными силами, почти без всякого содействия центральной власти, смотрели на это, как на свое историческое право. Отменить это право было нелегко, хотя оно и не вполне согласовалось с развитием взглядов на задачи государственной власти.
Но какова должна была быть организация тех обширных территорий, которые, находясь в соседстве со старыми колониальными провинциями и отчасти в совершенно аналогичных естественных условиях, попали теперь в руки англичан в силу Парижского мира? Война велась не королем, но английским правительством, министерством и парламентом, и именно эти факторы заключили выгодный мирный договор. Правда, колонии сами принимали участие в войне, и некоторые провинции, как, напр., Массачусетс действовали также по собственной инициативе и посылали военные силы. Но в той мере, в какой в этом участвовало английское правительство, расходы покрывало оно, а не колониальное правительство. После заключения мира, Массачусетс частью получил, частью должен был получить значительные суммы от Англии за свое деятельное участие в победе над французами.
Не подлежало никакому сомнению, что подчинение соседних французских колоний английской власти косвенным образом должно было доставить весьма существенные выгоды старейшим английским колониальным провинциям; но было ясно, что метрополия нисколько не будет расположена предоставить им вновь завоеванную страну. Против того, что английское правительство образовало из Канады и Флориды ряд новых колониальных провинций, высшая власть над которыми принадлежала уже не королю, а министерству и парламенту, воплощавшим в себе английское государство, едва ли кто в старых колониях мог возражать, но относительно области, которая находилась между Аллеганскими горами и Миссисипи, столкновение интересов приняло более серьезный характер. Колонии никогда не признавали французских притязаний на эти области и иногда даже весьма серьезно оспаривали их. Объявив теперь водораздел на Аллеганских горах границею старых колоний и присвоив себе всю территорию к западу от нее до Миссисипи, правительство создало поводы к разногласию. В первое время последствия этого не чувствовались, пока ни английское, ни колониальное правительства не могли вытеснить французских гарнизонов из фортов, выдвинутых к Аллеганской границе и, следовательно, вступить фактически во владение спорною областью.
Вначале плантаторы и скваттеры Виргинии и Пенсильвании мало интересовались тем, как государство провело границы колониальных территорий. Так как держава, до сих пор тормозившая поступательное движение их в плодородные пространства долины Огайо, уступила все свои права и притязания Англии, гражданами которой они считали и себя, то они охотно вступили в обладание землями, создавали на них новые очаги на границах цивилизаций с бо́льшим или меньшим соблюдением правовых форм и мало интересовались вопросом, кому они будут подчинены на этой новой земле – английскому парламенту или колониальному собранию своей провинции. После заключения мира началось сильное переселенческое движение на запад, и непосредственным последствием его была новая война с индейцами.
Перемена политического положения в северной Америке, созданная Парижским миром, была особенно невыгодна для индейцев. При господстве французов, они чувствовали себя хорошо в двояком отношении, так как французские колонии, в которых обработка земли играла совершенно побочную роль, нуждались в них, с одной стороны, для обмена съестных припасов и предметов торговли, а с другой, для того, чтобы, при содействии туземцев, бороться с преобладающей конкуренцией английских поселений. Французы не только не теснили их, но часто брали под свое покровительство и позволяли им селиться в непосредственном соседстве французских пограничных фортов. Наоборот, английские поселенцы, проникшие теперь в эту область, обнаружили все бессердечие англиканской расы в отношении индейцев. И столкновение, которое вскоре вспыхнуло, было, во всяком случае, вызвано скорее колонистами, чем туземцами. Конечно, и последние были не совсем правы. В течение ряда поколений у них сложилось представление о безграничном могуществе их отца-покровителя, отдаленного французского короля. Возможно даже, что среди канадских поселенцев и французских меховых торговцев, имевших самые тесные сношения с индейцами, были и такие, которые искренно верили, что настоящее состояние только временное. По крайней мере, индейцам часто внушали уверенность, что великий король только уснул, и когда он проснется, то наверное вспомнит о своих детях в дальней пустыне и освободит их от тяжелого гнета чужеземцев.
Брожение, широко распространившееся при таких условиях, приняло характер, грозный для англичан, когда один решительный и проницательный предводитель индейцев сделал попытку воспользоваться положением вещей и вызвать всеобщее восстание среди своих соплеменников, которое дало бы ему громкую славу и власть. Предводитель оттавов, по имени Понтиак, играл во время французского господства известную роль, как представитель сильного племени. После поражения французов он также заключил мир с англичанами. Когда расчеты его на прежнее уважение и почет оказались обманутыми, он решился отомстить англичанам. При помощи гонцов, он сумел склонить к заговору против англичан индейские племена запада от озер до Миссисипи. Было условлено, что он лично подаст сигнал ко всеобщему восстанию внезапным нападением на форт Детруа между озерами Гуроном и Эри. После этого индейцы, действительно, взяли штурмом ряд английских постов, разрушение которых сопровождалось обычными жестокостями. Но атака самого Понтиака не удалась, и он в течение месяцев осаждал форт Детруа без результата, что парализовало движение. Восстание совершенно стихло, когда английский отряд, выступивший для освобождения форта Эри в Пенсильвании, также осажденного, одержал решительную победу над индейцами при Буши-Рене. На следующий год Понтиак обратился далее на запад и постарался возбудить к борьбе туземцев Иллинойса и Миссисипи. Насколько он был опасным противником, доказывают его усилия возбудить против англичан французские гарнизоны, которые во многих местах еще не были удалены. Когда и это не удалось, и английские войска снова преследовали его по пятам, Понтиак отказался от своих военных планов, как это сделали уже раньше большинство начальников, участвовавших в заговоре.
Война с индейцами показала, как важно было для колоний обеспечение запада. Но, по расчетам, для этого требовалось содержать в северо-американских колониях около 20 тысяч войска. Обязана ли была Англия приносить такую жертву и содержать такую армию, которая, в сущности, была нужна одним колониям? Неудивительно, что колониальные собрания считали это естественным; но даже в английском парламенте значительная партия высказалась в том же смысле. Она рассуждала так: для того, чтобы правильно взвесить отношение между жертвами, которых требовали колонии от метрополии, и выгодами, которые они доставляли ей, необходимо принять во внимание не только доход с пошлин, налагаемых на торговлю между Англией и Америкой, но и то обстоятельство, что вся английская промышленность обязана своим цветущим состоянием исключительно колониям. При помощи запретительных мер, в колониях было подавлено развитие всех отраслей промышленности, которые могли серьезно конкурировать с метрополией. Вследствие того, колонии были вынуждены постоянно получать материи для платья, шляпы, машины по сравнительно высоким ценам из Англии, хотя они могли прекрасно сами изготовлять эти предметы или, по крайней мере, получать их гораздо дешевле при условии свободной торговли. С другой стороны, колонии должны были продавать свои продукты исключительно в Англию, что значительно понижало цены их сравнительно с господствовавшими на международном рынке. Возможность дешево получать сырые продукты из колоний облегчала Англии конкуренцию с промышленностью других стран и доставляла ей громадные выгоды. В виду такого положения вещей, было бы несправедливо налагать на колонии бремя, которое выпало на долю государства отнюдь не по вине колоний. Правительство метрополии ничего не сделало для колоний, которые собственными силами стали на твердую ногу, и, наоборот, не мало содействовали цветущему положению Англии.
Так высказывались выдающиеся государственные люди Англии, и это обстоятельство, конечно, сильно способствовало тому, что колонии упорнее отстаивали свои взгляды. В парламенте партия вигов неоднократно грозила противникам перспективою, что их меры могут лишь популяризировать в колониях мысль об отделении от Англии. Тем не менее, агитация, в которой виги столько же защищали интересы своей партии, сколько интересы колоний, значительно способствовала тому, чтобы получился результат, который оппозиция думала предупредить. Наконец, противная конституции форма, в которой различные министерства Георга III вели борьбу против колоний, вызывала сильный отпор со стороны последних. Но все-таки это сопротивление не сделалось бы стойким и всеобщим, если бы борьба в парламенте не убедила американцев, что в самой Англии есть могущественная партия, которая разделяет их взгляды и признает за ними право защищать свои требования с оружием в руках. Провозглашение независимости Соединенных Штатов было вызвано в несравненно большей мере борьбою за интересы, чем борьбою за право.
Разногласия между отдельными колониями и лондонским правительством обнаружились еще во время войны с Францией и повели к тому, что провинции, наиболее заинтересованные в этом, отправили посредников в резиденцию правительства. Так Вениамин Франклин прибыл в Лондон от имени Пенсильванского собрания, главным образом, с целью искать защиты парламента против злоупотреблений короны; точно также ко двору прибыли агенты Массачусетса и Коннектикута. Они были свидетелями того, как подготовлялась борьба за государственную власть между короною и парламентом, и как обе партии ждали только заключения мира, чтобы ввести, каждая с своей точки зрения, более строгое управление в колониях. Благодаря отсутствию выработанных правил в прошлом и особенным условиям, созданным межколониальными войнами, быстро следовавшими одна за другой, законы о мореходстве и торговых сношениях с внеанглийскими областями были в пренебрежении. Колонии извлекали значительные выгоды из незаконной торговли с испанскими поселениями, и Англия при этом несла чувствительные потери, вследствие недобора пошлин. Это был первый пункт, в который новое правительство решило вмешаться. Мероприятия с целью ограничения торговли колоний и с колониями были вновь усилены, и у всех важных пунктов берега поставлены таможенные стационеры с предоставлением им права задерживать и обыскивать всякое подозрительное судно. Чиновникам колоний было предписано во всех отношениях помогать таможенному дозору, где бы ни представлялась в этом надобность. Аналогичный приказ был отдан войску, расположенному в различных городах побережья. В то же время на службу таможенного управления были привлечены военные суда, которым обещаны значительные вознаграждения. Ни одна из колоний не была в такой мере заинтересована в торговле вообще и в незаконной торговле в особенности, как Массачусетс. Здесь оппозиция впервые подняла голову, чтобы грозно протестовать против нарушения интересов провинции и прав ее граждан. До этого момента мероприятия правительства, хотя и были стеснительны и неудобны, но в сущности не заключали в себе ничего противозаконного. Если бы правительство на этом остановилось, то бостонские купцы, главные зачинщики протестов, едва ли встретили бы поддержку в других колониях. Но дело в том, что восстановление старых запретительных законов являлось лишь прелюдией того, что правительство замышляло против колоний.
Война с Францией наложила на Англию тяжелое бремя долгов. А правительству приходилось, кроме того, вернуть колониям значительные суммы за военные издержки и принять на себя содержание армии. Эта последняя, конечно, была прежде всего настоятельно необходима для поддержания авторитета самого правительства, но главное официальное назначение ее объяснялось необходимостью защиты колоний. Министерство было того мнения, что вовлечение заокеанских провинций в расходы на покрытие этих потребностей будет лишь делом справедливости. Для достижения этой цели представлялись различные пути. Самым правильным было бы, конечно, если бы правительство покрыло расходы на дело завоевания из доставшейся ему добычи, провинций Канады, Луизианы и Флориды. В этих областях приходилось и еще необходимо было создавать государственное управление. В том, что дела их подлежали ведению парламента, не могло быть сомнения. Но подобный акт повлек бы за собою необходимость перемены правового положения и в старых колониях, а правительство именно этого и желало избежать. К тому же экономическое развитие названных стран еще стояло на такой низкой ступени, что потребовалось бы много времени прежде, чем они были бы в состоянии удовлетворять финансовым требованиям. Другое средство было бы осуществимо в том случае, если бы правительство могло решиться вступить в переговоры с каждой колониальной провинцией в отдельности относительно причитающейся на ее долю суммы. Каждый раз, когда правительство обращалось с таким запросом к одному из колониальных собраний, последнее охотно шло на встречу и часто ассигновывало даже больше, чем требовалось. Но этот путь ставил правительство в противоречие с его собственной программою: он как бы косвенно признавал за колониями право санкционировать лишь те расходы, которые будут утверждены представительными органами их. Таким образом, оставалось лишь два пути: повысить внешние пошлины, установление которых колонии всегда считали задачей метрополии, и притом на столько, чтобы они покрывали расходы, или же добиться от парламента введения новых налогов и затем навязать их колониям.
Этот последний выход казался правительству наиболее желательным, так как, в действительности, цели его не ограничивались ближайшей задачей выпутаться из временных финансовых затруднений при содействии колоний. У него был более широкий план: поставить колонии в более строгую и непосредственную зависимость от метрополии так, чтобы, в конце концов, можно было совсем устранить конституции отдельных провинций и ввести общую для всех колоний централистическую организацию. Министерство, к которому принадлежали граф Гренвиль, как глава, и Ричард Джэксон, как канцлер казначейства, внесло в феврале 1765 года в английский парламент предложение распространить гербовый сбор на колонии, и этим путем создать средства на содержание колониальной армии и уплату жалованья правительственным чиновникам в колониях. Метрополия избавилась бы, таким образом, от расходов на армию, а чиновники, не получая более жалованья от колониальных собраний, почувствовали бы себя совершенно независимыми и могли бы решительнее поддерживать энергическую политику правительства. Этот план возник и был рассмотрен еще в 1754 году, но был взят обратно в виду единодушного отпора колоний. На этот раз предложение, после коротких дебатов, прошло в нижней палате подавляющим большинством, а вслед за тем было принято без возражений палатою лордов. 1 ноября 1765 года гербовый налог должен был вступить в силу в колониях.
Еще раньше, чем сделалось известным постановление парламента, приняты были меры против возможных случайностей. Еще раньше правительство поручило командующему английскими войсками в Бостоне потребовать от провинции средств на содержание военных сил. Это обстоятельство дало толчок к первым революционным движениям в Массачусетсе, торговля которого сильно страдала от ограничительных мер. Мысль более тесного сплочения колоний была обстоятельно рассмотрена уже в 1754 году на собрании делегатов в Альбани. Уже тогда Вениамин Франклин выступил с проектом общей конституции для северо-американских колониальных владений и в резких выражениях нападал на централистические планы, чем, быть может, повредил делу единства. Тем не менее, мысль о соединении всех колоний для общего дела и для соглашения всех необходимых мер в виду этой цели понемногу пускала корни во всех колониях. Когда Массачусетс первый очутился в опасности, наиболее выдающиеся члены его законодательного собрания образовали комитет, который должен был вступить в сношения с другими колониями и отстаивать затронутые извне права их. Первым плодом их деятельности была брошюра о правах колоний, вызвавшая сенсацию и в Англии. Автор ее, Джемс Отис, энергически доказывал, что колонии обязаны повиноваться лишь тем распоряжениям правительства, которые издаются и вводятся по соглашению с представительными собраниями. Уже в этом сочинении стрелы направлены против билля о гербовом сборе, который в то время еще только подготовлялся. С принятием его протест охватил все колонии.
До этого времени повышения пошлин и стеснения торговли касались, по преимуществу, купцов немногочисленных торговых городов, большею частью, расположенных в Новой Англии; главная масса колонистов, поддерживавших свое существование земледельческим трудом, относилась к ним сравнительно безучастно. Гербовый налог затронул всех обитателей колониальных провинций и тотчас соединил во едино аграрно-аристократическую Виргинию с меркантильно-демократическим Массачусетсом. По приглашению этих двух колоний, осенью того же года состоялся конгресс в Нью-Йорке, на котором присутствовали депутаты девяти провинций и составлен был план совместных действий против ненавистного закона. На первое время получились, правда, довольно скромные результаты. Петиции на имя короля и обеих палат парламента, составленные с общего согласия, заключали в себе протест колоний против права парламента облагать их налогами и против пошлин, но они были одобрены лишь представителями шести колоний. Даже президент собрания не решился дать свою ответственную подпись. Главное значение конгресса состояло в том, что он положил начало привычке обсуждения общих колониальных дел.
Организация сопротивления была пока предоставлена отдельным провинциям. 1 ноября вызвало прежде всего бурные сцены в Бостоне. Лица, которые взяли на себя управление гербовым сбором, подвергнуты были сожжению in effigie вместе с ненавистными членами министерства. Затем чернь разрушила не только дом главного сборщика пошлин, но и целый ряд других правительственных зданий. Но эти эксцессы не находили сочувствия у лучших элементов общества и не принесли никакой пользы делу. Колониальное собрание вынуждено было даже, хотя и с некоторыми оговорками, взять на себя возмещение причиненных убытков. Несравненно серьезнее по последствиям и действительнее было решение, исходившее из Нью-Йорка, и вскоре одобренное в самых широких кругах колоний – не выписывать никаких английских товаров и вообще воздерживаться от каких бы то ни было торговых сношений с метрополией, пока не будет отменен акт о гербовом сборе. Это решение имело и потому еще особое значение, что в то же время послужило толчком к мощному развитию местной промышленности. В разгоравшейся борьбе эта последняя сломила преграды, поставленные ей законами метрополии, и начала отвоевывать у английских фабрик рынок, которого они не в состоянии были вернуть даже и после восстановления прежних условий. Акт о гербовом сборе превратился в пустой звук, так как не только адвокаты, но даже суды прекратили свою деятельность, чтобы не употреблять гербовой бумаги. Старались, по возможности, решать все дела устно; даже браки заключались только в церкви. При этом всякая гербовая бумага, которую удавалось достать, сожигалась, и значение актов, написанных на такой бумаге, оспаривалось.
Но из всех шагов, направленных против акта о гербовых сборах, оказался действительным только тот, который уничтожал торговые сношения с Англией. Последствия его не замедлили обнаружиться, так как американцы не только не обращались более с заказами на английские фабрики, но и перестали платить долги английским кредиторам. В виду того, могущественное сословие английского купечества, в интересах которого до этого времени почти исключительно велось совокупное колониальное управление, начало агитировать в пользу отмены акта о гербовых пошлинах. На помощь их стремлениям пришла перемена министерства. В феврале 1767 года парламент отменил закон, после двухлетнего существования его, после того, как Питт произнес достопамятную речь в пользу колоний, а Франклин, явившийся в парламент в качестве представителя колоний, обстоятельно изложил положение вещей.
Был момент, когда казалось, будто между метрополией и колониями восстановились добрые отношения. Отмена акта о гербовых сборах была отпразднована в лондонском Сити не менее шумно, чем в Бостоне или Филадельфии. Но зародившееся недовольство продолжало развиваться в тиши. Одновременно с отменою акта о гербовых сборах, правительство провело чрез обе палаты парламента декларацию, в которой категорически заявляло, что королю принадлежит безусловное право издавать вместе с парламентом законы, обязательные и для колоний. Это был ответ на записку Бостонского комитета, которую парламент отказался даже принять к сведению. Несмотря на то, делегация вторично обратилась ко всем колониям с воззванием, в форме открытого письма, о принятии мер против угрожавшей всем опасности. Тогда правительство через губернаторов во всех провинциях объявило этот поступок актом возмущения и потребовало от законодательного собрания Массачусетса, примкнувшего к постановлению Комитета, чтобы оно тотчас взяло назад свое мнение в его пользу. Там, однако, благодаря различным неблагоприятным событиям, миролюбивое настроение уже давно превратилось в весьма враждебное. Несмотря на отмену акта о гербовых сборах, правительство не отказывалось от мысли извлекать в самых колониях средства на содержание колониальной армии. С этой целью оно, с одной стороны, снова решилось повысить таможенные пошлины, а с другой, обязать места стоянки гарнизонов поставлять жизненные припасы для отрядов армии. Эта последняя мера повела в Нью-Йорке к открытому восстанию, на что правительство ответило объявлением осадного положения. Таможенные стеснения вызвали вскоре в Бостоне бурное возмущение. Чиновники были изгнаны, таможенные здания разрушены. Когда после того губернатор распустил провинциальное собрание и призвал войска, то колония ответила созванием общего собрания и избрала комитет с правом регентства. Борьба, вероятно, началась бы уже тогда, если бы правительство не остановилось в виду политического положения Европы. Несколько крутой губернатор Массачусетса был отозван, и его заместил бостонец Гетчинсон, который, однако, при всем своем желании примирить противоречивые интересы, уже не в состоянии был надолго сдержать возбужденные умы.
Между тем английское купечество вторично пришло на помощь английским колониям. На повышение пошлин и насилия провинциальных властей в Нью-Йорке и Бостоне колонии во второй раз ответили соглашением между собою порвать торговые сношения с метрополией. Сильное понижение вывоза совершенно уничтожило планы, которые правительство построило на повышении пошлин, и наносило такой ущерб британским промышленникам, что они добились в парламенте отмены и этого нового таможенного тарифа. Но подобно тому, как за отменою акта о гербовом сборе последовал декларационный билль с целью формального поддержания авторитета правительства, так и теперь не был отменен повышенный налог на чай исключительно с тою целью, чтобы заставить колонии формально признать право правительства на подобные постановления.
При этих обстоятельствах отмена пошлин далеко не произвела такого всеобщего и сильного действия, как в свое время отмена акта о гербовом сборе. В самом скором времени отношения снова обострились, когда выяснилось, что правительство отнюдь не отказывается от вмешательства в дела особенно беспокойных провинций Нью-Йорка и Массачусетса. В 1770 году осадное положение было распространено и на Массачусетс. Провинциальное собрание было перенесено из Бостона в Кэмбридж и цитадель города, защита которой, по договору, лежала на провинциальной милиции, занята войсками. Столь энергичные меры на некоторое время смутили бостонцев. Прошло почти два года прежде, чем рассеянные элементы сопротивления организовались для новых действий. Но за это время дело освобождения колоний значительно подвинулось вперед. То там, то сям обнаруживалась открытая оппозиция против мероприятий правительства. И когда осенью 1772 года Бостон вновь поднял голову и избрал новый комитет для созвания провинциального конгресса, на котором должно было категорически решить – не следует ли ответить на насильственное попирание законных прав отпадением от метрополии, то этот шаг встретил мощный отклик.
Виргиния не принадлежала вообще, подобно Массачусетсу и Нью-Йорку, к провинциям, население которых отличалось бурными манифестациями, и, благодаря тому, правительственные притеснения довольно долго не распространялись на нее. Но едва ли в каком-нибудь другом штате Юга достигал такой интенсивности, как здесь, энтузиазм в пользу парламентских прав провинциальных собраний. Виргинцы сразу усмотрели в насильственных действиях лондонского правительства против Массачусетса и Нью-Йорка тенденцию, которая клонилась к упразднению представительных учреждений во всех колониях. Поэтому они объявили дело бостонцев своим, избрали из своей среды так называемый Комитет корреспонденций, выразили полное одобрение программе Массачусетса и предложили всем колониям избрать подобные же комитеты, с помощью которых мог бы происходить непрерывный обмен мнений между ними.
Напряжение достигло такой степени, что малейший толчок мог подать повод к взрыву. Этот толчок, как и можно было ожидать, исходил снова от Массачусетса, так как здесь, собственно говоря, уже много лет оба лагеря стояли друг против друга, готовые к бою. Один бостонский купец, вопреки уговору, хотел ввезти груз английского чаю, прибывший в гавань на двух кораблях. Когда план его сделался известным, возбужденный народ собрался перед его домом, и так застращал его, что он отказался от своего намерения. Но таможенные чиновники потребовали уплаты пошлины, все равно, будет ли чай действительно выгружен или отправлен обратно; иначе они не соглашались выпустить корабли из гавани. Тогда в ночь с 28 на 29 декабря 1773 года толпа мужчин, переодетых индейцами, напала на один из кораблей и выбросила весь груз чая за борт. В общем, однако, и в городе, и в провинции было спокойно. Лондонское правительство нашло, что этого акта неповиновения вполне достаточно, чтобы принять, наконец, решительные меры против Массачусетса, этого главного очага волнений на американском материке. По предложению его, парламент принял два закона, из которых первый объявлял гавань Бостона закрытою до тех пор, пока город не возместит убытков за уничтоженный чай. Второй закон отменял конституцию колонии: во главе ее был поставлен генерал Гэдж, который назначался главнокомандующим всей северной Америки с правами полной военной диктатуры над провинцией. Правительство ясно понимало, что такая политика может быть проведена не иначе, как с помощью силы; но на это были вполне согласны и король, и парламент. Было вновь решено отправить подкрепления в колонии, и в парламент внесено предложение, чтобы правительство настояло решительно на признании законов со стороны колоний и на восстановлении авторитета короны. Все были убеждены, что это равносильно объявлению войны, и одновременно с этим сделаны были дипломатические шаги во Франции и в Голландии с целью помешать колониям получать из этих стран боевой материал.
Численность лиц в колониях, готовых к бою и решившихся довести дело до конца, все еще была очень невелика. Но возбуждение быстро приняло грозные размеры, когда сделались известны новые репрессалии против Бостона. Генерал Гэдж вступил в должность губернатора провинции при зловещих признаках, но сопротивления не встретил. По его приказанию, провинциальное собрание состоялось в Салеме, новой столице, но тут же сделало памятное постановление – пригласить представителей всех колоний на конгресс в Филадельфии. Это постановление пришлось утвердить в законной форме при закрытых дверях, так как секретарь Гэджа уже явился с приказом о распущении Собрания. Собрание в Салеме после этого разошлось, но вновь состоялось в Конкорде и избрало из своей среды антиправительство. С этого момента в провинции существовали и с формальной стороны два враждебных лагеря.
При таких обстоятельствах 25 сентября 1774 года собрался в Филадельфии второй континентальный конгресс. Здесь в первый раз сошлись все лица, которые должны быть признаны главными деятелями, душою американской революции: Георг Вашингтон и Патрик Генри из Виргинии, Самуил Адамс и Джон Адамс из Массачусетса, Джон Джей из Нью-Йорка, оба Ливингстона, оба Рутлэджа и др. Правда, из 51 депутата, собравшихся в Филадельфии в качестве представителей 12 колоний, лишь немногие были проникнуты такой готовностью к бою, как представители Массачусетса; но вместе с тем конгресс был далек от того, чтобы остановиться на таком жалком выходе, к какому прибег первый конгресс в Альбани. Все депутаты справедливо считали в высшей степени важным, чтобы каждое постановление их исходило от имени всех. На этом был построен весь порядок занятий, всякие дебаты исключались из протоколов и строжайшая тайна относительно происходившего в заседаниях вменялась в обязанность. По этой причине даже самые решительные удовлетворились на первый раз сравнительно робкими постановлениями, на чем и был закрыт конгресс. Но он у всех поднял дух, и «каждый за всех, все за каждого» – сделалось общим лозунгом. Конгресс не нашел нужным обращаться еще раз к парламенту. Он сделал воззвание к народу Англии, как к населению Британских островов, так и к тем, которые обитали на земле Америки, от Гудзонова залива до Флориды. Он требовал, чтобы права американцев, как людей и граждан, были восстановлены и объявлены неприкосновенными. Конгресс обращался, наконец, в достойных, но скромных словах к королю и просил его, «как любящего отца своего народа, стать посредником между его многострадальным и притесняемым народом и министерством, давящим своими репрессалиями, а также удостоить милостивым ответом его просьбу». Но вместе с тем конгресс предвидел возможность, что его представление будет оставлено без внимания, и на этот случай принял решение отвечать насилием на насилие. Кроме того, конгресс еще раз подтвердил прекращение всяких торговых сношений с метрополией, пока жалобы его не будут услышаны. Затем он разошелся, постановив собраться вновь в мае следующего года.
В. Борьба за отделение от метрополии
В конце 1774 года, за исключением Самуила Адамса, ни один депутат, повидимому, не стоял еще бесповоротно за отделение от Англии. Но положение дел успело существенно измениться в промежуток времени до нового конгресса. Вооруженный мир между губернатором и провинциальным собранием в Массачусетсе не мог продолжаться вечно. Обе партии чувствовали, что война висит в воздухе, и каждая старалась готовиться к ней и тормозить приготовления противной партии. Гэдж сосредоточил в Бостоне весь военный материал, которым он располагал в провинции. Чтобы обеспечить город от внезапного нападения, он воздвиг шанцы на перешейке, соединявшем город с материком. Правительство провинции, с своей стороны, сосредоточило в Конкорде запасы пороха и военных материалов и старалось увеличивать и пополнять их. Милиция во всей провинции тайно организовалась и была готова взяться за оружие каждую минуту (at a minute’s warning; отсюда название ее «minute men»). Вечером 18 апреля 1775 года Гэдж отправил рекогносцировочный отряд в направлении к Конкорду с целью захватить несколько патриотов, бежавших из Бостона, и разведать, где сложен военный материал противников. Но милиция в Конкорде была тотчас же извещена об этом, и когда отряд достиг Лексингтон-Грина, он был встречен группою неприятеля. Здесь произошел первый обмен выстрелов: война началась. В первый момент милиция отступила, и англичане без сопротивления заняли Конкорд. Вскоре, однако, положение их сделалось критическим. Отступление было необходимо, но в то же время стало не безопасно. После первых выстрелов, провинциалы поднялись со всех сторон. Английские войска подверглись жестокому преследованию, понесли большие потери и могли оправиться лишь в шанцах под Бостоном. На следующий день началась осада города, которая длилась почти целый год, причем дело ограничивалось случайными стычками между войсками противников.
Таково было положение вещей, когда конгресс снова открыл свои заседания в Филадельфии. Обращение его к королю было отвергнуто в самых резких выражениях. Английский парламент единогласно постановил, чтобы колонии были приведены к повиновению силою opyжия, и ассигновал значительные суммы на усиление флота и вербовку солдат, в особенности, в областях мелких немецких князей. Подкрепления войскам непрерывно прибывали в Америку, и флот приступил уже к враждебным действиям у американских берегов. В виду того, конгресс, на котором присутствовали представители всех тринадцати колоний, не мог далее оставаться в положении просителя, какого он держался в прошедшем году. Он поднял брошенную ему перчатку, хотя еще не ради независимости, но для того, чтобы защищаться, пока Англия не возместит причиненные убытки, не восстановит нарушенных прав колоний и не признает вытекающих из конституции требований их.
Наступление войны поставило конгресс в чрезвычайно затруднительное положение. Несмотря на то, что конгресс был признан всеми колониями северной Америки, он все-таки не обладал действительной силой. Он представлял собою лишь совещательный орган без исполнительной власти. Решения его только тогда могли приобрести действительную силу, когда провинциальные правительства, пока еще только формировавшиеся, дали бы на это свое согласие. Каждое из этих правительств действовало самостоятельно в своей области и в столкновениях между отдельными провинциями чрезвычайно зорко следило за неприкосновенностью своих верховных прав. Лишь по отношению к англичанам конгресс был признан руководящим органом. Он назначил Георга Вашингтона (см. табл. «Вениамин Франклин и Георг Вашингтон») главнокомандующим совокупных боевых сил тринадцати колоний, а Монгомери и Скейлер должны были командовать войском, которое посылала Канада в помощь революционному движению. Так как войску нужны были не только люди, но и деньги, то конгресс был уполномочен также учредить военный фонд, который должен был пропорционально распределиться между отдельными штатами. Конгресс пошел еще дальше, отклонив предложения посредничества со стороны англичан, и, с своей стороны, отправил агентов к различным европейским дворам с целью повлиять на них в интересах американских колоний. Объявление независимости все еще умышленно откладывалось, но фактически конгресс почти признавал за собою права независимой державы.
Между тем на северном театре военных действий борьба продолжалась. В 1774 году парламент окончательно регулировал управление Канадою, поставив во главе этой провинции военного губернатора и учредив строго централистическую организацию. При этом южная граница провинции была продолжена до Гудзона. Конгресс решил прежде всего начать действия в этом направлении. У него была двоякая цель: отвоевать страну, которая могла быть потеряна для штатов Новой Англии вследствие перемещения границы и, если возможно, побудить Канаду примкнуть к 13 провинциям. Непосредственно после лексингтонской стычки американцы завладели Тикондерогою, Краунпойнтом и фортом Георга, что открыло им путь в сердце Канады. В августе Монгомери и Скейлер возобновили нападение; однако, соперничество между начальниками тормозило дело. Скейлер совершенно отказался от командования. Монгомери осаждал Сен-Джонс и взял его; затем он двинулся на Монреаль, но там простоял долго, вследствие чего третий корпус, который под начальством Арнольда шел на Квебек, не мог ничего предпринять против города. Когда, наконец, оба отряда в декабре соединились и предприняли штурм этого города, они были отброшены с большими потерями, и сам Монгомери пал. Поскольку поход имел целью вызвать революционное движение в Канаде, он окончился неудачею, и американцам стоило большого труда удержать завоеванное.
В это время возобновились сражения под Бостоном. Здесь собралось постепенно из провинций Новой Англии около 15 тысяч человек милиции, которые так теснили английский гарнизон, что снабжение его провиантом сделалось затруднительным. В виду того, Гэдж в различных местах выдвигал новые отряды; осаждающие отвечали на это нападением со стороны Чарльстона. При Бенкер-Гилле неприятели столкнулись (17 июня 1775 года); сражение представляло особенности, почти типические для всех битв в войне за независимость. Милиционеры дрались, правда, очень храбро, но высшее командование не стояло у них на высоте своей задачи, и битва окончилась тем, что они потеряли все позиции, занятые ими вначале. Таким образом, в стратегическом отношении победа была на стороне англичан, но она не принесла им никаких выгод, так как убыль в американских войсках была с избытком пополнена, и начальники наравне с солдатами горели жаждою снова начать бой.
Вначале июля Вашингтон прибыл в лагерь под Бостоном и принял на себя высшее начальство над войском соединенных провинций. В самом ходе осады это не произвело никаких изменений. Теперь уже выяснились недостатки системы милиции американцев. Эти люди были готовы на кратковременную борьбу, но продолжительная бездеятельность на глазах неприятеля подрывала их дисциплину, и они неохотно оставались под ружьем дольше условленного времени. Хотя некоторые провинции и согласились вместо отпускаемых людей посылать других, но приходилось начинать с самого начала обучение и упражнение их, а когда они осваивались с делом, то обыкновенно уже недалек был срок их отпуска. Вследствие того, американское войско далеко не оправдывало надежд, которые можно было возлагать на него, судя по численности. Требовалось громадное искусство со стороны предводителя, как в дипломатическом, так и в стратегическом отношении, чтобы с помощью такого материала достигнуть хотя бы тех результатов, какие фактически выпали на долю американского войска.
Мало-по-малу английское правительство пришло к убеждению, что дальнейшее пребывание главных сил его в тесно обложенном Бостоне не имеет стратегического значения. Поэтому генерал Гоу, сменивший в командовании Гэджа, получил приказ очистить эту позицию, что ему удалось совершить в наилучшем порядке и без потерь. Для американцев было настоящим триумфом то, что, после 9-ти месячной осады, они в состоянии были войти в осажденный город, которому назначено было первому почувствовать карающую руку местного правительства.
Континентальный конгресс мог, таким образом, собраться в мае 1776 года в четвертый раз в Филадельфии при самых благоприятных шансах. Приподнятое настроение выразилось в том, что уже через несколько недель внесено было предложение, чтобы колонии во всех отношениях отделились от метрополии и образовали самостоятельное, независимое государство. Состав конгресса был такого рода, что никак нельзя сказать, в какой степени это предложение соответствовало общему желанию 13 штатов. Дело в том, что всеобщих выборов не производилось, и каждая провинция посылала по своему усмотрению произвольное число депутатов в Филадельфию. Такое общественное мнение, как в Англии, в то время не существовало в колониях. То, что казалось выражением народной воли, большею частью, являлось делом кучки политиков, сознательно преследовавших определенную цель, тех самых, которые играли руководящую роль в комитетах корреспонденций и в континентальном конгрессе. При таких обстоятельствах особенно важно, что по сделанным справкам предложение в пользу провозглашения независимости не могло расчитывать на большинство даже в конгрессе.
Но партия независимости имела в этом случае превосходных руководителей. Подобно тому, как до сих пор эти руководители давали согласие на самые примирительные меры в том убеждении, что всякая неудача еще более приблизит к ним колеблющихся депутатов, так и теперь они нашли дипломатический выход. Взять назад предложение представлялось, пожалуй, не менее опасным, чем подвергать его риску быть отклоненным. Но отсрочить прения и голосование на несколько недель не представлялось опасности, как это и случилось 10 июня. Насколько вожди не сомневались в окончательной победе, можно судить из того, что они уже тогда добились назначения комиссии для обсуждения программы действий в виду объявления независимости. Результат показал, что они были совершенно правы. По возобновлении обсуждения предложения, известное число противников отделения от Англии удалились из конгресса. Благодаря тому, 4-го июля провозглашение независимости, тщательно подготовленное комиссией, было постановлено конгрессом единогласно. Между тем, как в настоящее время граждане Соединенных штатов проводят день своего национального праздника ежегодно самым торжественным образом, тогда он прошел сравнительно незаметно. Колонисты с несравненно бо̀льшим напряжением следили за исходом борьбы, которая вспыхнула вновь в различных местах. Даже те из них, которые с самого начала войны предвидели отпадение, как неизбежную конечную цель, все-таки ясно сознавали, что еще слишком преждевременно предаваться радости.
После очищения Бостона, Вашингтон уже в апреле 1776 года отправился в Нью-Йорк, расчитывая, что эта важная гавань, среди населения которой роялисты располагали значительной партией, сделается ближайшею целью английского наступления. Но в начале это предположение как будто не оправдывалось. Наоборот, часть английского флота отплыла на юг и пыталась овладеть Чарльстоном в южной Каролине. Здесь, однако, флот потерпел чувствительный удар, после чего боевые силы англичан снова соединились и к концу августа высадились под командою Уильяма Гоу на Лонг-Айленде. Вашингтон с его милицией не мог помешать этому, так же, как и остановить серьезно движение их вперед. Напротив, он был рад, что мог отступить со своими пострадавшими войсками без значительных потерь через реку Ист Ривер к Нью-Йорку. Он не надеялся даже отстоять этот город в виду огромного численного и качественного превосходства неприятельских войск. Лично он был того мнения, что лучше предать город огню, чем предоставить в руки неприятеля надежный опорный пункт. Конгресс не одобрил такой крайней меры, хотя согласился с тем, что следует покинуть безнадежную позицию. Тогда Вашингтон начал свое знаменитое отступление, которое, в виду сопряженных с ним трудностей, вызывает полное уважение к многосторонним талантам его, но, тем не менее, было тяжелым ударом для дела независимости и свободы американских колоний.
Английский противник преследовал Вашингтона с обдуманной медленностью от одной позиции до другой; но еще опаснее было для него состояние его собственного войска. В каждом из многочисленных писем, в которых он сообщает конгрессу о ходе дел на театре военных действий, он возвращается к тому, что с милиционерами, плохо дисциплинированными и не желающими служить ни одного лишнего дня по окончании своих коротких призывных сроков, не мыслимо одерживать победы над войском Гоу, которое почти все состояло из хорошо обученных солдат, живущих военным ремеслом. И он вновь и вновь требует, чтобы в распоряжение его было предоставлено, по крайней мере, на время войны, постоянное войско, и в особенности – профессиональный и опытный корпус офицеров.
Хотя 13 штатов объявили себя независимыми, но проект внутренней организации опять должен был составить конгресс. Затем этому проекту предстояло пройти через законодательные собрания отдельных штатов, на что потребовалось бы еще много времени. Правда, каждый обращался с своими нуждами и притязаниями прежде всего в конгресс; но вместе с тем все желали, чтобы он сам находил выход из затруднений. Отдельные штаты не всегда соглашались признавать бумажные деньги, которые он нашел нужным выпустить для покрытия военных расходов, а между тем все от него требовали именно денег и солдат. Но если войско и его главнокомандующий имели право роптать на конгресс, то, с другой стороны, нельзя отрицать, что часто этот последний при всем своем желании был не в состоянии им помочь.
Вашингтон сумел замечательно воспользоваться осторожностью Гоу для того, чтобы совершить свое отступление наивозможно медленно. 15 сентября англичане заняли Нью-Йорк. Но только 16 октября они могли перейти в атаку позиции американцев на Гарлемских высотах, хотя Вашингтон и не обладал достаточными силами, чтобы удержать ее. Затем до половины ноября оба войска стояли друг против друга под Уайт-Пленс. Однако, англичане едва-ли одержали бы победу, если бы изменническая сдача форта Вашингтон не открыла им пути к Нью- Джерсею.
Вашингтон был вынужден после того предпринять постепенное движение к Делавару, но, тем не менее, ему уже не удавалось задержать неприятеля при помощи своих войск, дезорганизованных продолжительным отступлением. В начале декабря конгресс не чувствовал себя безопасным в столице Филадельфии и бежал от приближавшейся неприятельской армии в Балтимору (см. «Карты к истории Америки»). Но ему удалось вернуться, прежде чем неприятель вступил в столицу Союза. Наибольшая опасность грозила с другой стороны: под впечатлением неудачи, число сторонников свободы стало быстро уменшаться, и только тогда, когда в последние дни 1776 года Вашингтон напал на неприятеля при Трентоне и причинил ему чувствительные потери в нескольких сражениях, настроение в лагере американцев начало снова подниматься.
Обе армии перешли на зимние квартиры. Но в апреле Гоу составил план нового похода: он отказался от сухопутного движения на Филадельфию, посадил свои войска на суда и неожиданно вошел в залив Чизапик, чтобы взять Филадельфию с юга. Воодушевление в пользу войны упало в колониях до минимума. Этому не мало способствовали известия, доходившие из Англии. Амнистия, которую уже обещал генерал Гоу всем, кто подчинится в штатах Новой Англии, была теперь подтверждена английским парламентом. Далее обещаны были меры с целью устранения стеснительных условий, на которые жаловались колонии. И не только в значительной части Америки, но и в европейских государствах, следивших с напряженным вниманием за ходом войны за независимость, ожидали в самом близком будущем примирения между метрополией и восставшими колониями. Естественно, что подобные перспективы побуждали всех безразличных переходить на сторону англичан. Даже присутствие конгресса, возвратившегося в Филадельфию, не могло создать в городе квакеров решительного настроения. Вашингтону удалось два раза при помощи своего замечательного отступления задерживать наступательное движение англичан; но все-таки в половине сентября он вынужден был донести конгрессу, что он не в состоянии более прикрывать путь в Филадельфию. 26 сентября 1777 года английская армия вступила в союзную столицу.
Вскоре, однако, блестящий, повидимому, успех оказался довольно обманчивым. Уже через несколько дней Вашингтон опять перешел в наступление и так ловко закрыл все сухопутные сообщения, что Гоу был вынужден напасть и на форты у Делавара, которые еще находились в руках союзной армии и с моря угрожали его линиям сообщения. Бо̀льшая часть этих фортов не были ни достаточно укреплены, ни снабжены достаточным гарнизоном, чтобы долго держаться; но они в течение почти пяти недель удерживали английскую армию и флот. Уже это одно было громадным выигрышем, так как время года настолько подвинулось, что оба войска снова должны были перейти на зимние квартиры. Положение союзного войска, которое терпело всевозможные лишения и, вследствие того, понесло сильную убыль и пало духом, тем не менее, представлялось печальным. Но в это время на северном театре войны счастье улыбнулось американскому оружию, а это повлекло за собою решительный переворот в дипломатическом отношении.
После того, как в июне 1776 года союзные войска снова очистили Монреаль, не могло быть и речи о том, чтобы привлечь к восстанию канадские провинции. Наоборот, там проснулась старая антипатия к соседям Новой Англии с такой силой, что канадские губернаторы решили в скором времени и здесь перейти в наступление. Уже осенью того же года англичане овладели крепостью Краун-Пойнт и, при помощи численно превосходной флотилии речных судов, почти неограниченно господствовали на озере Шамплэн. С наступлением лета следующего года генерал Бургоэнь во главе войска из 8000 обученных англичан и немцев двинулся с целью установить сообщение с Нью-Йорком и, таким образом, отрезать северные провинции от остальных. Начало его похода ознаменовалось непрерывным рядом успехов. Тикондерога, которую американцы считали неприступным ключом севера, была занята им почти без кровопролития; гарнизон, перешедший в отступление частью водою, частью сухим путем, был рассеян. До самых верховьев Гудзона англичане более не встречали серьезного сопротивления со стороны союзных войск. Генерал Скейлер едва успел сделать непроходимыми сухопутные и водные сообщения и удалить из сферы англичан все съестные припасы. Но именно благодаря этому обстоятельству, ход событай принял иной оборот. Когда Бургоэнь дошел до Гудзона, войско его не только уменьшилось численно, вследствие необходимости оставлять везде гарнизоны для прикрытия сообщений: оно было истощено после почти сверхчеловеческих усилий, которых стоило восстановление дорог по болотам от озера Георга до Гудзона в самую жаркую пору года. Кроме того, оно совсем не имело съестных припасов.
Несчастие сразу надвинулось на Бургоэня со всех сторон. Здесь на севере война была несравненно более популярна, чем в квакерском штате Пенсильвании, и приближавшаяся опасность вызывала с каждым днем прилив новых войск к услугам союзного полководца. Первый удар был нанесен правому крылу англичан: на него было возложено взять форт Стенвикс у Могаука; но после многонедельной напрасной осады он должен был быстро отступить к Канаде. Отряд фуражиров, отправленный Бургоэнем к Нью-Гемпширу, был почти совершенно уничтожен в открытой битве; весь военный материал попал в руки союзных войск. Наконец, сам Бургоэнь вынужден был двинуться вперед для того только, чтобы добыть провиант. Он перешел Гудзон, но у фермы Фриман натолкнулся на главную армию, которою командовалъ генерал Гэтс. Уже первое нерешительное сражение было для Бургоэня равносильно опасному поражению. А когда он через несколько дней вторично сделал попытку пробиться со своими голодающими солдатами, он был настолько разбит, что ему пришлось перейти в наступление. Но и здесь путь оказался несвободным. Союзные войска, ободренные достигнутыми успехами, кишели вокруг него со всех сторон. И когда Гэтс, при помощи своих главных сил, дал ему третье сражение при Саратоге, Бургоэнь убедился в бесполезности дальнейшего кровопролития и положил оружие со всем остатком своих войск (17 октября 1777). По современным понятиям, армии сражавшиеся в этом походе, не могут быть названы большими. Но, не говоря уже о том, что для Англии не легко было снова набрать войско даже в 8000 человек, громадное преимущество, достигнутое американцами, заключалось прежде всего в стратегических условиях. Капитуляция Бургоэня означала не только неудачу плана, состоявшего в том, чтобы занятием линии Гудзона разделить колониальные боевые силы на два отдельных театра военных действий; она в то же время, по крайней мере, надолго, обеспечила канадскую границу и изолировала английский гарнизон в Нью-Йорке, для которого во второй раз оставался лишь морской путь сношений с остальными армиями.
Значение этого факта могли вноле оценить, вероятно, только сражающиеся стороны, но капитуляция Саратоги произвела во всем свете громадную сенсацию. Франция, начиная от первых признаков серьезного разногласия между Англией и колониями, следила с самым напряженным вниманием за событиями в Америке. Государственные люди, стоявшие во главе ее, страстно ждали случая быть отомщенными за утраты и унижения, которые принес им мир 1763 года. Уже в 1767 был отправлен французский агент в Северную Америку, не только с целью выяснить господствовавшее там настроение, но, главным образом, для того, чтобы разузнать, какими средствами располагают колонии для борьбы с Англией, и в чем они настоятельнее всего нуждаются; но в это время французская политика еще слишком опережала требования колоний. Донесения, которые посылал Кальб из провинций, сильно охлаждали французскую готовность оказать поддержку. Таким образом, план отомстить Англии поддержкою восстания в Америке, оказался преждевременным. Но, когда первые континентальные конгрессы убедились в том, что колонии в состоянии будут отвоевать себе у англичан свободу только с оружием в руках, они вспомнили о выражении симпатий со стороны Франции. Париж был первым и важнейшим пунктом, куда континентальный конгресс отправил своих агентов, – и не напрасно.
Конечно, французское правительство в 1775 году не могло вступать в открытые переговоры с агентом восставших провинций, еще вовсе не организованных, но втихомолку американцам уже тогда во многих случаях оказывалась помощь. Когда вспыхнула в колониях открытая война, американцы перенесли ее и на море. Северные провинции, сильно проникнутые коммерческим духом, с бо́льшим рвением готовы были наносить чувствительный вред английской торговле при помощи каперских набегов, чем вести сухопутную войну против английских войск, правда, более почетную, но менее прибыльную. Вскоре после провозглашения независимости, первые каперы дерзнули переплыть через океан до самых британских вод. Корабль, доставивший осенью 1776 года во Францию Вениамина Франклина (см. табл. «Вен. Франклин, Г. Вашингтон»), как полномочного представителя новой республики, вошел в Гавр с двумя английскими кораблями, которых он захватил на пути. Одобрить такой образ действий значило бы со стороны Франции открыто нарушить мир с Англией, пока еще существовавший; тем не менее, американские каперы тайно сплошь и рядом находили убежище во французских гаванях. Ни для кого не было секретом, особенно после прибытия Франклина, что американские делегаты, официально непризнанные, тем не менее, отчасти при непосредственной поддержке французского правительства, покупали военный материал, снаряжали корабли, вербовали офицеров и экипажи и затем тайно или под чужим флагом доставляли их в колонии.
Если Франклин был с самого начала убежден в благоприятном исходе переговоров относительно дружественного и торгового договора с Францией, который ему поручило заключить вновь утвержденное Бюро иностранных дел, то в основании этого убеждения лежала, конечно, значительная доля сангвинизма. Несомненно, не только французское правительство, но и вся нация сочувствовали делу Соединенных Штатов. Но в основании этого сочувствия лежало, главным образом, не самое дело, а то, что в успешном восстании Америки видели средство нанести вред ненавистным англичанам и слишком удобный случай быть отомщенными. Франклин был принят в Париже и даже был допущен частным образом к стоявшему во главе правительства министру, де-Вержену. Но открытого приема ему не сделали, тем более, что война, последовавшая за провозглашением независимости, протекала неблагоприятно, и существовали серьезные сомнения в конечной победе северо-американцев. Положение Франции в течение 1777 года было вполне выжидательное; даже тайная поддержка, оказанная восставшим, была крайне ничтожна. Единственный случай, вызвавший сенсацию, заключался в отъезде юного маркиза де-Лафайета в Америку. Он отплыл вместе с Кальбом и группою французов, тайно, на снаряженном им корабле, чтобы присоединиться к неприятелям своего национального врага.
Американские агенты вели переговоры не только с Францией, но старались войти в соглашение с другими державами и даже добивались связей с самой Англией. Перед самой капитуляцией Саратоги и непосредственно после нее, эти переговоры грозили принять совершенно своеобразный оборот. Подобно тому, как после побед Гоу Англия предлагала амнистию и отмену более существенных стеснений, так после капитуляции Саратоги она пошла еще дальше и давала понять, что признает известную самостоятельность взамен прочного тесного союза между колониями и метрополией. Американские агенты едва ли были уполномочены вести об этом переговоры с Англией. Но возможность такой комбинации, в связи с благоприятным оборотом военных действий, ускорила решение Франции: в несколько недель (6-е февраля 1778 года) был заключен дружественный и торговый договор, с которым раньше медлили более года, и этим официально совершилось признание Соединенных Штатов.
Непосредственным последствием того было отступление англичан из Филадельфии. Англия не могла серьезно расчитывать на возможность одновременной борьбы на всех театрах войны с такими союзниками, как Франция и Соединенные Штаты, к которым на следующий год (12 апреля 1779 г.) робко и нерешительно примкнула Испания, а затем и Голландия. Положение Гоу в Филадельфии удерживало лишь английские боевые силы в одном пункте, серьезно не угрожая противнику. Во главе английского войска поставлен был новый главнокомандующий, генерал Клинтон, с полномочием очистить союзную столицу и перенести войну на новый театр действий, где можно было расчитывать на лучшие результаты. Это отступление было тем более приятно для северо- американцев, что Вашингтону удалось нанести отступающему противнику еще один удар под Монмутом. В действительности, однако, Клинтон потому отвел свои войска к Нью-Йорку, что предстоявшая англо-французско-испанская война делала желательным перенесение колониальной войны в южные провинции, где возможно было установить сообщение с вероятным театром военных действий на Антильских водах.
Зимою 1777–1778 года Франция еще не объявляла войны Англии и затем подняла сильный шум при европейских дворах, когда нападение англичан на французский корабль La Belle Poule дало ей повод выставить британцев в качестве нападающей стороны. В действительности, еще с февраля был снаряжен флот, экипаж которого должен был сражаться бок-о-бок с союзными войсками, против англичан. К этому времени на службу Соединенных Штатов явилось уже множество иностранных офицеров. Лафайет и друзья его, встреченные вначале с таким нескрываемым недоверием, что некоторые из них вернулись, разочарованные, во Францию, сражались уже с прошлого года на ряду с американцами. Восторженная агитация Лафайета не осталась без влияния на отправление вспомогательного корпуса под командою Рошамбо. На ряду с ними особенно отличался прусский полковник Фридрих Вильгельм фон-Штейбен, который улучшил внутреннюю организацию союзного войска. После долгой борьбы, Вашингтон добился того, что, по крайней мере, ядро союзной армии состояло из постоянных полков. Последние обязаны были своим обучением прусскому офицеру, вышедшему из школы Фридриха II и содействовавшему также улучшению управления и снабжения провиантом всего союзного войска, поскольку это было возможно при весьма недостаточных средствах.
Не только Вашингтон и союзное войско, но и самый конгресс, с триумфом возвратившийся в Филадельфию, ожидали чего-то необычайного от прибытия французских союзников. Убеждение конгресса в том, что предстояла решительная победа, было так твердо, что он считал излишним с своей стороны еще что-либо предпринимать. Тем сильнее было разочарование, когда, вследствие особенного стечения неблагоприятных обстоятельств, соединенный поход американцев и французов не привел почти ни к какому результату. С самого начала в конгрессе существовала партия, которая смотрела весьма недружелюбными глазами на союз с Францией. Особенно в северных штатах Новой Англии старую антипатию против прежних канадских противников переносили на французов, желавших теперь сражаться, в качестве союзников, за независимость колоний. Повторные предложения англичан вступить в переговоры с революционерами, по поводу устранения их затруднений, укоренили в них убеждение, будто в ближайшем будущем предстоит примирение на почве признания Соединенных Штатов со стороны Англии. В этом отношении политики востока были, повидимому, не совсем неправы, так как, в виду грозившего вмешательства своего непримиримого врага, Англия готова была принести большие жертвы, лишь бы прекратить американскую войну. Эти шансы на мир были значительно подорваны французским союзом. Правда, американцы были склонны истолковать договоры в том смысле, что Франция стремится лишь обеспечить их независимость и поэтому ничего не будет иметь против непосредственного соглашения между колониями и метрополией на этой почве. Однако, французское министерство, как в переговорах, которые оно продолжало в Париже с делегатами конгресса, особенно с Франклином, так и через посланника, аккредитованного им при конгрессе в Филадельфии, наслаивало принципиально, чтобы ни одна из договаривающихся сторон не заключала мира с Англией без согласия другой. Таким образом, прекращение войны не обусловливалось уже признанием независимости Соединенных Штатов. Вследствие того, деловые политики совершенно забыли, как далеки они были от этого до союза с Францией, и теперь хотели уверить провинции, что единственно этот союз является причиною продолжения войны.
Хотя в этом, без сомнения, было преувеличение, но все-таки почти весь конгресс и преобладающая часть американского народа были того мнения, что было бы вполне естественно и справедливо, чтобы Франция, которая, конечно, ищет в войне выгод и для себя, и для своих союзников, особенно для Испании, окончила ее на свои деньги и при помощи своих войск. Одна лишь политическая и дипломатическая неопытность этих адвокатов, купцов и пр., ставших в одну ночь ответственными руководителями громадного государства, может извинить те совершенно невероятные требования и притязания, которые они навязывали французскому правительству. Но, как обыкновенно бывает, рука-об-руку с действительною неспособностью шла собственная слишком высокая оценка. И, благодаря быстрому и могущественному развитию молодого государства, такая оценка сделалась с течением времени национальной чертой характера.
Без сомнения, существовал хотя и небольшой кружок действительно государственных мужей среди тех лиц, которые способствовали созданию Соединенных Штатов. В числе первых следует назвать Георга Вашингтона (см. табл. «Вениамин Франклин, Георг Вашингтон»). И его ход событий почти сразу вырвал из обстановки землевладельца, любящего мирную и светскую жизнь, и сделал главнокомандующим союзного войска; но в данном случае события дали только возможность обнаружиться его великому таланту и развиться выдающимся способностям. При объявлении войны Вашингтону шел сорок третий год; скорее из любви к искусству, чем по профессии, он проявлял до того времени несколько раз свои военные способности, как начальник виргинских милиционеров. Но при этом он настолько выдавался, что уже в 1755 году был назначен главным начальником милиции. Вступив в общественную жизнь больше по долгу, чем по склонности, он старался возможно скорее возвратиться в свои богатые поместья. Это был тип виргинского крупного землевладельца в самом благородном выражении его: с стройной фигурой, тонкими формами, пожалуй, слишком аристократичными для республиканца, он вместе с тем более, чем кто-либо, был проникнут стремлением к свободе американских колоний. Светское образование давало Вашингтону возможность сделаться дипломатом, обширные познания, особенно в области политической экономии, – государственным человеком. Наконец, на военном посту он не только применил скромный запас опыта, приобретенного в малой войне, но, что еще существеннее, выказал два выдающихся качества, сделавших его во всех сферах одним из величайших людей в Америке. Во-первых, это была способность прямо видеть положение вещей в данный момент без всякого пристрастия, что давало ему возможность при самых затруднительных обстоятельствах с непоколебимым спокойствием проверять и обсуждать их и с железным терпением выжидать надлежащего момента. Во-вторых, благодаря своей необычайной энергии, он не только был в состоянии совершать необычайные вещи, но в критическую минуту увлекал окружающих к крайнему напряжению сил. Вначале положение Вашингтона было крайне затруднительно; даже титул главнокомандующего, который ему сразу предоставил подъем национального воодушевления, не обеспечивал его от зависти недоброжелательных соперников и интриг эгоистических карьеристов. Лично он, быть может, меньше всего домогался этого поста, так как ежедневно убеждался, как много обязанностей возложено на него и какая в сущности небольшая власть находится в его руках. Но дело в том, что Вашингтон был еще больше дипломатом, чем стратегом, и, как таковой, умел ориентироваться в трудной задаче и постоянно лавировать между политиками конгресса, почти не скрывавшими своего демагогического исходного пункта, и европейскими дипломатами, вышколенными в государственных формах Старого Света. Со времени союза с Францией Вашингтон представлял не только на театре войны, но и в сфере политики, как бы второе правительство на ряду с конгрессом, но в то же время, благодаря своей тактичности и сдержанности, умел обходить все опасные подводные камни и в той, и в другой области.
Американский народ не ставил никого из современников наравне с Вашингтоном: даже Вениамин Франклин (см. табл. «В. Франклин, Г. Вашингтон»), с его природной честностью, далеко уступал ему в политической дальновидности, и, тем не менее, Франклин, быть может,
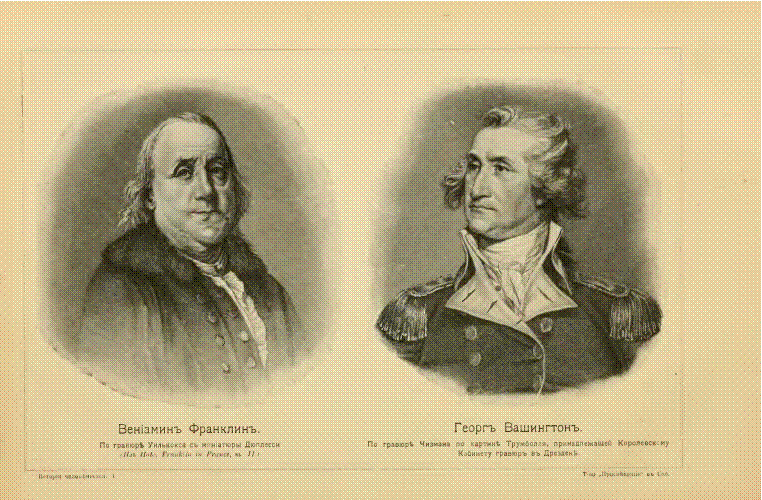
более, чем кто-либо, способствовал благоприятному исходу революции. Он вырос в ограниченной жизненной рамке и пробивался медленно и с трудом исключительно собственными силами. На нем лежала в течение всей его жизни известная печать мещанства, отличавшая вообще жителей Филадельфии, среди которых он провел свою юность и возраст возмужалости. Это не был муж с высоким полетом в действиях; но многолетний опыт, приобретенный им в качестве представителя колоний при английском дворе, привлекал к нему более, чем к кому-либо другому, симпатии остальных наций к отечеству его, боровшемуся за свободу. Ему принадлежит главная доля заслуги в том, что Франция открыто приняла сторону Соединенных Штатов. Тем не менее, его отношение к мирным переговорам показало, насколько для него были вообще неприятны заносчивость и деловая резкость (smartness) политиков молодого государства. Многие старались снять с него упрек, будто он замешан был в переговорах с Англией, которые вели северо-американские дипломаты за спиною Франции вопреки буквальному смыслу заключенного с нею союзного договора. Едва ли, однако, удастся когда-нибудь устранить подозрение, что Франклин, с его доверчивой и открытой натурой, его добродушной прямотою, прикрывал двусмысленную игру своих дипломатических коллег, хотя, быть может, и не принимал прямого участия в том, чтобы подкапываться под союзников, им же самим приобретенных. На события на родине во время войны он оказывал мало влияния. В борьбе из-за конституции трезвый практический ум и деловая опытность Франклина не мало способствовали устранению бесконечных препятствий, тормозивших введение конституции.
Оба вождя были окружены, без сомнения, целым штабом второстепенных личностей, державшихся сходных политических воззрений; но среди влиятельных политиков едва ли можно указать лиц с таким же свободным взглядом и настолько же чуждых пристрастия. А между тем именно это обстоятельство имело громадное значение для ближайшего будущего, когда, с заключением французского союза, центр тяжести в ходе событий был перенесен с поля битвы в область дипломатии.
Англичане, сообразно своему новому плану военных действий, перенесли войну в южные провинции. Уже в январе 1779 года они покорили Саванну в Георгии и с успехом защищали ее против французского флота. Затем в феврале 1780 года британский главнокомандующий Клинтон лично высадился в южной Каролине и, после пятинедельной осады Чарльстона, заставил находившиеся в столице союзные войска капитулировать. Казалось, что этим восстанавливалось английское владычество на юге, и в течение некоторого времени англичане не встречали здесь ни одного регулярного отряда союзных войск. Вскоре, однако, выяснилось, что цель их недостижима. Страна с редким населением, за исключением береговой полосы, делала совершенно невозможной военную оккупацию и создавала величайшие трудности для всякого рода операций. В главной квартире Вашингтона знали это. Вместо того, чтобы двигаться за англичанами на юг, главнокомандующий продолжал сосредоточивать свои операции на Гудзоне против Нью-Йорка, так как от них зависел конечный исход войны. Таким образом, он принудил Клинтона вернуться на север, тогда как на юге возгорелась с переменным успехом партизанская война. Из обеих главных квартир вновь и вновь посылались регулярные войска с опытными командирами, так что англичане никогда не могли быть покойны за свои владения, но вместе с тем не могли быть вытеснены из них. Эти странствующие отряды дали друг другу ряд больших сражений в северной и южной Каролине. При Кэмдене англичане одержали победу, которая стоила жизни храброму Кальбу. У Королевских гор и при Коупенсе поле битвы осталось за американцами. В других сражениях, как, напр., при Гильфорде, обе стороны считали себя победителями. В общем, однако, существенных изменений в положении дела не произошло: англичане занимали гуще населенные береговые местности, а внутри страны постоянно бродили континентальные шайки герильясов и то здесь, то там неожиданно нападали на британские отряды.
Чтобы вызвать какую-нибудь перемену, англичане решили перенести войну в Виргинию, которая была теперь почти исключительно источником продовольствия союзного войска, поскольку в этом деле не участвовала Франция. Однако, и этот маневр не отвлек Вашингтона от Гудзона: он ограничился лишь тем, что отправил туда Лафайета, с частью союзного войска. Лафайет вполне оправдал оказанное ему доверие. При помощи искусных операций, он сдерживал в течение многих недель английского генерала Корнуэльса, пока приказом главнокомандующего не был отозван к побережью. Чтобы обеспечить себя укрепленным опорным пунктом для возобновления впоследствии похода внутрь страны, Корнуэльс избрал Иорктоун (см. «Карты к истории Америки»); но, благодаря тому, он очутился в опасной ловушке, что быстро поняли полководцы союзной армии. Лафайет поспешил с наивозможной быстротою, чтобы блокировать это место, и Вашингтон отправил ему в помощь большую часть французских и американских войск под командою Рошамбо. Наконец, французский флот, который должен был отправиться к антильским водам под командою де-ла-Граса, довершил план, состоявший в том, чтобы окружить неприятеля. Вокруг Иорктоуна неприятельские линии стянулись таким тесным кольцом, что 19 октября 1781 года Корнуэльс должен был положить оружие. Правда, в руках англичан оставались еще некоторые береговые пункты юга и прежде всего Чарльстон. Но судьба их оружия была решена этим поражением на юге. Они были бесповоротно побеждены союзными войсками.
С. Переговоры и заключение мира с Англией
Хотя военные события на самом театре военных действий и держали умы в сильном, напряженном возбуждении, но на решениe хода дел они оказывали сравнительно мало влияния. Руководящие государственные люди Франции очень скоро убедились, что союз с Соединенными Штатами, вместо того, чтобы дать им сильного товарища в борьбе с Англией, повел лишь к тому, что северо-американцы получили возможность вести войну при помощи французских денег, французских солдат и кораблей. Испанское правительство долго медлило прежде, чем оно вообще примкнуло к борьбе с Англией. Хотя оно считало естественным получить за участие в войне Флориду и Миссиссипи, но, в общем, американские дела имели для него вполне второстепенное значение. Оно стремилось, главным образом, направить свою военную деятельность против Минорки и Гибралтара. Но рядом с этим оно давало ясно понять, что охотно согласилось бы немедленно прекратить войну. Испания желала лишь дипломатически воспользоваться опасным положением Англии с целью пересмотра мирного договора 1763 года. Характер, который приняла война в Америке, делал и для Франции вполне желательным возможно скорое заключение мира. Поэтому она не только поощряла Испанию в направленных в эту сторону стремлениях, но предлагала и американскому конгрессу готовиться к принятию решения по поводу условий, которые могут быть предложены со стороны Англии.
Переговоры о всех этих вопросах занимали конгресс в ближайшие годы до заключения мира в несравненно большей мере, чем интересовали его военные дела. Дебаты велись с такою страстностью, что не раз союз 13 штатов, едва заключенный, грозил распасться на различные группы интересов. Политики Соединенных Штатов охотнее всего, конечно, встретили бы отказ Англии в их пользу от всех своих владений и притязаний в пределах северо-американского материка. Агентами, которых Англия не переставала посылать в течение всей войны для улажения недоразумений, они мотивировали свой взгляд таким образом, что соседство границ между штатами и британской Канадой может лишь служить яблоком раздора между двумя единоплеменными народами. Заслуга Вениамина Франклина заключается в том, что он сумел ловко вплести эту мысль в переговоры, происходившие между ним и британским агентом Освальдом. Однако, при окончательной формулировке договорных пунктов к этому вопросу более не возвращались, и Англии не пришлось отвергать эти предложения.
В отношении южной границы северо-американцы обнаружили меньше алчности к расширению территории. Они достаточно освоились с мыслью вернуть испанцам Флориду за участие в войне и в особенности за денежную помощь, за которой они постоянно обращались (в последнее время, правда, безуспешно) к правительству Карла III. Во всяком случае, этот пункт не служил поводом к раздору между партиями конгресса. С другой стороны, существовали два условия, из которых одно слишком близко касалось представителей южных штатов, а другое являлось жизненным вопросом для северных штатов. Насколько представители южных штатов были дальновидны в пунктах, затрагивавших их собственные интересы, доказывает то, что они поставили необходимым предварительным условием заключения мира с Англией уступку внутренней страны до Миссиссипи и свободное плавание по этой реке до Мексиканского залива. Как известно, английское колониальное управление отделило в целях организации страну к западу от Аллеганских гор от старых провинций, и более обширное культивирование названной области южных провинций началось лишь с самого недавнего времени. Тем не менее, тогдашние руководящие личности вполне понимали важное значение, которое имели для этих областей водный путь к Мексиканскому заливу, и решились не уступать в этом пункте. Но на конгрессе они облекли свои притязания в дипломатические формы и поддерживали их с достоинством, которое соответствовало аристократическому духу их провинций.
В совершенно ином духе выступил со своими требованиями Север. Коммерческий дух, который с самого начала характеризовал движение в северных штатах, проявился и в этом случае; ни для кого не было тайною, что судовладельцы и торговцы штатов Новой Англии сумели извлечь много выгод даже из военного положения. Охота на британские торговые корабли производилась ими с таким успехом, что им приписывали громадные барыши. Но они занимались еще более непатриотичными делами, продавая англичанами в Галифаксе и даже в Нью-Йорке жизненные припасы и другие необходимые предметы. Несмотря на то, вожаки северной партии Самуил Адамс, Ричард Генри Ли и др. держали себя так, как-будто все бремя военных расходов лежало исключительно на их штатах. В вознаграждение за это они требовали, чтобы правительство не складывало оружия до тех пор, пока Англия не разрешит Соединенным Штатам участия в рыбной ловле на мелях Ньюфаундлэнда. Впрочем, они еще раньше, в качестве английских подданных, принимали существенное участие в этом промысле. И если было бы преувеличением утверждать, что пропитание населения северных штатов исключительно зависело от рыбной ловли, то все-таки в связи с рыбными промыслами Ньюфаундлэнда развилась обширная промышленность. Южные штаты были, пожалуй, склонны помочь в этом пункте своим северным землякам при мирных переговорах. Но бурный демагогический образ действий северной партии, грозившей отпадением в случае неудовлетворения этого требования, мог лишь оттолкнуть представителей других штатов, тем более, что именно партия Адамса и Ли усвоила себе демагогический тон и постоянно нападала на официальную политику во всех вопросах, которые касались дипломатических отношений с Францией и от которых прежде всего зависело благосостояние Соединенных Штатов.
В течение долгого времени эти пререкания относительно мирных условий имели исключительно теоретический интерес. Общими усилиями союзного главнокомандующего и его друзей, с одной стороны, и представителей Франции, с другой, неоднократно удавалось сдерживать ожесточенные характеры прений и снимать с очереди пункты, по которым не предвиделось соглашения. Но даже и тогда, когда мирные переговоры начали принимать определенное очертание, французское правительство, умудренное опытом прошлого, уклонялось брать на себя выражение претензий Соединенных Штатов к Англии. Оно твердо стояло на том, что ни один из союзников не должен заключать договора с Англией без другого, и на том же основании настаивало на принципиальном признании независимости Соединенных Штатов со стороны Англии. В остальном оно заявило, что Соединенные Штаты могут непосредственно сговориться с Англией касательно мирных условий, и тщательно воздерживалось от всякого вмешательства.
Когда в марте 1782 года, благодаря личным отношениям Франклина к некоторым членам вновь сформированного английского кабинета, выяснилась, наконец, склонность всех сторон прекратить войну, борьба в конгрессе возгорелась с новой силой. Партия северных штатов, для которой было особенно желательно совершенно устранить от переговоров дружественного французам Франклина, добилась, по крайней мере, того, что в помощь ему были посланы два представителя их собственных воззрений, Джон Адамс и Джон Джей. История мирных переговоров еще раз доказала, в какой мере юное государство нуждалось еще в настоящей правительственной власти. Хотя конгресс и учредил министерство иностранных дел, но, на самом деле, уполномоченные, отправленные для мирных перегоров, не получили определенной инструкции и, очутившись на французской почве вне непосредственного вмешательства конгресса, действовали совершенно независимо от него. Тем не менее, переговоры быстро привели к результату и притом к такому, на который не мог бы расчитывать в благоприятном случае даже самый смелый политик. Причина этого лежала в политической шаткости, благодаря которой Англия могла надеяться добиться в свою пользу некоторых уступок путем привлечения на свою сторону Соединенных Штатов. Вопреки всяким дипломатическим обычаям, американские политики довели до конца мирные договоры с Англией, ни разу не уведомив французское правительство о ходе переговоров, а между тем им было не безызвестно, что одновременно с этим шли также мирные переговоры между Францией и Англией. Особенного вреда для французов от этого, конечно, не произошло, так как и они вскоре пришли к желанному результату. Однако, Франция могла убедиться из этого опыта, что союзник ее неудобен и ненадежен, рада была случаю отделаться от него и не щадила упреков в предательстве.
Мир, подписанный в Версале 3 сентября 1783 года, признавал тринадцать Соединенных Штатов Северной Америки самостоятельным государством. Почти все требования северо-американских представителей партий были удовлетворены Англией. Границею 13 штатов на юге должна была служить возвращенная испанцам Флорида. На западе им была предоставлена вся страна до Миссиссипи, по которому установлено свободное плавание, как для них, так и для прочих наций. Северная граница прошла от реки Сен-Круа через водоразделы между Гудзоном и рекою Св. Лаврентия и дальше через большие озера до истоков Миссиссипи. Затем за ними было безусловно признано право участия в рыбных промыслах на отмелях Ньюфаундлэнда. Наконец, торговый и дружественный договор между Англией и Соединенными Штатами должен был, по возможности, восстановить связь, порванную войною. Признание Соединенных Штатов со стороны прочих европейских государств несколько замедлилось, но для молодого государства это было довольно безразлично, так как оно пользовалось и признанием, и решительным расположением со стороны державы, что̀ было для него всего важнее. Таким образом, с внешней стороны республика Соединенных Штатов была установлена.
D. Конституция
Внутренняя организация Соединенных Штатов заставляла желать еще очень многого. Народ в широких массах своих был еще вовсе не готов для пользования добытою им свободою и самостоятельностью. Даже люди, которые годами стремились к этой высокой цели и уже играли роль политических вождей в провинциальных собраниях, оказались далеко не на высоте задач, предъявляемых продуктивной правительственной деятельностью. До этого времени политическая жизнь была знакома им почти исключительно с отрицательной стороны, в виде оппозиции, отстаивавшей перед королевскими губернаторами действительные и мнимые права провинции. Теперь они внесли страстный и недостойный тон в прения конгресса, и здесь этот тон тем легче укоренился, что в этом собрании недоставало противовеса со стороны твердого правительства, соблюдающего известные установленные формы.
Задача создать конституцию для тринадцати Соединенных Штатов была нелегкая, если принять во внимание взаимное недоверие штатов и столкновение интересов обеих групп, северной и южной. Когда континентальный конгресс был созван в первый раз в 1774 году, полномочия его представлялись совершенно неясными. Он состоял из депутатов от представительных собраний тринадцати провинций и в этом смысле, конечно, стоял на законной почве; но ни цель его, ни продолжительность, ни размер его полномочий не были определены. Если постановления конгресса в первые годы войны редко встречали действительное сопротивление, несмотря на то, что производили коренные жизненные изменения, то это было не столько следствием правового состояния, сколько требованием фактических условий. Сам конгресс ощущал шаткость своего правового положения. Одновременно с провозглашением независимости была, поэтому, избрана комиссия с целью создать правовую почву для обсуждения общих дел колоний. Работа этой комиссии в форме так наз. статей конфедерации была рассмотрена конгрессом только осенью 1777 года и передана затем для ратификации законодательным собраниям отдельных провинций. Прошло еще 15 месяцев прежде, чем двенадцать штатов приняли эти статьи; штат Мерилэнд отказывался принять их почти целых два года (см. ниже стр. 475). Конгресс, однако, ничего не выиграл от такого формулирования своих полномочий; наоборот, в последние годы войны авторитет его все более падал. Можно было опасаться, что он, а с ним и идея единства окончательно потеряют доверие, как скоро с окончанием войны исчезнет внешняя необходимость солидарности. Так думали все проницательные политики, как те, которые желали блага Соединенным Штатам, так и те, которые спекулировали на распадение их. Предвидя это, Вашингтон прежде, чем сложить с себя верховное начальство над союзным войском, этим воплощением единства, и вернуться к частной жизни, обратился с знаменитым письмом к законодательным собраниям отдельных штатов. В этом письме он горячо доказывал им, что прочное единение является единственным базисом великого будущего. Это проложило ему путь к будущему званию президента, но вначале его воззвание не произвело заметного действия.
В течение революционного периода в отдельных штатах также сильно окрепло чувство независимости. До провозглашения независимости можно было назвать только две провинции, Коннектикут и Род-Айлэнд, имевшие вполне республиканский характер. Во всех прочих над народным представительством стоял либо феодальный властитель, как в Пенсильвании, Делаваре и Мерилэнде, или королевский губернатор. Но во время войны эти последние штаты также переработали свои конституции в республиканском духе. И они слишком гордились вновь завоеванным правом неограниченного самоуправления, чтобы охотно поступиться им в интересах общего блага. После достижения независимости и заключения мира признавалось, что работа континентального конгресса, с его представительством всех штатов, пока исчерпана. Каждый из тринадцати штатов стремился теперь устроиться в этом новом положении так, как ему казалось наиболее выгодным с точки зрения собственных интересов. Общие дела оставались в самом позорном пренебрежении. Конгресс не был даже в состоянии уплатить жалованье союзному войску. Правда, правительства штатов изъявляли готовность поставить свои гарнизоны в городах Саванне, Чарльстоне и Нью-Йорке, которые англичане хотя и занимали еще, но должны были очистить по мирному договору. Но конгресс не в состоянии был принять на себя дальше военные посты в северных и западных пограничных территориях, которые ни для кого не представляли непосредственной выгоды так же, как не мог дать условленного вознаграждения сторонникам англичан в Соединенных Штатах. Бессилие центрального правительства производило за границей самое неблагоприятное впечатление. Во многих случаях дипломатия терпела поражения, только благодаря недостатку уважения к Соединенным Штатам. Даже в собственном отечестве конгресс потерял доверие. Пенсильвания смотрела спокойно, как корпорация, представлявшая собою союз всех штатов, была обращена в бегство 80 возмутившимися резервистами и была вынуждена перенести место своих совещаний в Принстон. Вскоре между штатами возгорелась война всех против всех. Повод к ней дал Нью-Йорк, который, не только в отношении чужих земель, но, пользуясь крайне произвольным толкованием конфедерационных статей, и в отношении своих непосредственных соседей, окружил себя оградой самых стеснительных ввозных пошлин, которые взыскивал с беспощадной строгостью. Уже в силу этого возбужден был вопрос, – не лучше ли будет предоставить конгрессу право регулировать заграничные пошлины. Только благодаря отсутствию этого права, не мог состояться желательный торговый договор с Испанией. Точно также немыслима была энергичная борьба с Англией, которая распространила теперь навигационный акт и на Соединенные Штаты: в то время, как штаты Новой Англии отвечали на это собственным навигационным актом, Коннектикут охотно предоставлял свои гавани в распоряжение англичан. Южные штаты также высказались против навигационного акта, опасаясь, что судовладельцы ново-английских штатов, с устранением всякого соперничества, настолько поднимут фрахты, что их невозможно будет выдержать.
Возобновились и старые пограничные споры. Еще в начале войны за независимость Соединенные Штаты высказывали притязание на внутреннюю страну по ту сторону Аллеганских гор и не могли сойтись лишь в том, какому штату она должна принадлежать. Массачусетс и Коннектикут требовали себе доли на основании колониальных грамот, которые охватывали их территории от океана до океана. Нью-Йорк претендовал на все страны, которые платили дань его союзникам ирокезам, а Виргиния присваивала себе всю неразделенную землю на том основании, что все прочие колонии были будто бы лишь позднее выделены из Старой Виргинии. Фактически северная Каролина владела Теннесси, а Виргиния Кентукки, и вообще отнятие западной территории у англичан во время революционной войны совершилось почти исключительно со стороны Виргинии. Но так как в то время Виргиния и без того представляла самый населенный и богатый штат, то мелкие штаты, которые не могли расширяться в будущем в силу своего географического положения, очень мало склонны были давать этому отдельному штату разрастаться до бесконечности. Пример Нью-Йорка показал им, с какою опасностью это было бы сопряжено для более мелких и более бедных соседей. Законодательное собрание искало выхода из этого столкновения интересов и еще в 1777 году внесло предложение в конгресс урегулировать вопрос относительно притязаний на территории между Аллеганами и Миссиссипи, а самую землю предполагалось разделить и образовать новые штаты. Это предложение не встретило поддержки и было отклонено. Но Мерилэнд объявил, что ставит принятие конфедерационных статей в зависимость от принятия предложения относительно западных территорий. В этом заключалась главная причина, почему этот штат, вообще безусловно верный союзу, только в 1781 году присоединился к конфедерации. Лишь в этом году Виргиния, по примеру Нью-Йорка и Коннектикута, отказалась принципиально от своих притязаний; за нею последовали Массачусетс, Северная Каролина и Георгия.
Улажение этим путем территориальных споров повело к важным последствиям в области государственного права. До того времени конгресс, не имея ни власти, ни средств, влачил жалкое существование. Теперь отречение отдельных штатов от своих притязаний на внутреннюю страну предоставило в его распоряжение область не только обширную, но и чрезвычайно богатую, как показывало цветущее состояние разбросанных в ней поселений. Вопрос был лишь в том – в какой форме должна была выразиться власть конгресса над этой территорией? Предложение виргинского президента Томаса Джефферсона образовать из этой страны немедленно десять новых штатов и дать им идеальную образцовую конституцию было отклонено, главным образом, в виду этого пункта. Кроме того, Теннесси и Кентукки успели настолько окрепнуть, что, вскоре после окончательного сформирования Соединенных Штатов, настояли на признании их полноправными штатами. Наоборот, территория к северу от Огайо была предоставлена в непосредственное распоряжение конгресса, частью для погашения военного долга путем продажи земель, частью же с целью дать возможность уволенным борцам войны за независимость основать собственный очаг при благоприятных условиях. При организации устройства этой территории были приняты во внимание общие принципы личных прав, свободы совести и проч., лежащие в основе конституции тринадцати штатов. В остальном было предоставлено конгрессу установить временные формы правления. Рабство было изгнано из этой области и предположно преобразование ее в полноправные штаты.
Благодаря тому, авторитет конгресса несколько поднялся, чему еще более способствовало то обстоятельство, что он представил образец обширной области, успешно управляемой центральною властью. Просвещенные политики, и прежде всего Вашингтон, не скрывали своего убеждения, что Соединенные Штаты могли выбраться из своего униженного положения лишь в том случае, если бы государственная жизнь их вылилась в более прочную форму на почве единения. Конгресс представлял лишь тень правительства. Будущность Америки, – и это поняли уже тогда, – заключалась в экономическом освобождении необъятных вспомогательных источников ее. А это было невозможно, пока мелкие счеты и распри между штатами постоянно подрывали общее благосостояние и давали смелость сегодня англичанам тормозить судоходство северных штатов, а завтра испанцам преграждать устья Миссиссипи для южных штатов. Первое предложение поручить конгрессу совокупные торговые дела всех Соединенных Штатов вызвало такую удивительную смесь притязаний и уступок, что немыслимо было создать что-либо прочное; поэтому оно потерпело поражение. Тем не менее, именно этому толчку обязана своим происхождением конституция Соединенных Штатов.
Как и во все политические вопросы своей родины, Вашингтон внес живой интерес в вопрос об экономическом поднятии страны. Еще до сложения команды над союзной армией он предпринял круговую поездку по северным областям, чтобы лично ознакомиться с положением водного пути между р. Гудзоном и озерами. Удалившись в частную жизнь, он особенно интересовался планом создания водного пути от залива Чизапик через Потомак к Огайо, так как общность интересов он считал лучшим звеном для обеспечения единства Соединенных Штатов. Проект канала предполагал, однако, соглашение между различными штатами; но когда был принят в принципе съезд делегатов четырех наиболее заинтересованных штатов, то возник план расширить совещания делегации за пределы узких рамок постройки канала, и представить на рассмотрение ее экономические и в частности торговые потребности Соединенных Штатов вообще, и для этого разослать всем штатам приглашение. Таким образом, в сентябре 1786 года состоялась конвенция в Аннаполисе. Сама по себе она не сопровождалась никакими результатами, но дала толчок к важному по своим последствиям решению просить конгресс о созвании новой конвенции для совещания о каналах и торговых путях, и вообще о предметах, касающихся благосостояния Соединенных Штатов.
Конгресс не прочь был удовлетворить ходатайство конвенции Аннаполиса. Но прежде, чем дело дошло до этого, распространилась весть, что Виргиния уже назначила депутатов для предстоящей конвенции и что Вашингтон принял полномочие. Популярность этого имени произвела чудеса. В течение короткого времени еще четыре других штата назначили своих депутатов, и по предложению Массачусетса, конгресс поспешил разослать приглашение на конвенцию в Филадельфии в сентябре 1787 года. В том самом здании, которое было местом конгресса в эпоху войны, собралась конвенция, трудами которой была создана окончательная конституция Соединенных Штатов. Двенадцать штатов (Род-Айлэнд отсутствовал) имели там 55 делегатов, которые в первом своем заседании избрали Вашингтона президентом. Совещания происходили тайно и вначале не имели обязательности для докладчиков. Но именно это сознание, что работа их может сделаться законом лишь после новой проверки в конгрессе и в законодательных собраниях, дало делегатам мужество, не ограничиваясь робкими компромиссами с существующими условиями, предложить совершенно новую конституцию, построенную на существенно измененных основаниях.
Большинство депутатов проникнуто были сознанием, хотя об этом и не говорилось, что главная цель собрания их заключается в том, чтобы укрепить союз 13 штатов и поставить его на более твердую основу. Федералистам противостояла партия антифедералистов, составлявшая меньшинство. Дальнейший ход совещаний вызвал потом иные группировки депутатов, и решения конвенции явились, в конце концов, результатом длинного ряда компромиссов. Но здесь важно уже то, что, вместо занятий догматической политикой, все партии принимали живое участие в общем деле, обмениваясь мыслями, и это было актом высокой государственной мудрости.
Виргиния, которая дала импульс к созванию конвенции, первая выступила здесь с определенным планом. Под ответственностью губернатора Эдмунда Рандольфа, собранию был предложен план более действительной организации центральной власти, выработанный, главным образом, Джемсом Мэдисоном. Конгресс должен был избираться всеми гражданами Соединенных Штатов и являться, следовательно, непосредственным выражением верховной власти народа. По образцу законодательных собраний в большинстве государств, конгресс должен был состоять из двух палат. Нижняя палата избиралась при помощи прямых выборов, верхняя палата нижнею из среды лиц, предложенных законодательными собраниями отдельных штатов. В том и другом случае число делегатов соответствовало числу жителей и количеству налогов. Голосование в обеих палатах совершалось не по штатам, как в прежнем конгрессе, а поименно, и дела решались простым большинством, тогда как раньше требовалось большинство двух третей. Наконец, созданный таким образом конгресс не только являлся верховной инстанцией в общих делах, но мог накладывать veto на постановления правительств отдельных штатов, опасные для общего блага.
В своей совокупности, этот план имел слишком централистический характер, чтобы он мог быть одобрен антифедералистами. Но самый существенный пункт его, создание народного представительства в палате депутатов, был спасен для будущей конституции с помощью одного из государственных компромиссов. Федералисты голосовали за т. наз. план Нью-Джерсея, внесенный Уильямом, Паттерсоном, хотя и в измененной форме, согласно которому все штаты, безразлично, большие или малые, бедные или богатые, имеют в верхней палате (сенате) по два делегата. Взамен того, антифедералисты согласились на избрание по одному представителю на каждые 30000 жителей и индивидуальный способ голосования для обеих палат. Выбор депутатов в зависимости от численности населения повел к новому разногласию во мнениях. Как понимать число населения в штатах? Принимать ли во внимание индейцев и негров при определении числа депутатов, посылаемых каждым штатом? Этот вопрос сразу обнаружил пропасть, существовавшую между северными и южными штатами, и, вероятно, еще больше затруднил бы работу конвенций если бы не удалось прийти к компромиссу на основании бывшего счастливого прецедента. Когда в 1783 г. требовалось определить суммы, причитающиеся на долю каждого отдельного штата для покрытия расходов на общие дела, то южные штаты должны были, в конце концов, согласиться, чтобы пять черных считать равными трем белым. И когда теперь необходимо было считаться с населением негров для выбора депутатов, то представители северных штатов, конечно, припомнили им их эгоизм. Югу и в этом случае оставалось лишь остановиться на системе трех пятых.
Конвенция с самого начала принципиально признала, что будущий конгресс должен быть высшим руководителем внешней торговли Соединенных Штатов. Но здесь обращено было внимание на вопрос о рабстве и возникли прения о том, в праве ли конгресс воспрещать торговлю рабами. Аболиционное движение (в пользу отмены рабства) было тогда очень сильно в Северной Америке: за исключением южной Каролины и Георгии, все штаты высказывались против дальнейшего существования работорговли, и многие депутаты были противниками рабства вообще. Но в виду существования значительной розни интересов в группах конвенции, нежелательно было подавить эти два штата простым голосованием. Южные штаты дали согласие на признание за конгрессом верховной власти в торговых делах, власти, весьма несимпатичной для них, и взамен того им было обеспечено существование работорговли еще на 20 лет.
После того, как полномочия будущего конгресса и законодательных штатов были ясно разграничены целым рядом обстоятельных постановлений, оставалось еще организовать исполнительную власть. Несмотря на все нерасположение к монархическому началу, большинство членов конвенции быстро пришло к тому, чтобы во главе исполнительной власти было поставлено одно лицо. Но вопрос о способе избрания этого лица вызвал бесконечные дебаты, во время которых полуготовое здание не раз грозило рухнуть. Наконец, согласились на том, что президент Соединенных Штатов избирается особой, назначенной для этого выборной коллегией на четыре года, но затем может быть выбран вновь. Способ избрания коллегии предоставлялся отдельным штатам. Только с 1868 года установлено было образование выборной коллегии путем непосредственных народных выборов.
Конвенция в Филадельфии совершила весь свой труд в сознании необязательности его; это обстоятельство помогало ей, особенно вначале, обходить некоторые затруднения. Но хотя, в течение занятий ее, два депутата от Нью-Йорка демонстративно удалились, а в конце три других члена (два от Виргинии и один от Массачусетса) отказались подписать плод совещаний нескольких месяцев, большинство, тем не менее, вполне сознавало, что за ним стоит все население молодого государства. Дальнейшая судьба внесенных ими предложешй доказала, что они не ошиблись в этом.
20 сентября 1787 года Вашингтон представил конгрессу труд конвенции (см. табл. «Вступление и заключение конституции Соединенных Штатов»). Партия антифедералистов готова была провалить его и с этой целью внесла предложение о пересмотре в конгрессе проекта конституции во всей его целости и об изменении его в случае надобности. На стороне федералистов оказалось, однако, громадное большинство, когда они постановили, чтобы труды конвенции были тотчас же переданы в неизмененном виде на голосование отдельных штатов. Первый штат, который высказался в пользу новой конституции, был Делавар; 6 декабря она была принята здесь единогласно. За ним последовали Пенсильвания и Нью-Джерсей еще в декабре, Георгия и Коннектикут в январе и Массачусетс, после серьезных прений, в феврале 1788 года. Согласно прежней конституции, требовалось для принятия большинство, по меньшей мере, девяти штатов; но и в этом случае затруднения были обойдены при помощи компромисса. Уже Массачусетс хотел высказаться лишь в смысле условного признания; точно также стояли дела в Виргинии. Но Вашингтон справедливо указывал на то, что колебания в только что созданном деле были бы равносильны его отрицанию. Конституция сама указывает средства, как дополнять ее и развивать дальше, и в этом должны искать удовлетворения те штаты, желания которых не совсем выполнены. Эти доводы оказались убедительными для Массачусетса и были признаны и другими законодательными собраниями. До июня, еще раньше, чем последовало решение Виргинии, получено было согласие девятого
Копия и перевод акта
| We the people of the United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America. Article I Section 1. All legislative powers herein granted shall be vested in a Congress of the United States, which shall consist of a Senate and House of Representatives. Section 2. [1] The House of Representatives shall be composed of membres chosen every second year by the people of the several states, and the electors in each state shall have the qualifications requisite for electors of the most numerous branch of the state legislature. |2| No person shall be a Representative who shall not have attained to the age of twenty five years, and been seven years a citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an inhabitant of that state in which he shall be chosen. |3] Representatives and direct taxes shall be apportioned among the several states which may be included within this union, according to their respective numbers, which shall be determined by adding to the whole number of free persons, including those bound to service for a term of years, and excluding Indians not taxed, three fifths of all other persons. The actual enumeration shall be made within three years after the first meeting of the Congress of the United States, and within every subsequent term of ten years, in such manner as they shall by law direct. The number of Representatives shall not exceed one for every thirty thousand, but each state shall have at least one Representative; and until such enumeration shall be made, the state of New Hampshire shall be entitled to chuse three, Massachusetts eight, Rhode-Island and Providence Plantations one, Connecticut five, New York six, New Jersey four, Pennsylvania eight, Delaware one, Maryland six, Virginia ten, North Carolina five, South Carolina five, and Georgia three. |4] When vacancies happen in the representation from any state, the executive authority thereof shall issue writs of election to fill such vacancies. |5] The House of Representatives shall chuse their Speaker and other officers; and shall have the sole power of impeachment. Section 3. [I] The Senate of the United States shall be composed of two Senators from each state, chosen by the legislature thereof, for six years; and each Senator shall have one vote. [2] Immediately after they shall be assembled in consequence of the first election, theshall be divided as equally as may be into three classes. The seats of the Senators of the first class shall be vacated at the expiration of the second year, of tiie second class at the expiration of the fourth year, and of the third class at the expiration of the sixth year, so that one third may be chosen every second year; and if vacancies happen by resignation, or otherwise, during the recess of the legislature of any state, the executive thereof may make temporary appointments until the next meeting of the legislature, which shall then fill such vacancies. [3] No person shall be a Senator who shall not have attained to the age of thirty years, and been nine years a citizen of the United States, and who shall not, when elected, be an inhabitant of that state for which he shall be chosen. |4| The Vice President of the United States shall be President of the Senate, but shall have no vote, unless they be equally divided. [5| The Senate shall chuse theif other officers, and also a President pro tempore, in the absence of the Vice President, or when he shall exercise the office of President of the United States. h6C * * * [Art. VI, clause 3] The Senators and Representatives before mentioned, and the members of the several state legislatures, and all executive and judicial officers, both of the United States and of the several states, shall be bound by oath or affirmation, to support this constitution; but no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Article VII The ratification of the conventions of nine states, shall be sufficient for the establishment of this Constitution between the states so ratifying the same. Done in Convention by the unanimous consent of the states present the seventeenth day of September in the year of our Lord one thousand seven hundred and eighty seven and of the independence of the United States of America the twelfth. In witness whereof we have hereunto subscribed our names | Мы, народ Соединенных Штатов, желая образовать более полный союз, обеcпечить справедливость и внутреннее спокойствие, организовать общую оборону, содействовать благополучию всех и сохранить для нас и наших потомков благо свободы, начертали и установили следующую Конституцию Соед. Штатов Америки: Статья первая Отд. I. Вся сим устанавливаемая законодательная власть вверяется Конгрессу Соед. Штатов, который должен состоять из Сената и Палаты Представителей. Отд. 2. [1] Палата Представителей состоит из членов, избираемых через каждые два года населением различных штатов. Избиратели в каждом штате должны обладать правами, потребными для избирателей наиболее многочисленной ветви государственного законодательства. Представителем не может быть никто, не достигший 25-летнего возраста, не состоявший 7 лет гражданином Соед. Штатов и в момент выборов не считающийся жителем штата, в котором он избирается. Число представителей и прямые налоги распределяются между различными штатами, долженствующими войти в этот Союз, соответственно численности их населения. Численность эта устанавливается таким образом, что к общему числу свободных лиц, куда включаются и те, кто обязан срочною службою, но исключаются не облагаемые индейцы, прибавляют 3/5 всех остальных лиц. Настоящая перепись должна быть произведена в течение 5 лет после первого собрания Конгресса Соед. Штатов и повторяться, согласно указанию закона, через каждые 10 лет. Число избираемых представителей не должно превышать одного на 30000; но каждый штат должен иметь, по крайней мере, одного представителя. Впредь до осуществления подобной переписи штат Нью-Гэмпшир имеет право избирать 3 представителей, Массачусетс 8, Род-Айлэнд и Плантации Провиденс 1, Коннектикут 5, Нью-Йорк 6, Нью-Джерсей 4, Пенсильвания 8, Делавар 1, Мэрилэнде 6, Виргиния 10, Северная Каролина 5, Южная Каролина 5 и Георгия 3. [4] Если в каком-либо штате освобождается депутатская вакансия, то исполнительная власть штата назначает выборы для замещения этой вакансии. [5] Палата Представителей избирает своего спикера и прочих чиновников и одна имеет право привлечения к ответственности (служащих государству). Отд. 3. [1] Сенат Соед. Штатов состоит из двух Сенаторов от каждого штата, избираемых его законодательным собранием на 6 лет, и каждый сенатор имеет один голос. [2] B первом же собрании после выборов они разделяются, по возможности поровну, на три класса. Места сенаторов первого класса должны освобождаться по истечении второго года, места второго класса по истечении четвертого года и третьего класса по истечении шестого года, так что через каждые два года избирается вновь одна треть всех сенаторов. Если случится вакансия вследствие отказа или иной причины во время перерыва в занятиях законодательного собрания штата, то исполнительный орган временно замещает ее до ближайшего собрания, которое окончательно заполняет вакансию. [3] Никто не может сделаться сенатором, не достигиув 30 лет, не пробывши 9 лет гражданином Соединенных Штатов и не числясь в момент выборов жителем штата, от которого он избирается. [4] Вицепрезидент Соединенных Штатов состоит Президентом Сената, но имеет голос лишь при равенстве голосов. [5] Сенат избирает своих прочих чиновников, а также Президента pro tempore, если Вицепрезидент отсутствует или замещает Президента Соединенных Штатов. h6C * * * [Ст. 6, парагр. 3.] Названные выше сенаторы и представители, члены различных законодательных собраний штатов и все исполнительные и судебные чиновники Соединенных и отдельных Штатов обязуются присягою или подтверждением поддерживать сию Конституцию, но для занятия какой-бы то ни было должности в Соединенных Штатах не требуется религиозной присяги. Статья седьмая Ратификация конвенций девяти штатов достаточна для введения настоящей Конституции в штатах, которые ее утвердили. Дана с общего согласия всех наличных штатов 17-го сентября 1787 года и в двенадцатый год независимости Соединенных Штатов Северной Америки. В удостоверение чего мы подписываем ниже наши имена | ||
| George Washingtjn, Hrtsident and Deputy from Virginia | Георг Вашингтон, президент и депутат от Виргинии | ||
| New Hampshire | John Langdon | Нью Гэмпшир | Джон Ленгдон |
| Nicholas Gilmann | Николас Джильман | ||
| Massachusetts | Nathaniel Gorham | Массачусетс | Натаниель Горгэм |
| Rufus King | Руфус Кингс | ||
| Connecticut | William Samuel Johnson | Коннектикут | Уильям Самуэль Джонсон |
| Roger Sherman | Роджер Шерман | ||
| New York | Alexander Hamilton | Нью Йорк | Александр Гамильтон |
| New Jersey | William Livingston | Нью Джерсей | Уильям Ливингстон |
| David Brearley | Дэвид Брирлей | ||
| William Paterson | Уильям Пэтерсон | ||
| Jonathan Dayton | Джонатан Дэйтон | ||
| Pensylvania | Benjamin Franklin | Пенсильвания | Бенжамин Франклин |
| Thomas Miflin | Томас Мифлин | ||
| Robert Morris | Роберт Моррис | ||
| George Clymer | Джорж Клэймер | ||
| Thomas FitzSiemons | Томас Фиц-Симонс | ||
| Jared Ingersoll | Джерд Ингерсолль | ||
| James Wilson | Джемс Уильсон | ||
| Gouverneur Morris | Губернатор Моррис | ||
| Delaware | George Read | Делавар | Георг Рид |
| Gunning Bedford jun. | Гоннинг Бедфорд младш. | ||
| John Dickinson | Джон Дикинсон | ||
| Richard Bassett | Ричард Бассет | ||
| Jacob Broom | Джакоб Брум | ||
| Maryland | James McHenry | Мерилэнд | Джемс Мак-Генри |
| Daniel Jenifer of Saint Thomas | Даниел Дженифер Сен-Томас | ||
| Daniel Caroll | Даниел Карролль | ||
| Virginia | John Blair | Виргиния | Джон Блейр |
| James Madion jun. | Джем Мэдисон млад. | ||
| North Carolina | William Blount | Северная Каролина | Уильям Блоунт |
| Richard Dobbs Spaight | Ричард Доббс Спэйт | ||
| Hugh Williamson | Хюг Уилльямсон | ||
| South Carolina | John Rutledge | Южная Каролина | Джон Ротлэдж |
| Charles Cotesworth Pinckney | Чарльс Котсуорс Пинкней | ||
| Charles Pinckney | Чарльс Пинкней | ||
| Pierce Butler | Пайерс Ботлер | ||
| Gergia | William Few | Георгия | Уилльям Фью |
| Abraham Baldwin | Авраам Бальдвин | ||
| Attest William Jackson Secreary | Скрепил Уилльям Джексон, секретарь | ||
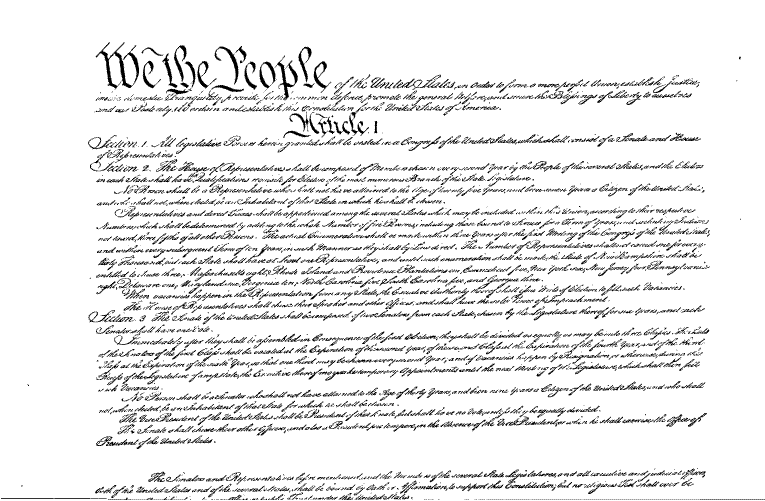
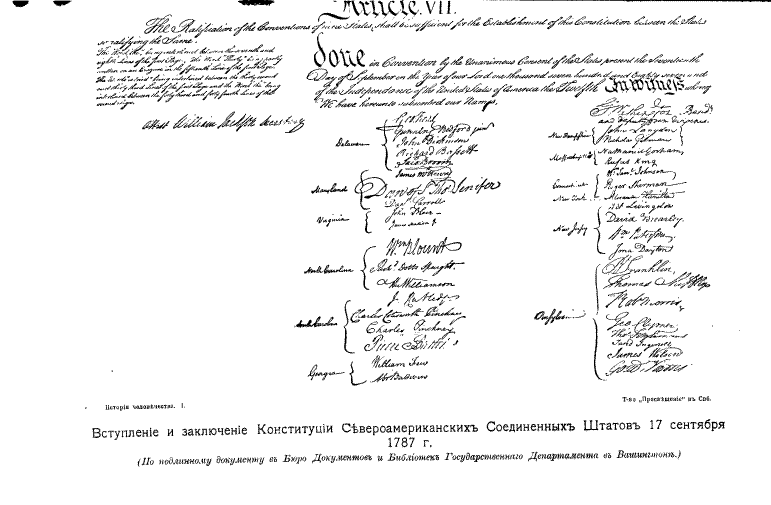
штата. Вслед затем были назначены выборы президента, на которых 7 января 1789 года принимали участие все штаты, за исключением Нью-Йорка, северной Каролины и Род-Айлэнда. 69 депутатов избрали единогласно Вашингтона первым президентом Союза.
Е. Эпоха великих виргинцев
Не подлежало никакому сомнению, что в Соединенных Штатах не было другого гражданина, которому они могли бы вручить свою судьбу с таким же безграничным доверием, как Георгу Вашингтону. Он соединял в себе, вместе с тончайшим светским тактом, бескорыстие, стоявшее выше всякого сомнения, и твердую веру в великое будущее своего отечества, в распоряжение которого он отдавал свои богатые способности, свое высокое образование и обширный практический опыт. Он не искал президентского кресла и, получив его, пожал лишь плоды долголетней деятельности на общую пользу.
Оставаясь в течение всей войны за независимость выше всяких партий, он пожелал остаться вне партий и теперь, в качестве главы государства, и соединить вокруг себя лучшие силы страны для совместной работы. Вскоре, однако, опыт убедил его, что столь высокие взгляды трудно провести в жизни. В борьбе из-за конституции положено было начало резкому обособлению партий. И этот партийный дух неизбежно сообщился тем лицам, которых Вашингтон избрал в свои сотрудники. Самая настоятельная задача нового правительства заключалась в восстановлении кредита Соединенных Штатов и вместе с тем доверия к ним извне и внутри. В лице Александра Гамильтона Вашингтон располагал финансовой силой первой степени. Гамильтон играл уже в конвенции видную роль; принятие конституции в законодательном собрании Нью-Йорка было, главным образом, его делом. Но он с такой силой отстаивал сильную центральную власть, что ему, не без основания, приписывали пристрастие к монархической форме правления. Такой взгляд поставил его во главе федералистической партии, а противникам его дал удобный повод к подозрениям. В свою очередь, резкость Гамильтона не мало способствовала обострению отношений. Первые мероприятия его, установление соединенного государственного долга и принятие Союзом на себя государственных долгов, явно преследовали централистические тенденции. Но в глазах противников его они являлись большим злом, так как открывали для богатых купцов северных штатов перспективу доходных, хотя и не совсем чистых дел: они скупали в больших количествах обесцененные государственные бумаги, а с повышением их снова сбывали с большим барышом. Когда Гамильтон, чтобы добыть средства для этих финансовых операций, предложил налог, который, по его собственному заявлению, должен был напоминать каждому отдельному гражданину о принадлежности его к Союзу с самой чувствительной стороны, со стороны кармана, то в нем ярко выказался человек партии. И не только антифедералисты после того объявили ему войну; на западе вспыхнуло даже восстание против власти Союза. Для Гамильтона такой поворот был не совсем не желателен. Проведя в конгрессе свой проект налога в измененном виде, он сумел побудить Вашингтона отправить внушительное войско для подавления восстания. Собственно говоря, слабое возмущение не требовало такой меры, но Гамильтон хотел дать осязательное понятие о силе центральной власти.
Вашингтон, по своим политическим убеждениям, был также федералистом, но не в партийном смысле слова, как Гамильтон. Поэтому он одновременно с тем, избрал в число своих министров человека, который впоследствии сделался главою антифедералистов: Томаса Джефферсона. Когда последний возвратился с своего поста во французском посольстве, Вашингтон поручил ему пост государственного секретаря, и Джефферсон выразил готовность принять его. В то время он еще представлял собою чистый лист бумаги; он доказал это тем, что вначале помогал Гамильтону проводить в конгрессе планы регулирования долгов. Но, подобно тому, как Гамильтон был «северянином», Джефферсон уже бессознательно чувствовал в себе «южанина». Гамильтону пришлось купить его содействие тем, что он привлек голоса своих сторонников в пользу устройства будущей столицы Союза в области южных штатов в Потомаке. Главное несчастие всей этой партии заключалось в том, что лозунгом ее были исключительно вопросы материальных интересов, и что ее не воодушевляли идеальные точки зрения и определенные убеждения. Эти интересы всегда разделяли союз на два географически ограниченных лагеря, так как выгоды северных штатов, занимавшихся торговлею, шли в разрез с выгодами земледельческого Юга. Несогласия федералистов и антифедералистов выяснились и приобрели почву в действительности только во время борьбы за союзную конституцию. Когда конституция была закончена и практически введена, это обозначение партий сохранило лишь номинальное значение; на самом деле господствующая партия всегда была более или менее федералистическою, тогда как оппозиция ловко прикрывала стремлением к децентрализации свои эгоистические цели.
Вашингтон имел сильное желание удалиться в частную жизнь по окончании периода его первого четырехлетия в звании президента. Но он снова был избран единогласно на дальнейшие четыре года, уступив просьбам всех партий. Для молодого государства это было безусловно большим счастьем, так как в эти годы для него наступили тяжелые испытания, с которыми только дальновидный такт Вашигтона в состоянии был справиться. Дружба с Францией все еще играла большую роль для Соединенных Штатов, тем более, что вспыхнувшая там революция стремилась к созданию государственного строя, который представлял много сходства с условиями Соединенных Штатов. Однако, для этой дружбы наступил критический момент, когда свержение королевской власти и провозглашение республики вовлекло французское государство в военные осложнения. Южные штаты, которые еще в 1782 году стояли за французский союз, впали теперь в опьянение от громких фраз французских республиканцев и готовы были бок-о-бок сражаться с ними против деспотов. Для Соединенных Штатов, однако, это не имело бы никакого смысла, так как экономические отношения их к Франции были крайне ничтожны, между тем как от торговых сношений с Англией зависело почти все благосостояние северных штатов. В виду того, Вашингтон провозгласил строжайший нейтралитет. Конечно, это не улыбалось французским республиканцам, дипломаты которых обнаруживали теперь такую же бесстыдную назойливость, как некогда американцы. Французский уполномоченный считал себя в праве вербовать солдат в американских городах и снаряжать каперские суда, так как не только на юге, но даже в Нью-Йорке народ устраивал ему восторженные встречи. Но Вашингтон не давал себя сбить с пути, раз намеченного, и народная масса примкнула к нему, когда посланник своим бестактным поведением обострил дело до такой степени, что затронута была самая честь американского государства.
Положение союзного правительства было бы существенно легче, если бы у него не было в то же время справедливых доводов жаловаться на Англию. Последняя все еще не очищала постов в западной области Союза, потому что долговые требования еще не были удовлетворены. Кроме того, меры, при помощи которых Англия старалась стеснять торговлю нейтральных государств с Францией и монополизировать торговые сношения с своей страною, в интересах собственных подданных, наносили ущерб торговле Соединенных Штатов в самых различных направлениях. Этому трудно было, однако, существенно помочь, пока продолжалась война между Францией и Англией; Вашингтону удалось, правда, добиться путем договора при посредстве Джона Джея, некоторых облегчений, но многие стеснения все еще оставались в силе, и преемникам его суждено было еще много лет бороться с этими затруднениями.
Прослужив второе четырехлетие, Вашингтон безусловно отклонил новое избрание, и пришлось поставить во главе государства другое лицо. Уже при этом случае партия федералистов начала сама себе рыть яму. Гамильтон пустился в различные выборные маневры, чтобы оттеснить Джона Адамса, лично ему неприятного, от поста президента. Но эта цель не была достигнута. Наоборот, Джон Адамс (1797–1801) искал у антифедералистов опоры против собственной партии. Течение сильно подталкивало, против собственной воли, к войне с Францией. Директория своим недостойным отношением заставила Соединенные Штаты порвать с ней дипломатические сношения; под предлогом контрабанды, она вскоре объявила такую войну американской торговле, хуже которой никогда не вела даже Англия. При таких условиях федералистическая партия воспрянула и приняла решение объявить войну Франции; но еще раньше, чем этот шаг был сделан формально, Адамс воспользовался первым намеком со стороны Франции на уступчивость, чтобы примириться с нею. Поражение федералистов было тем тяжелее, что они одновременно сделали столь же неразумный шаг и во внутренней политике. Чтобы освободиться от чужеземной агитации в стране, они внесли строгий закон против нее и против оскорблений правительства и провели его, несмотря на сильные протесты. Антифедералистическая партия усмотрела в этом верх незаконности. Законодательные собрания в Кентукки и Виргинии устроили заседания с целью выражения протеста. При этом были приняты знаменитые решения, в которых государственные юристы отстаивали право оказывать, в случае надобности, даже активное сопротивление незаконным постановлениям конгресса. Эти решения в первое время не имели большого значения, но впоследствии они служили опорою для аргументации всех, кто добивался уступок.
Ближайшие президентские выборы поставили во главе государства Джефферсона. Благодаря неудачной выборной тактике, антифедералисты достигли того, что Джефферсон и Бур, избранный вицепрезидентом, получили одинаковое число голосов. Бессовестный Бур был охотно готов выбить Джефферсона из седла; но федералисты, которые в этом помогали ему, добились лишь того, что сами навлекли на себя неудовольствие. Джефферсон вышел из борьбы вдвойне победителем. Правление его еще раз ясно доказало, что находиться в оппозиции и управлять самому – две совершенно различные вещи.
Отношения к державам Европы, находившимся в войне между собой, все еще определяли политику союзного правительства. Со времени провозглашения независимости, не прекращались споры Соединенных Штатов с Испанией по поводу плавания по Миссиссипи. По Парижскому миру Англия объявила это плаванье свободным, но так как она в то же время уступила Флориду Испании, то устья реки перешли исключительно в испанские руки, и мадридское правительство безусловно воспретило плаванье по своей области. Только после долгих переговоров в 1795 году, Новый Орлеан был открыт для американских судов. Но почти тотчас же после того начались переговоры, которые привели к уступке Луизианы Франции и, следовательно, к новому изменению условий плаванья в устьях Миссиссипи. Союзное правительство много раз задумывалось над тем, как избежать перехода пограничной области между Луизианой и Флоридою из слабых рук Испании в руки Англии или Франции. Джефферсон не терял ни минуты и вступил в переговоры с новым владельцем Луизианы, по поводу отношений между соседями. При этом он сделал поразившее его открытие, что первый консул, Наполеон, был не прочь уступить эти владения, имевшие для него сомнительную ценность. Джефферсон считал, впрочем, что конституция не уполномочивает его приобретать новые земли для Союза, но, с другой стороны, он не мог упустить единственного случая к расширению и обеспечению союзных границ. Поэтому он безусловно одобрил поступок своего посланника, который купил эту область у Франции за 15 миллионов долларов. Правда, поднялась довольно значительная оппозиция, особенно со стороны северных штатов, которые опасались, что открытие устьев Миссиссипи нанесет ущерб их торговле. Но даже враги Джефферсона не были настолько слепы, чтобы серьезно затормозить столь выгодную сделку.
Осенью 1804 года Джефферсон был снова избран в президенты на следующее четырехлетие. Второй период его службы был исполнен чрезвычайно трудных обстоятельств. Чем более обрисовывалась истинная натура Наполеона и выступало его величие, тем с бо̀льшим ожесточением разгоралась война в Старом Свете. В эту войну вовлекались и Соединенные Штаты, так как обе морские державы, Англия и Франция, самым жестоким образом преследовали сношения граждан Союза с их врагами. При этом поведение Англии было, пожалуй, еще враждебнее, чем Франции, хотя обе нации позволяли себе каперские захваты американских судов чуть ли не в их собственных гаванях. Однако, благодаря старому расположению южных штатов к Франции и восторженному отношению Джефферсона к этой стране, условия складывались так, что гнев союзного правительства прежде всего направлялся против Англии. Еще со времен войны за независимость укоренилось убеждение, будто прекращение всяких торговых сношений является особенно острым оружием в борьбе с Англией. И так как с американской стороны могли страдать при этом преимущественно торговые северные штаты, то господствовавшая в то время партия южных штатов добилась немедленного принятия предложения относительно захвата кораблей (embargo), что продолжалось несколько месяцев. На самом деле, однако, эта мера причиняла серьезный ущерб одной лишь американской торговле, так как Англия почти всецело господствовала и в американских водах и покровительствовала, благодаря тому, незаконной торговле, чем почти совершенно подрывала отсутствие законной. Все громче раздававшийся ропот Севера произвел, наконец, влияние на конгресс. Джефферсон сам имел в виду скорую отмену захватов; но к концу срока своей службы он настолько уже утратил власть над умами, что противная партия, против его воли, добилась немедленной отмены.
Перемена президентства не вызвала, впрочем, изменений ни внешнего, ни внутреннего положения. Мэдисон, подобно Джефферсону, принадлежал к вождям партии южных штатов, но, подобно последнему, в силу обязанностей, налагаемых положением президента, все более и более склонялся на сторону федералистов. Одно было несомненно, что его личное влияние на партию Юга было гораздо слабее, чем влияние его предшественника. При вступлении в президентство, он застал те же отношения к Англии и Франции. Отмена embargo не вызвала у Англии существенного облегчения стеснений с ее стороны. Наоборот, возникшие переговоры кончились тем, что Англия в оскорбительной форме отклонила все требования и отказала в каких бы то ни было уступках до тех пор, пока Соединенные Штаты не примут более решительного положения против Франции. Правда, последняя не заслуживала пощады со стороны Америки, так как она держалась столь же враждебно, как и Англия. Но фразы о «традиционной дружбе» между францией и Союзом все еще не утратили своего обаяния, и правительство не могло решиться повернуть фронт против Франции и этим купить сомнительную дружбу Англии. При таких условиях продолжались переговоры с обеими державами относительно отмены мер, стеснявших торговлю нейтральных государств, между тем, как обе стороны поступали неприязненно с американскими судами, которые не дерзали отвечать тем же. Из этого безвыходного положения правительство было выведено, наконец, с такой стороны, с которой оно меньше всего могло ожидать этого.
На Юге, в партии антифедералистов, образовалась новая группа, которая стала проводить в более резкой форме односторонюю политику своей партии. Вожди этой партии, Клей и Кальгун, увлекались панамериканскими идеями, первою целью которых было завоевание Канады. Поэтому они грозили президенту лишить его своей помощи при предстоявших выборах, если он не обнаружит энергической политики против Англии. Мэдисон из честолюбия стремился во что бы то ни стало продержаться два четырехлетия во главе государства, подобно своим предшественникам, и этому желанию он принес в жертву свое миролюбие. 1 апреля 1812 года он возобновил торговую войну, восстановив еще раз embargo. Но так как Север не был склонен к воинственной политике и не желал входить в расходы ради Юга, то результата почти не получилось. Однако, военная партия продолжала настаивать, и Мэдисон уступил.
Как бы в насмешку над стремлениями американцев, именно в это время и в Англии, и во Франции последовала отмена декретов, стеснявших торговлю нейтральных государств. Но прежде, чем определенная весть об этом успела дойти до Америки, послушное большинство в конгрессе решило и объявило войну Англии (18 июня 1812 г.). Если уже война за независимость, несмотря на преобладавшую тогда общность интересов, разоблачила весьма печальную картину военной силы Союза, то можно было сказать это еще в большей мере относительно настоящей войны, которую Север с самого начала клеймил названием партийной войны своих противников. Вероятно, Англия некоторое время действительно лелеяла надежду расшатать Союз и побудить северные штаты образовать отдельный союз, настроенный дружественно относительно Англии. Подобное обвинение против северных штатов опиралось, главным образом, на переговоры при заключении Гартфордской конвенции. Но это собрание, на котором официально присутствовали лишь представители Род-Айлэнда, Коннектикута и Массачусетса, успело в сущности не больше, чем сделали в южных штатах решения Кентукки и Виргинии против Адамса (см. стр. 481); оно отстаивало право отдельных штатов считать для себя необязательными несправедливые и опасные решения союзного правительства, и, вероятно, также принципиальное право сопротивляться подобным постановлениям с оружием в руках. Однако, в данный момент подобной случайности, по их мнению, не представлялось, и, отказываясь принимать активное участие в войне, они все еще были далеки от того, чтобы вступать в отдельные переговоры с Англией.
Ход войны несомненно свидетельствовал о том, как мало она была подготовлена и в общем непопулярна. Согласно плану, выработанному Мэдисоном, война должна была ограничиваться обороною побережья, а на севере перейти в энергическое наступление так, чтобы, по возможности, навсегда овладеть Канадою. Но он не мог создать необходимых для того средств. Набор и вербовка, утвержденные конгрессом, далеко не удовлетворяли потребности; даже милиция, насколько могла, уклонялась от службы. К этому присоединялась полнейшая неспособность генералов, вследствие чего первый поход завершился позорнейшими неудачами, которые не могли быть вполне заглажены во время обоих последующих походов. Состояние обороны побережья также оказалось весьма плачевным. Правда, в каперской войне корабли и моряки северных штатов, как некогда в войне за независимость, оказались противниками, которыми нельзя было пренебрегать. Во многих стычках они обнаружили такую храбрость, что союзное правительство решило в будущем обратить серьезное внимание на создание союзного флота. Но там, где англичане действовали флотами, а не отдельными кораблями, они почти нигде не встречали настоящего сопротивления. Уже в два первые похода это должны были тяжело испытать на себе многие приморские города; в 1814 году англичане высадились в Потомаке, овладели столицею Союза и сожгли ее, причем им ни разу не понадобилось серьезно прибегнуть к оружию. Союзное правительство было рассеяно и почти совершенно перестало существовать.
В это время явилась неожиданная помощь союзу с Юга. Еще в эпоху войны за независимость как англичане, так и американцы, прибегали к помощи индейцев, но с весьма различным успехом. Краснокожие даже тогда, когда американцы обещали им величайшие выгоды, не забывали дурного обращения с ними со стороны всех английских колонистов вообще, в прошлом и в настоящем. Поэтому они являлись недоброжелательными и ненадежными союзниками. Но англичане заняли в Канаде место французов и, по крайней мере, отчасти следовали их разумной политике по отношению к индейцам. Притом они еще долго после провозглашения независимости удерживали позиции на западе и здесь вступали в общение с индейцами. Еще Вашингтону приходилось в течение многих лет вести войны с индейцами, в которых успех достигался лишь беспощадным применением силы и был связан с неоднократными тяжкими потерями. И теперь индейцы точно также охотно переходили массами на сторону англичан. Возник даже план всеобщего восстания индейцев от северных озер до Флориды, вдохновляемый воинственными речами Текумсэ. На севере этот проект не привел к удачным результатам; но в южных и юго-западных штатах поднялось племя криков, которое грозило американцам серьезною опасностью. Здесь впервые появился на сцене Эндрью Джексон. Его беспощадный характер, с одной стороны, но и несомненные военные таланты, с другой, дали ему возможность устранить опасность сравнительно ничтожными средствами, несмотря на тайную поддержку, которую индейцы получали из Флориды.
Эти сражения обратили внимание англичан на южные и на западные границы. Поняв значение, которое должно было иметь устье Миссиссипи для северо-американцев, быстро подвигавшихся к западу, они решили сделать попытку укрепиться там. Граница испанских владений во Флориде была с давних времен предметом спора между Испанией и Союзом. Новый Орлеан был составною частью Луизианы, чего не могли отрицать и испанцы; но в остальном они претендовали на восточный берег Миссиссипи, тогда как Соединенные Штаты стремились обладать обоими берегами и были даже не прочь купить всю западную Флориду. Этой неясностью границы воспользовались англичане. Они пристали к Пенсаколе и избрали этот испанский город базисом для наступления. Здесь, однако, они натолкнулись на равносильного противника. Джэксон перенес свои действия на эту границу; подобно англичанам, он не стеснялся соображениями международного права. Устроив свою главную квартиру также в испанском городе Мобиле, он с успехом напал на Пенсаколу; англичане должны были очистить ее и вернуться на свой флот. Наконец, Джэксону удалось привести в прекрасное оборонительное состояние Новый Орлеан, ближайший объект наступления англичан, так что они и здесь понесли поражение и должны были удалиться (8 января 1815). Это отбило у них охоту к третьему нападению.
Еще раньше, чем сделались известными эти успехи, заключен был мир в Генте 24 декабря 1814 года. Легкомысленное начало войны и позорный ход ее давали северо-американцам мало права на благоприятные условия мира. Однако, политическое положение Европы и на этот раз помогло им пожать то, чего они не сеяли. Уже вскоре после начала войны начаты были переговоры при содействии России. Опасение неблагоприятной группировки союзных держав побудило Англию понизить высокомерный тон, которым она вначале отклоняла всякое сближение. Мир был заключен быстро, так как пунктов разногласия собственно не существовало, и американцы, в виду положения вещей, не могли желать ничего лучшего, как восстановления прежнего положения вещей.
Непосредственным следствием заключения мира было приобретение Флориды. Медисону не суждено было осуществить это округление области Соединенных Штатов. Но преемник его Джемс Монроэ был тем более пригоден для этой цели, что благодаря своим дипломатическим миссиям при европейских дворах, усвоил себе все точки зрения на этот вопрос лучше, чем кто-либо другой. Война показала, что Испания не в состоянии защищать даже те немногие пункты, из которых чиновникам ее приходилось управлять Флоридой. Северо-американцы то-и-дело жаловались на полное бессилие Испании в стране и на то, что провинция ее являлась приютом всевозможных преступников из соседних штатов. Вместе с тем на некоторых прибрежных островах поселились шайки флибустьеров, которые, под предлогом борьбы за свободу испанских колоний, одинаково грабили, наподобие настоящих морских пиратов, как испанские, так и американские суда. Здесь союзное правительство нашло необходимым вмешаться. Но как только оно приступило к водворению порядка во Флориде, трудно было указать границу, где оно могло остановиться. Подобно этим пиратам на море, семинолы являлись постоянным бичом для соседних штатов на суше. Англия снабжала их в течение войны деньгами, порохом и офицерами, и этой войне Гентский мир не положил конца. Наконец, Монроэ поручил Джэксону подчинить семинолов. Когда он объяснил, что для этого необходимо завоевать всю Флориду, то правительство не ставило ему никаких преград. Оно старалось, наоборот, дипломатическим путем оправдать его образ действий. Под давлением этих обстоятельств, были, наконец, приведены к желанному концу тянувшиеся много лет переговоры с Испанией. В октябре 1820 года за вознаграждение в 5 миллионов долларов Испания уступила Соединенным Штатам страну, которая давно ускользала от нее и давно не приносила ей никакой пользы. Таким образом, были сняты последние оковы, которые тормозили развитие страны и являлись угрозою для будущности ее (см. «Карты к истории Америки»).
Приобретение Флориды устранило на долгое время последний повод, который мог вовлечь Соединенные Штаты в дипломатическое столкновение с другими государствами. Наступил продолжительный период, в течение которого правители их могли отдать все свои силы на служение внутреннему развитию страны. Это последнее приобрело подъем, который превзошел самые смелые надежды основателей государства. Уже в 1806 году Джефферсон мог констатировать, что доходы правительства превышали расходы. В последующие годы неблагоприятные моменты могли внести лишь временный застой в этот успешный ход дел. Под влиянием беспрерывно возраставшей иммиграции население увеличивалось чрезвычайно быстро и захватывало все более широкие области. В 1818 году к первоначальным 13 штатами прибавилось еще девять новых штатов, и предстояло дальнейшее возрастание в этом направлении. К этому следует прибавить, что при Монроэ государство имело редкое счастье снова видеть во главе человека, стоявшего вне партий. Монроэ, как последний из великих виргинцев, был также избран в качестве кандидата антифедералистов; но старые партии окончательно исчезли, а в отношении новых партийных группировок Монроэ держался совершенно независимо. По примеру Вашингтона, он доказал это тем, что в выборе своих советников не ограничивался одной партией, но сумел соединить вокруг себя для плодотворной работы способнейших людей из различных групп. Правда, и он не в состоянии был уничтожить опасные зародыши, которые скрывало в себе крупное экономическое различие в развитии Севера и Юга. Но для страны было уже большим приобретением то, что вновь произведена была серьезная попытка равномерного развития ее общих интересов.
8. Войны Юга за независимость
Одним из важнейших мотивов, почему Испания не могла присоединиться к энергическим действиям Франции в пользу северо-американских провинций, боровшихся за свою независимость, были соображения, касавшиеся ее собственных колоний. Именно потому, что правительство Карла III не желало по прежнему герметически замыкать колонии от остальных стран, вдвойне опасались влияния, какое мог бы оказать на колонии пример Испании, помогающей подданным другого государства насильственно освободиться от учреждений, которые издавна существовали в ее собственных колониях и от которых она никаким образом не намерена была отказаться. Поэтому она и в союзе с Францией пошла не дальше объявления войны Англии на своей территории и на Антильских водах. В отношении Соединенных Штатов она еще долго держалась крайней осторожности. Испания давно уже убедилась в том, что она не в силах оградить Антильские острова от чужеземного влияния и отчасти, так сказать, предоставила их на волю судьбы. В сравнении с обширными колониальными владениями на материке, острова имели малую ценность и из года в год все больше теряли ее. Значительная доля их вообще была уже утрачена для испанского владычества. То, что испанцы сохранили там, приобрело для них значение лишь с того момента, когда владения на материке были ими потеряны. В 1795 году к прежним потерям присоединилась еще утрата Санто-Доминго. В то время, как во французской западной половине (см. «Карты к истории Америки») беспрерывно менявшиеся мероприятия революционных правительств привели, наконец, к войне всех против всех, Испания старалась возвратить обратно эту часть острова и для этого не брезгала союзом с восставшими черными. В наказание за это она должна была уступить и восточную половину Франции в 1795 году при заключении мира с восстановленным правительством. Эта жертва не была для правительства особенно тяжела, так как оно придавало Антильским островам мало цены. Остров Санто-Доминго был уступлен Франции. Испания не желала только оставить какому бы то ни было другому народу останки открывателя Нового Света, которые покоились до этого времени в соборе столицы Санто-Доминго: они были торжественно выкопаны и доставлены на борт фрегата Descubridor, который перевез их в Гавану. Там они оставались в кафедральном соборе до 1898 года под испанским флагом (см. выше стр. 358).
Мир с Францией, купленный ценою утраты Санто-Доминго, получил, однако, еще гораздо более роковое значение для всех колониальных владений Испании. Этим шагом она вернулась к политике, дружественной французам которую завещал еще бурбонский фамильный договор 1761 года, и вступила даже в союз с Наполеоном в то время, когда вся остальная Европа сплотилась против грозно возраставшего могущества его. Непосредственным следствием этого было уничтожение испанского флота в битве при Трафальгаре, (21 октября 1805 года). За этим последовало непосредственно нападение англичан на испанские колонии в Америке.
Сообщениями генерала Миранды из Новой Гранады, который находился на службе французской революционной армии, но потом был изгнан, англичане были введены в заблуждение, будто испанские колонии ничего так не желают, как случая стряхнуть иго метрополии и организоваться в качестве независимых штатов. Нельзя отрицать, что под влиянием северо-американской войны за независимость и французской революции, в больших городах испанской колонии нашлись горячие головы, которые увлекались политически незрелыми идеями свободы и являлись единомышленниками Миранды. Но насколько массы населения испанских владений в Америке были далеки от всякого понимания подобных планов, в этом англичане могли убедиться к собственному ущербу, когда они, соблазнившись предложениями Миранды, пытались зажечь пламя восстания в испанской Америке.
Из всех испанских береговых пунктов ни один не был более пригоден для такого предприятия, чем Буэнос-Айрес. Устье Ла-платы всегда было средоточием обширной незаконной торговли, которую лишь до некоторой степени удавалось сдерживать тем, что в пользу этой гавани нарушали прежнюю строгую торговую политику. Сделавшись средоточием партии коммерческого переворота, Буэнос-Айрес быстро расцвел и заключал в своих стенах, быть может, больше просвещенных умов, чем какое-либо другое место. Более чем прочие гавани, он воспользовался разрешением на свободную торговлю со всеми нациями, которую Испания по временам разрешала своим колониям с 1797 года, в виду отсутствия безопасности на морях. Не взирая, однако, на столь благоприятные условия, англичане не встретили здесь подтверждения уверений Миранды. После завоевания мыса Доброй Надежды (1805) оттуда была отправлена флотилия с 1600 человек, под командою генерала Бересфорда для нападения на Буэнос-Айрес. Испанский губернатор уже в предшествовавшем году опасался английского нападения, но полагал, что оно будет сделано не на Буэнос-Айрес, а на Монтевидео, и, в виду того, стянул туда свои скудные оборонительные силы. Таким образом, не только он, но и все население потеряло голову, когда Бересфорд высадился в каких-нибудь двух милях к югу от Буэнос-Айреса и двинулся уже на следующий день в предместье, а на третий день вступил в самую столицу. Однако, он не встретил ни малейших признаков энтузиазма в пользу английского владычества, которое он тут же провозгласил без всяких околичностей. Наоборот, с первой же минуты население обнаруживало самую решительную враждебность. Хотя город, повидимому, беспрекословно покорился новым властителям, но в предместьях и на соседних фермах тайно собирались группы решительных патриотов. Наконец, под покровом густого утреннего тумана, капитану Жаку де-Линье удалось переправить через реку небольшой отряд войск из Монтевидео, и этот отряд образовал ядро бурных скопищ, которые быстрым натиском оттеснили англичан из улиц города к рыночной площади, принудили их скрыться в крепости и заставили капитулировать. Так, ловким натиском удалось вернуть Буэнос-Айрес, который был утрачен раньше, вследствие такого же внезапного нападения.
Правда, этим была уничтожена только небольшая часть английского отряда, а весть о первоначальных успехах Бересфорда вызвала быстрое прибытие одного за другим значительных подкреплений к Лаплате. Чтобы получить прочную точку опоры для дальнейших операций, англичане обратились теперь против Монтевидео, который, несмотря на геройскую защиту, не мог устоять против осаждающих, превосходивших его численностью и средствами к борьбе. Когда весь восточный берег перешел в их руки, англичане решили еще раз попытаться отнять Буэнос-Айрес у патриотов. Конечно, в открытом поле патриоты, избравшие спасителя города Линье главным начальником, не могли противостоять англичанам, которыми командовал генерал Уайтлок. Но когда англичане разбились на три отряда и предприняли концентрическое движение по улицам к рынку и крепости, то они настолько пострадали в двухдневном сражении, что капитулировали и даже должны были согласиться очистить восточный берег вместе с Монтевидео. Взятые в плен английские офицеры сделали, по крайней мере, попытку пробудить среди колонистов дух независимости, но напрасно! Даже такой горячий патриот, как Бельграно, имел лишь один ответ на подобные призывы: «Либо нашего старого короля, либо никого другого!»
История южно-американской революции излагается, большею частью, с ложной точки зрения. Одновременное появление революционных движений почти во всех испанских колониях в 1809 и 1810 годах обыкновенно объясняется таким образом, будто весь южно-американский материк созрел для свободы, будто стремление к независимости охватило все умы и сразу выразилось в мощной форме на всей территории. В действительности, однако, в начале XIX столетия, несмотря на северо-американскую колониальную войну, несмотря на французскую революцию, мысль о независимой Южной Америке существовала в голове лишь нескольких человек, выросших в центрах международных сношений, во время своих путешествий за границей воодушевившихся современными идеями, но не вполне понимавших условия, при которых эти идеи осуществимы. Во всяком случае, до 1808 года в каждой из испанских колоний попытка разорвать связь между колониями и Испанией привела бы к такому же результату, как нападение англичан на Буэнос-Айрес. Миранда мог убедиться в этом дважды, когда он, при поддержке англичан, пристал к берегу Венесуэлы, своей родной провинции. В первый раз ему вообще не удалось стать там твердой ногою. Во второй раз он с помощью силы овладел городом Коро, но равнодушие масс и враждебность всех лучших кругов общества очень скоро заставили его окончательно отказаться от безнадежной попытки вызвать возмущение.
Переворот, совершившийся в 1809 году, зависел отнюдь не от изменения во взглядах испанских американцев, но от перемены обстоятельств в метрополии. Когда Наполеон, при помощи хитрой комедии в Байонне, побудил как Фердинанда VII, так и Карла IV отказаться от испанского трона, чтобы создать монархию для своего брата Иосифа, то и в метрополии и во всех колониях проснулась ненависть к наследственному врагу, которую не могли искоренить ни бурбонское престолонаследие, ни политика фамильного договора. Колонии держались, однако, спокойно и выжидательно. Даже Линье, который был французом по рождению и назначен был вице-королем провинции в благодарность за двукратное спасение Буэнос-Айреса, не осмелился внять заманчивым предложениям, которые делал ему Наполеон за признание Иосифа: он считал подобный план в данный момент невыполнимым. Тем не менее, если бы Наполеону удалось добиться единогласного утверждения Иосифа в Испании и признания его со стороны прочих государств Европы, то, по всей вероятности, перемена династии совершилась бы в Америке столь же спокойно в начале XIX столетия, как и в начале XVIII века. Только политические события, вызванные на родине Dos de Mayo (2 мая 1808 года), создали настроение, которое имело последствием в Испании утопическую конституцию 1812 года, а в колониях отделение еще совершенно незрелых провинций от метрополии.
Когда Жюно в ноябре 1807 года осадил Лиссабон с целью втянуть Португалию в Наполеоновскую политику, двор и правительство бежали на флотилии, охраняемой всемогущею на море Англией, переплыл океан, избрал Рио-де-Жанейро своей столицею и для того, чтобы теснее связать Бразилию с ее непосредственным верховным главою, даровал ей конституцию, составленную по образцу португальской. Все эти крупныя события вызвали, правда, много разговоров в соседних испанских колониях, но непосредственного действия на политику этих колоний они не произвели. Наоборот, колонии энергично примкнули к протесту Испании, которая возмутилась изменническим образом действий Наполеона и навязыванием короля Иосифа. Искра национального воодушевления, которое сопровождало вступление на трон Фердинанда VII в Мадриде (19 марта 1808 г.), распространилась и в колониях; эти последние решили поддерживать существующий порядок в пользу Фердинанда VII, несмотря на то, что метрополия находилась в руках французов.
Однако, вскоре за вестью о национальном подъеме, за победными донесениями из Байлена и занятием Мадрида, последовали потрясающие известия о бегстве регентства в Севилью, образовании генеральной хунты, о покорении всей Испании, за единственным исключением Isla de Leon. Здесь возник вопрос, имевший решительное значение для хода колониальной истории. Он шел о том, насколько регентство и генеральная хунта, оказавшиеся совершенно неспособными защитить отечество от национального врага, с авторитетом, безусловно отвергавшимся даже и провинциями, сумевшими не покориться французскому игу, – насколько эти учреждения, действительно, были представителями Фердинанда VII, по отношению к которому колониальные провинции обязаны верностью и послушанием? Этой обязанности не отрицали ни креолы, ни обитатели полуострова (переселившиеся испанцы); но последние еще в большей мере, чем первые, ставили себе в пример метрополию. Там на родине каждый счастливый предводитель партии на клочке страны, которую ему удавалось вырвать у французов или защитить от враждебного натиска их, несмотря на полную анархию, образовывал из своих земляков и приверженцев хунту и замещал негодных старых чиновников своими друзьями. Точно также и здесь в колониях у испанцев и креолов пробудилось недовольство представителями старого режима. Желая принять участие в совершавшемся кругом захвате власти, лица, чувствовавшие под собою почву, восстали против вице-королей и губернаторов, заставили их сложить с себя полномочия, прекратившиеся с взятием в плен их главы и, с своей стороны, образовали хунты и регентства. Эти органы считали себя повсюду представителями Фердинанда VII и в полном смысле слова правопреемниками испанских чиновников. Так случилось в Кито, в Каракасе, Буэнос-Айресе, в Мексико.
Конечно, иногда губернаторы со своими приверженцами скоро убеждались, что имели дело далеко не с волею всего народа. Они поднимали тогда перчатку, брошенную им новыми самозванными властями. В некоторых местах, напр., в Кито, они выходили полными победителями, в других спасали, по крайней мере, часть своего района: так, губернатор Буэнос-Айреса утвердился в Монтевидео. Ясно было, что прекращение законной власти должно было вскоре привести к отрицанию всякого законного авторитета. Не всегда волна движения ставила во главе правительства действительно лучших людей народа. Но как скоро бурному собранию удавалось вообще установить власть, каждая партия, умевшая направлять массы в желательном ей духе, стремилась достигнуть, если не при первом натиске, то в течение последующего хода событий, своих личных целей.
Только теперь революция стала все более и более выдвигать элементы, которые вначале бессознательно, а впоследствии все систематичнее работали в пользу независимости колоний. Восстание 1809 года носило еще всецело печать лояльности. Восставали в защиту Фердинанда VII, не зная, собственно, кто является представителем его прав. И некоторые губернаторы, как, напр., Линье, пали только в виду подозрения, что они готовы признать всякое существующее правительство, хотя бы это было правительство Иосифа Бонапарта. С течением времени, однако, начали обнаруживаться несомненные национально-американские течения. Противоположность между колонистами, родившимися в Америке, креолами, и переселившимися из Испании, которым с XVI столетия дали в насмешку название chapetones, выступала тем сильнее, что правительство Карла III и Карла IV, на основании ничтожных попыток возмущения туземного населения, стало строже применять принцип, согласно которому должности, сопряженные с властью и влиянием, доверялись исключительно испанцам по национальности. Такое устранение от всяких важных должностей затронуло креолов чувствительнее, чем некоторые другие ограничительные мероприятия, исходившие из метрополии Поэтому, как только существование законной власти было прервано, они не видели основания, почему бы им не занять более выгодных и важных положений. Таким образом, напр., в Буэнос- Айресе, вслед за первым потрясением власти, вскоре последовало второе, имевшее уже определенную цель: дать правительству более национальный характер, т. е. с преобладанием креолов.
К этому в первом же периоде революции присоединилось и нечто другое. Не все испанские правительственные округа имели в своем разграничении правильную этнографическую и экономическую основу. Так, в особенности в больших капитанствах Богото и Буэнос-Айреса существовали глубоко коренившиеся различия между отдельными местностями. Хотя внезапно народившиеся власти и отстаивали свое право самостоятельности, тем не менее, они нисколько не склонны были допускать, чтобы сфера их власти ограничивалась на основании тех же принципов, в силу которых они присваивали себе самую власть. Очевидно, там, где отдельные части с противоположными интересами насильственно сплачивались в одно тело прежними законами, устранение существовавшей власти побуждало их выступать в защиту своих партийных прав. Поэтому, спустя уже несколько лет, в Буэнос-Айресе, и в Новой Гранаде вспыхнула гражданская война.
Страшная смута, которую вызвало господство доктринеров в испанских кортесах, организовавших конституцию, могла лишь способствовать приведению колониальных дел в состояние еще бо̀льшего беспорядка. Испанская конституция 1812 года дала и колониям совершенно иное правовое положение. Хотя в сущности между беспорядочным сбродом колониальных депутатов в Кадисе, принадлежавших к различным партиям, и представленными ими округами почти нигде не существовало серьезной связи, тем не менее, среди весьма незрелого в политическом и экономическом отношении населения колоний, представление о человеческих правах сделало опасные успехи под влиянием речей народных ораторов в Кадисе.
Наиболее грозный характер принял ход восстания в Мексике. Здесь точно также переворот в Испании отразился в виде поколебавшегося положения местных властей. Но движение креолов было в самом зародыше оттеснено на задний план возмущением нижних слоев народной массы, которыми руководили фанатические священники. Они угрожали не одним испанским властям, но в равной мере всем, кто безусловно не подчинялся господству народа и, главным образом, туземных индейцев. Но именно вследствие этого обстоятельства нельзя было с самого начала расчитывать на сколько-нибудь серьезный успех. Вожак фанатизированных масс, священник Дионисио Идальго, при помощи быстро собранного войска приблизительно в 100000 человек, напал на города Гуанахуато, Вальядолид и Гуадалахару и ограбил их; но, несмотря на превосходство сил, он вынужден был отступить от столицы, единодушно защищаемой испанцами и креолами. Для его недисциплинированного войска отступление являлось равносильным распадению. Правда, после нескольких чувствительных ударов, ему удалось в этом обратном движении еще раз собрать под свои знамена многочисленные толпы и снова перейти в наступление; но, тем не менее, авторитет его быстро упал, так как, при помощи своих грабящих и избивающих масс, он не в состоянии был создать твердую власть взамен низверженной. Во время одного из последующих отступлений, он был предан испанцам своими собственными офицерами и расстрелян. Хотя этим движение и не было окончательно подавлено, но ни один из предводителей, становившихся после смерти Идальго в различных провинциях во главе краснокожих, не мог уже придать движению того грозного характера, какой оно имело в первом порыве. Оно повело лишь к соединению консервативных элементов для общей защиты. Дело свободы получило настолько дурное освещение, что вице-королевство Новой Испании превратилось на многие годы в твердыню роялистов. Впоследствии они утратили эту позицию только потому, что в слепом доверии дали созреть заговору, который лишь по имени стремился к свободе, завоеванной в других провинциях после серьезной борьбы, а в действительности заменил только законное самоуправление незаконным.
В эпоху наполеоновских войн лишь в двух местах южно-американского материка революционное движение было более стойко. Между тем, как Кито и Чили, после мимолетных успехов, всецело попали в руки роялистов, в Новой Гранаде и в соседней Венесуэле стремления к свободе приобрели известное значение, а в штатах Лаплаты почти тотчас же достигнута была прочная самостоятельность. Но внутренние побудительные причины, вызвавшие оба эти движения, были весьма различны.
Хунта креолов, которая 19 апреля 1810 года сместила в Каракасе генерального капитана Эмпарана, считала себя вполне верноподданною Фердинанда VII. Она отправила, поэтому, посольство, к которому принадлежал и Боливар, будущий герой южно-американской борьбы за независимость, в Англию, которая в то время оказывала сильную поддержку приверженцам короля на Пиренейском полуострове. Хунта намеревалась вступить в переговоры с этой державой относительно общих действий против врагов отечества. Послы привезли, правда, весьма туманные обещания английского правительства, но вместе с ними прибыл в Ла Гуайру генерал Миранда. Под влиянием этого ветерана колониальной свободы, организовалось в Каракасе республиканское правительство, которое лишь теоретически охраняло права Фердинанда VII. Хотя это правительство и держало известное время в своих руках столицу и средние провинции, но в народе оно не имело ни малейшей опоры, а на востоке и на западе, и в особенности на обширных равнинах юга, льяносах, народ относился к нему положительно враждебно. Это дало возможность роялистам вскоре перейти в наступление, которое было настолько энергично, что Миранда должен был исключительно ограничиться обороной. К внешним неудачам присоединились раздоры между борцами за свободу. В конце концов, Миранда бесцельно возведенный в звание диктатора теми самыми людьми, которые называли себя передовыми борцами за свободу (в этом деле был замешан и Боливар), был изменнически выдан приверженцам короля. Он провел много лет в тюрьме в Кадисе, где и умер.
Виновники этого геройского поступка бежали за границу, не отказавшись, однако, от своих планов. Хунта в Новой Гранаде в это время еще держалась независимо; поэтому многие граждане Венесуэлы, в числе их и Боливар, вступили на службу ее, и Боливар предложил перенести войну в Венесуэлу, откуда испанцы грозили нападением на Новую Гранаду. Конгресс уполномочил его, если он найдет нужным, отнять у роялистов пограничные провинции Мериду и Трухильо. Это удалось ему чрезвычайно быстро, после чего он, уже без полномочий, перенес войну в сердце страны в том странном убеждении будто обладание столицею Каракасом должно иметь решающее значение для исхода борьбы.
После этого шага война на северном театре получает свой истинный характер. Симон Боливар (см. табл. «Герои южно-американского освобождения») является типом тех генералов пронунсиаменто, которые вплоть до новейшего времени играли большую роль в истории Испании и, еще в гораздо большей мере, испанско-американских республик. Нужно отдать справедливость Боливару, что он был далеко не так бессовестен, как некоторые из его подражателей; но никто не станет отрицать, что идея, за которую он боролся, никогда не выходила за пределы его собственной личности. В увлечении своим пламенным, цветистым красноречием он, пожалуй, иногда начинал вместе с другими сам верить в свои слова. Во всяком случае, свобода, блага которой он вновь и вновь восхвалял в своих обильных разглагольствованиях, являлась не более, как фундаментом, на котором он думал построить свою собственную славу. И он считал себя совершенно вправе самым беспощадным образом преследовать и угнетать всех, кто не желал признавать господство боливаровской свободы.
За исключением небольшой части городскихъ населений, почти вся Венесуэла держалась роялистического образа мыслей или, по крайней мере, была до-нельзя утомлена гражданской войной. Поэтому Боливар, при своем вступлении, встретил частью тайное сопротивление, частью пассивную апатию, и только там мог искусственно вызвать воодушевление к идеальным благам, за которые он будто бы сражался, где господствовала сила его оружия. Вступление освободителя в Каракас носило театральный характер. Какого рода была свобода, которую он преподносил жителям Венесуэлы, об этом дает понятие факт, что он прежде всего совершенно позабыл установить гражданские власти и сосредоточил в самом себе диктаторскую власть, присвоив себе напыщенный титул Libertador de la patria (освободитель отечества). Этим он, однако, едва ли обманывал лиц, непосредственно окружавших его и, большею частью, связанных с ним одинаковыми интересами. Даже в пределах этой провинции он был не единственным, работавшим по этому рецепту. На крайнем востоке, на границах Гвайяны появился другой освободитель, Мариньо. Но вместо того, чтобы соединиться против общего врага, испанцев, каждый из этих благодетелей народа ничего не желал так страстно, как низвергнуть своего соперника и затем, в роли спасителя, сделаться неограниченным властителем.

При вступлении в Венесуэлу, Боливар под давлением креолов совершил роковую ошибку, объявив испанцам истребительную войну. Испанцем считался в этом случае всякий, кто неохотно покорялся всем требованиям т. наз. патриотов. Конечно, противники отвечали с своей стороны на такой жестокий способ ведения войны. Но между тем, как на их стороне было теоретическое право и оправдание в подавлении восстания, Боливар своим образом действий позорил самые принципы, за которые он будто бы боролся, и вредил самому себе тем более, что далеко не располагал такой силой, с какой боролись его враги против приверженцев новой системы. При таких условиях война на этом театре приняла особенно кровавый характер. Оружие, при помощи которого боролись обе партии, убийства и грабежи способствовали лишь тому, что все более разгорались самые низменные страсти и всплывали наверх худшие элементы. К тому же Боливар был вовсе не выдающийся полководец и также не мог создать плана войны, как и проекта конституции. В Пуэрто Кабельо, самом надежном пункте побережья, попрежнему развевалось испанское знамя; на западе при Баркисимето и па Арауре борьба продолжалась с переменным успехом. Под конец Боливар даже вынужден был отступить к Каракасу.
Здесь судьба его была решена враждебным отношением льянеросов. Напрасно он пытался созванием конгресса в Каракасе облечь свое диктаторство в законную форму. Напрасно заключил он союз с диктатором восточных провинций, признав его равноправным с собою. Даже соединенные силы их недолго в состоянии были бороться против беспрерывно возраставших масс наездников, которых дикий Бовес собирал в луговых степях юга в помощь испанцам. Дело зашло так далеко, что разведчики были всецело на стороне испанцев, предчувствуя близкую победу их. Сперва был разбит Мариньо, а затем неоднократно и сам Боливар, отступление которого приняло характер беспорядочного бегства. Когда он достиг морского побережья в Кумане, средства к сопротивлению настолько истощились, что Libertador бежал вместе с кораблями, скрывавшими военную казну. Когда соратники его снова оправились, и он обещал возвратиться к ним, он был заклеймлен именем изменника и лишь с трудом ускользнул от участи, которую он некогда уготовал своему прототипу, генералу Миранде. Таким образом, поход 1813 года окончился тем, что вся Венесуэла вернулась под власть роялистов, и у них были развязаны руки. Они могли теперь поступить точно так же с республикою Новой Гранады, которая распалась внутри и у которой Боливар взял большую часть ее военных средств для похода в Венесуэлу.
На юге материка революционное движение к этому времени также утратило свою силу. Восстание в штатах Лаплаты первоначально велось в таком духе, который весьма благоприятно отличался от характера движения в Венесуэле. Правда, собственно народ держался и здесь едва ли не столь же безучастно по отношению к революции, как и в Каракасе. Но в средних и высших общественных слоях Буэнос-Айреса господствовал гораздо более прогрессивный дух, нежели там. По получении известия о низвержении испанского господства, вице-король Буэнос-Айреса был также низложен. 25 мая 1810 года хунта провозгласила провинцию независимою от севильской хунты (см. Карты к истории Америки), но продолжала, подобно властям, развившимся из нее в течение года, управлять от имени Фердинанда VII. Была даже партия, готовая призвать в Буэнос-Айрес, в качестве регентши, инфанту Карлоту, сестру Фердинанда, вышедшую за португальского принца. Этот план повлек за собою продолжительную и запутанную интригу в Рио-де-Жанейро и Монтевидео, но, в конце концов, потерпел крушение.
Новое правительство считало своей первой задачей заставить признать авторитет его на всем пространстве провинции Лаплаты; но при этом оно натолкнулось на серьезное противодействие. Роялисты избрали Монтевидео своей главной квартирой. Благодаря прибытию подкреплений из метрополии хунта, с ее ограниченными военными силами, не могла даже думать о занятии этого пункта, и враги ее бесспорно преобладали в заливе и устьях впадавших в него рек. Мало-по-малу, однако, господство испанцев ограничилось городом; морские планы их также были парализованы при содействии бразильцев и англичан, расположенных к хунте. И когда, наконец, испанские корабли были побеждены вновь созданным флотом революционеров, то капитулировала и крепость Монтевидео. В этот промежуток времени в провинции Буэнос-Айресе воцарилась общая анархия, которая следовала во всех провинциях за низложением законных властей. Правый берег Лаплаты лишь номинально находился в руках правительств Буэнос-Айреса, быстро сменявших друг друга. В действительности, уже теперь подготовлялось распадение, которое повело к возникновению на этой почве Восточной Уругвайской республики (Republica Oriental de Uruguay).
Аналогичное явление совершилось и в другой части старой провинции. Хунта Буэнос-Айреса отправила в декабре 1810 года генерала Бельграно (см. табл. «Герои южно-американского освобождения») с целью добиться признания нового правительства в округе Парагвая; но эта попытка окончилась полной неудачей. Бельграно был завлечен далеко в глубь покинутой страны прежде, чем встретил противников; здесь он потерпел поражение при Парагвари и должен был перейти в отступление, исполненное опасностей. Только тогда ему пришла в голову идея предоставить провинции самой повиноваться, кому ей угодно. Сообразно с тем, он заключил в Такуари капитуляцию с защитниками Парагвая, чем и обеспечил себе отступление. Вследствие такого оборота, прогрессивные идеи настолько пустили корни в провинции, что она точно также взяла свою судьбу в свои руки и в 1814 году избрала себе главою доктора Хозе Гаспара Томаса Родригеса да Франсиа. Он управлял крайне своевластно и производил кровавые расправы, о каких едва ли когда было слышно на американской земле. Но все-таки это был просвещенный деспотизм. Франсиа сломил власть и богатство духовенства и, наоборот, всеми способами содействовал процветанию земледелия и промышленности, чем дал молодому государству возможность достигнуть внешней независимости. Благодаря тому, и после его смерти (1840 г.) независимость Парагвая была обеспечена (см. ниже стр. 512).
Правительству Буэнос-Айреса приходилось иметь дело лишь со стремлениями, отчасти аналогичными тем, которым оно было обязано своим собственным существованием. Много раз, даже после того, как Аргентинская республика фактически достигла независимости, в различных других частях ее территории возникали течения в духе децентрализации. С другой стороны, Буэнос-Айрес играл также важную роль в борьбе против главного врага всех провинций: против испанских роялистов. Наибольший отпор авторитет хунты встречал в округе Верхнего Перу, нынешней Боливии, которая в административном отношении составляла часть провинции Буэнос-Айрес. С тех пор, как там было быстро подавлено из Перу первое восстание в 1809 году, эта часть провинции всецело находилась под влиянием испанских роялистов. Поэтому хунта отправила свое первое войско против этого опасного противника. Благодаря блестящей победе при Суйпаче, генерал Балькарсе фактически оттеснил его за Десагуадеро, исток озера Титикаки, образующего здесь границу Перу. Это торжество продолжалось, однако, недолго. Получив подкрепление, испанцы одержали при Гуаки столь решительную победу, что вытеснили патриотов на всем пространстве Боливийской плоской возвышенности и преследовали их до самых аргентинских провинций. Только здесь Бельграно, назначенный генералом северной армии, остановил движение войск, разбил при Тукумане испанского вождя, а несколько недель спустя заставил его при Сальте со всем войском положить оружие под условием свободного отступления. Во всех этих стычках участвовали сравнительно небольшие силы. Этим объясняется непрочность достигнутых результатов. Ни одна из сторон не могла фактически господствовать в скудно населенной стране. Население и в данном случае не имело собственного мнения, но примыкало к победителю. Затем каждая сторона даже после нескольких поражений была в состоянии снова выставить отряд в несколько тысяч человек, и борьба снова начиналась. Этим объясняются постоянные колебания шансов то в ту, то в другую сторону во всех походах, которые предпринимались южно-американскими патриотами против испанских роялистов.
Счастье не долго улыбалось и Бельграно. Подвигаясь вперед в Боливию, он натолкнулся при Гуилькапуйо на реорганизованного неприятеля и был разбит им здесь и при Айюме настолько чувствительно, что снова вынужден был отступить. С тех пор он долгое время не мог перейти в наступление. Хотя роялисты и не дошли до самой Аргентинской области, тем не менее, к концу 1813 года, Боливия снова была в их руках. Дело Фердинанда VII находилось, благодаря одновременным победам в Венесуэле, в превосходном состоянии, когда Наполеон открыл заключенному в Валансэ ворота его золотой тюрьмы и вернул ему трон отцов.
Испания пережила в годы войны удивительные превращения, и игра в революцию, затеянная в Кадисе кортесами, которые ввели парламентскую систему правления, не осталась без влияния на движение в колониях. Но в Испании народ столь же мало созрел для свободы, как и в колониях. И так как на родине, вследствие столкновения интересов, новое правительство далеко не встречало такой поддержки, как в Америке, то искусственное здание конституции рухнуло еще раньше, чем Фердинанд VII вступил на Кастильскую почву. Не теряя времени, он стал добиваться той же цели и в колониях.
В марте 1815 года отплыла, под командою генерала Морильо, большая экспедиция из 25 военных кораблей, 60 транспортных судов и более 10000 человек экипажа для подавления последних следов возмущения в колониях. Первоначально было предположено высадить войско на Лаплате, но со времени сдачи Монтевидео там не было пункта, безопасного для высадки. В то же время Буэнос-Айрес, по крайней мере, с формальной стороны еще признавал Фердинанда VII законным повелителем, тогда как в Венесуэле и Новой Гранаде в последнюю фазу войны была уже провозглашена независимая республика. В виду того, Морильо получил приказ начать покорение провинций с севера. Как скоро последний будет в его руках, ему открыт будет через Боливию путь к провинциям Лаплаты. Первые шаги его давали право надеяться на самое лучшее. Остров Маргарита, всегда служивший приютом и убежищем для терпевших крушение патриотов Венесуэлы, был быстро покорен. На всем пространстве Венесуэлы едва ли можно было встретить кучку патриотов, которая заслуживала бы название войска. Движение Морильо через эту провинцию носило характер настоящей военной прогулки.
Для покорения Новой Гранады, Морильо наметил, как первый пункт атаки, Картахену. Но здесь он мог предвкусить те трудности, которые предстояли ему. Уже в то время, когда он сажал венесоланское войско на корабли, а для защиты провинции хотел оставить вместо него испанские войска, ему пришлось убедиться, что преданные до тех пор королю льянеросы дезертировали толпами. Несмотря на то, он окружил Картахену и с суши, и с моря подавляющими силами. Город оказал, однако, геройское сопротивление. Морильо умышленно стремился по возможности избегать кровопролития и поэтому старался взять город голодом. Но знамя независимости высоко развевалось над городом в течение 108 дней, не взирая на то, что испанский генерал потерял всякое терпение и не жалел ни выстрелов, ни штурмов. Когда, наконец, дальнейшее сопротивление было уже немыслимо, город все-таки не капитулировал; защитники его, во время бури на море, прорвали блокаду и, большею частью, спаслись на Санто-Доминго, откуда, после кратковременного отдыха, возобновили борьбу. Новая Гранада защищалась, правда, не с таким мужеством, как Картахена. Со стороны Кито против испанцев, предводимых Морильо, оперировало другое войско. Когда он двинулся к Санта Фе, в этой провинции также не существовало более армии патриотов. Но сам Морильо чувствовал, что земля, на которую он ступал в своем победоносном шествии, дрожала под его ногами. Поэтому он отбросил в сторону свою первоначальную систему мягкости и начал строго расправляться с революционерами. Тем не менее, даже сотни жертв не помогли укреплению испанского владычества.
Там, куда не достигало испанское opyжие, снова вспыхнуло восстание. Остров Маргарита был первым, стряхнувшим непривычное иго. В льяносах Касанаре впервые откликнулось на призыв к свободе войско степных наездников под начальством метиса Паэса и одержало при Апуре первую победу над королевскими войсками. Дикие степные воины щадили жизнь своих пленных, большинство которых, благодаря тому, переходило на их сторону. Наконец, и в Кумане снова началось движение, так что Морильо стал опасаться за Венесуэлу и перенес свою главную квартиру к восточному основанию Кордильер, в Варинас. Однако, отдельные возмущения все еще не имели связи между собой. В этот момент на острове Маргарита высадились старые вожаки и защитники Картахены, которые в Гаити снарядились к новой борьбе с помощью англичан и президента негрской республики. Но Боливар все-таки не сделался стратегом. В то время, как толпы степных наездников шныряли на всем протяжении льяносов и разносили пожар восстания, в то время, как на востоке по обоим берегам Ориноко его товарищи по оружию отвоевали себе безопасную область, он оставался еще в заколдованном круге столицы Каракаса, куда старался проникнуть осенью 1816 года из Окумаре с небольшим отрядом. Но позорнее всего было то, что, под влиянием ложного слуха о поражении, он бежал вместе с кораблями и предоставил своих полной гибели. Слава его была настолько поколеблена, что он был вторично изгнан и должен был вернуться в Гаити. Но, спустя несколько недель, он был призван обратно, так как среди вожаков многочисленных отрядов не было ни одного, который пользовался бы таким уважением, как Боливар, и в состоянии был бы, подобно ему, создать определенный политический и военный план.
Во время похода 1817 года революция начала приобретать твердую почву на севере. Мысль создать прочный базис для борцов за независимость на правом берегу Ориноко принадлежала, правда, не Боливару, но он быстро понял громадное значение этого плана. Блокада со стороны суши Ангостуры и Гвайны Вьеха, господствовавших над рекою, давала незначительные результаты, но Боливару удалось, при помощи английских моряков, сломить превосходство испанцев на море и принудить их к очистке этих двух укреплений. Границею между испанскою и свободною областями сделался Ориноко, а далее к западу Апуре. Морильо терял время в бесплодных попытках вновь покорить остров Маргариту. Правда, он завладел побережьем до полуострова Париа, но это не имело большого значения.
В этом периоде Боливару с трудом удавалось отстаивать свой авторитет против различных предводителей отрядов, и он сам чувствовал необходимость упрочить свое положение на более законном основании. Вследствие того, он уже осенью 1817 года учредил государственный совет, верховный суд и наметил дальнейшую политическую организацию. Но прежде всего он выставил свою диктатуру, как необходимость, и фактически продолжал держать в своих руках неограниченную власть. На поле битвы все еще не происходило ничего решительного. На этот раз Боливар предпринял нападение на Каракас со стороны среднего Апуре. В то время, как он лично разбил Морильо при Калабосо, Паэс завоевал Сан-Фернандо, последнюю твердыню роялистов на Апуре. Однако, рядом с этими успехами существовали и многочисленные неудачи, которые поддерживали в тиши никогда не прекращавшуюся оппозицию против диктатора. Но он сумел и с этим справиться. Недовольных генералов он удовлетворил, снабдив их войсками, амуницией и деньгами для продолжения борьбы. Политиков он обезоружил созванием в Ангостуре учредительного конгресса, который был, конечно, не более, как театральным фарсом, но который значительно поднял престиж диктатора единогласным избранием его в президенты республики Венесуэлы.
Не меньшее значение, чем избрание на конгрессе, имело для Боливара прибытие большого числа набранных для защиты дела независимости, обученных английских и германских солдат. Они образовали ядро, вокруг которого сгруппировались храбрые, но неподготовленные в военном отношении элементы американских провинций. Английский легион играл выдающуюся роль во всех позднейших походах и пользовался таким доверием Боливара, что неоднократно возбуждал ревность со стороны южно-американских патриотов. Для похода 1818 года Боливар составил план, который должен был решить ход событий. Некогда он перенес войну из Новой Гранады в равнины Венесуэлы для того, чтобы завоевать свободу первому государству на территории последнего. Теперь, наоборот, он решился добывать свободу для своего отечества по ту сторону Анд. Эта мысль родилась у него, быть может, под впечатлением победы Хозе де Сан Мартина (см. ниже стр. 500); но как бы то ни было, успех доказал верность его расчетов.
Еще раньше, чем после наводнений дождливого периода совершенно освободились пути через льяносы, Боливар двинулся на юг от Апуре и, защищаемый этой рекою от флангового нападения королевских войск, на запад. На пути, который еще до него проложили торговцы чибчасов и первые завоеватели Богота (см. выше стр. 383), он перешел цепь Андов. Правда, он понес чувствительные потери прежде, чем достиг в Согамосо гуще населенных областей; но план поразить неприятеля в самом центре его могущества вполне удался. Теперь все дело заключалось в том, чтобы одержать решительную победу над неприятелем раньше, чем тот соберется с силами. При помощи быстрых движений взад и вперед, ему удалось ввести в заблуждение неприятельский авангард, овладеть городом Тунха и отрезать авангарду прямой обратный путь к столице. Испанцы, расчитывая на численный перевес, попытались проложить себе обратный путь к Санта Фе силою. На мосту через Бояка произошло решительное сражение, которое окончилось истреблением королевского войска. Вице-король очистил столицу и отступил с остатком испанских войск к Картахене, тогда как патриоты Санта Фе осадили Богота̀ и восстановили независимость Новой Гранады. Боливар учредил здесь, как и в Венесуэле, на ряду с собственной военной диктатурой, новую гражданскую власть, и положил начало слиянию обеих родственных провинций в одну республику под именем Колумбии.
Когда весть об этих победах дошла до Ангостуры, временной столицы Венесуэлы, появление ее совпало со смещением Боливара в третий раз за измену знамени и изгнанием его, так как и другим хотелось вкусить его власти. Но, окруженный ореолом новых побед, он мог отнестись с презрением к такому постановлению. Конгресс, вдвойне побежденный им, без всяких прений принял предложения «Libertador», согласно которым Венесуэла, Новая Гранада и Кито соединялись в одну республику под названием Колумбии (см. «Карты к истории Америки»). Во главе ее стоял, конечно, Боливар и, кроме того, гражданская власть в каждой из этих трех провинций сосредоточивалась в руках вице-президента. Дальнейшая разработка конституции нового государства возлагалась на учредительный конгресс, который должен был собраться в Кукуте, как только позволит ход войны.
Это случилось вскоре. Известия, которые дошли до Америки летом 1820 года, совершенно изменяли положение дел. Войско, собранное в окружности Кадиса в помощь генералу Морильо для окончательного подавления восстания, возмутилось, и так как ему нужно было какое-нибудь знамя для оправдания этого поступка, то оно провозгласило своим паролем восстановление конституции 1812 года. Таким образом, все, кто с 1814 года сражался за восстановление испанского господства, потеряли правовую почву. Непосредственным следствием того была приостановка военных действий на всех театрах для того, чтобы дать возможность начать мирные переговоры между метрополией и колониями. Но колонии зашли уже слишком далеко. Очень значительная часть обитателей их со всеми своими интересами была скомпрометирована революцией. Поэтому немыслим был договор на почве конституции, либеральность которой существенно ограничивалась, как скоро заходила речь о колониях: в продлении этих ограничений была заинтересована вся испанская нация. Таким образом, переговоры скорее привели к убеждению в том, что возврат к прежним порядкам безусловно невозможен. Обе партии воспользовались временным перемирием для новых приготовлений к войне, и весною 1821 года вновь начались военные действия.
Но теперь господство патриотов на плоскогорьи было настолько упрочено, что Боливар мог предпринять с большими шансами на успех атаку Каракаса и Валенсии, центров экономической жизни Венесуэлы, из-за которых уже столько раз происходили битвы с переменным успехом. При настоящих обстоятельствах это центральное положение являлось чуть ли не последним убежищем роялистов. Запад Венесуэлы, представлявший до тех пор твердыню их власти, отпал от них и, кроме береговых пунктов, от Картахены до Куманы, которые находились еще в руках испанцев, они владели только областью, занятою непосредственно их войсками. При Карабобо, где Боливар уже одержал одну победу над испанцами, они ожидали его теперь на позиции, которая считалась неприступною. На этот раз, однако, туземцы были на стороне патриотов. Они провели часть войска скрытыми тропинками к правому флангу неприятеля, положение которого было развернуто с этой стороны. Победа была решительная. Испанская армия вынуждена была совершенно очистить средний район и бежала к стенам Пуэрто Кабельо. Боливар еще раз вступил победителем в Каракас, который с этого времени отвоевал себе свободу и независимость.
Почти одновременно с победою при Карабобо, был открыт конгресс в Кукуте. В первый раз в северных провинциях состоялось законодательное собрание, которое обладало действительною властью, чтобы заставить признать свои решения. Оно оказалось на высоте своего призвания, так как не подчинялось безусловно диктатору, подобно своим предшественникам. Тем не менее, это собрание нисколько не думало умалять неоспоримые услуги, оказанные Боливаром делу освобождения республики Колумбии. Оно было далеко от того, чтобы уничтожить все места и должности, которые предложил Боливар ему и в предшествовавших собраниях. Но, с другой стороны, оно не далось безусловно в его руки, а создало, по силе разумения и совести, конституцию, которая давала достаточно простора честолюбию освободителя, не ставя его в то же время выше правительства. Этот второй конгресс также признал Боливара президентом Колумбии. Но вместе с тем было оформлено законом, что он не может облекать себя гражданской властью в то время, когда будет командовать войсками против неприятеля. Для этой цели в помощь ему назначался вице-президент всей республики, и только в провинциях, которые Боливар имел в будущем освободить от испанского ига, он должен был и вперед оставаться диктатором. Новая конституция и в других отношениях существенно отличалась от того, что́ казалось Боливару идеалом. Она упразднила верхнюю палату с ее пожизненными членами, которую учредил Боливар в Ангостуре для Венесуэлы. Точно также звание президента не было пожизненным и тем более наследственным, но ограничивалось четырьмя годами по образцу Северо-Американских штатов. Для того, чтобы сделать возможным практически контроль над всеми этими учреждениями (до сих пор это не удавалось ни одной конституции, так как всякий счастливый вождь партии считал себя в праве переворачивать все вверх дном), конгресс издал закон, воспрещавший всякое изменение конституции в течение ближайших десяти лет.
Боливар подчинился постановлениям конгресса в Кукуте. Военное счастье также, повидимому, улыбалось новой республике. После 14-месячной осады один из полководцев Боливара взял Картахену. Потеря этого опорного пункта сделала роялистов бессильными в области перешейка. Чагрес и Портобело изгнали свои испанские гарнизоны, и области, находившиеся на перешейке, не только объявили себя независимыми от испанцев, но и желали войти в состав Колумбийской республики. Последние остатки войска, при помощи которого, казалось, Морильо когда-то привел к безусловному повиновению всю Венесуэлу и Новую Гранаду, оставались только в Пуэрто Кабельо и Кумане. На севере опасность исчезла.
На южном театре войны дело свободы стояло в 1814 году еще на нетвердом основании. К западу от Кордильер испанский вице-король в Перу еще господствовал над всеми тихо-океанскими провинциями от мыса Горна до Гваякильского залива и плоской возвышенности Кито. Одно лишь капитанство Буэнос-Айрес высоко держало знамя независимости, хотя территория его была уже значительно урезана. В то время, как Боливия была вновь приведена в подчинение испанским властям, на севере и на востоке освободились от них Парагвай и Уругвай. Лишенная плана политика руководящих лиц всецело была создана для того, чтобы давать все новую и новую пищу внутренней войне. Испанцы в праве были ожидать, что провинции, истощенные братоубийственными войнами, со временем легко попадут в их руки. Шансы на подобный исход были бы еще благоприятнее, если бы в эту эпоху внутренних раздоров не явился на помощь борцам за свободу человек, который, в большей мере, чем сам Боливар, стал спасителем находившейся в опасности свободы.
Хозе́ де Сан Мартин (см. таблицу «Герои освобождения» Южной Америки) вернулся на родину лишь в конце французской войны, в которой он храбро сражался за испанцев. При этом он воспринял значительную долю либеральных идей, которые в то время волновали полуостров и нашли себе воплощение в кортесах Кадиса. Он также был воодушевлен сильным честолюбием, но не тем болезненным исканием внешних признаков власти, которое снедало Боливара, а идеальным стремлением отличиться на службе отечеству и обеспечить ему лучшее будущее. Сан Мартин, как и почти все дальновидные политики Юга, не был республиканцем в духе Боливара. Как и товарищи его, он был убежден, что при тогдашнем уровне культурного и политического развития испанской Америки, республика по образцу северных Соединенных Штатов является невозможной. То, что он видел в родственных колониях севера и отчасти в республиканских провинциях собственной страны, возбуждало в нем глубокое отвращение к карикатуре свободы, которою злоупотребляли лишь для удовлетворения эгоистических стремлений отдельных личностей. Такая свобода, если она не вела к ужасам гражданской войны, в лучшем случае заменяла испанскую тиранию другою.
И в Буэнос-Айресе Сан Мартин заметил сильные течения, которые на его взгляд противоречили истинному благу государства. После того, как он в течение короткого времени имел случай оказывать отечеству частью на берегах Лаплаты, частью в провинции Боливийской плоской возвышенности ценные, хотя и скромные услуги, в нем созрела мысль отдать себя на служение свободе и бороться за независимость всей испанской Америки, а не только своей тесной родины. План, который он набросал для этой цели, обнаружил в нем настоящего полководца. Он быстро понял, что судьба всех южных провинций зависит от того, удастся ли отнять у испанцев укрепления на Перуанском плоскогорье, по обе стороны Кордильер, на котором они во все времена господствовали с трех сторон над страною и, благодаря своему преобладанию на Тихом океане, могли делать вылазки против борцов за независимость. Правда, кратчайший путь из Буэнос Айреса в Лиму шел через верхнее Перу (Боливию), но этот путь был в то же время и самым трудным: он требовал чрезвычайного распространения в ширь и, кроме того, оставлял совершенно открытым для противника важный путь со стороны моря. Поэтому Сан-Мартин предложил измененный фронт для нападения. В Чили, в первые годы колониального подъема, дело свободы приобрело многочисленных и восторженных приверженцев. Потребовались громадные военные затраты, чтобы привести эту провинцию к повиновению. Не взирая на это, испанцы едва ли вышли бы победителями, если бы дух пронунсиаменто, убивающий всякую свободу, не разделил друзей независимости на два лагеря. Поэтому Сан Мартин потребовал от правительства в Буэнос-Айресе средств для образования и снаряжения отряда, который послужил бы ядром армии для освобождения Чили. Оттуда можно было бы уже начать борьбу против испанцев на всем юге материка.
В это время внутренние раздоры еще не настолько ослепляли правителей в Буэнос Айресе, чтобы они не видели тех громадных шансов, которые открывал план Сан Мартина для дела свободы. Поэтому ему было вверено, согласно его желанию, управление округом Мендосы, граничащим с северным Чили. Здесь он в состоянии был по возможности незаметно собирать средства для осуществления своих планов и затем в удобный, по его мнению, момент, приступить к выполнению их. Сан Мартин обладал тем, чего недоставало почти всем остальным передовым борцам за независимость, – строго методическим и во всех направлениях законченным военным образованием, определенным планом действий, добросовестно разработанным во всех подробностях как с политической, так и с военной точки зрения, наконец, восторженною преданностью делу, которому он служил и во имя которого готов был приносить величайшие личные жертвы. Он употребил полных два года на то, чтобы создать элементы для своего военного плана, обучить их и подготовить область, где он желал начать действия. Когда он затем дал сигнал к движению, то каждая подробность была так точно предусмотрена и принята в расчет, что он мог идти вперед шаг за шагом почти с математическою точностью. Старания его увенчались полным успехом.
Осенью 1816 года Сан Мартин получил от правительства в Буэнос Айресе полномочие двинуть свои войска через Кордильеры в Чили и отуда предпринять обратное завоевание Боливии. В последние месяцы года в округе Мендосы кипела необычайная деятельность, и правительство напрягало все усилия, чтобы окончить вооружение. 14 января 1817 года Сан Мартин двинул свое войско, состоявшее из 4000 человек всех трех родов оружия и из обоза с 10000 мулов, двумя колоннами из Мендосы для того, чтобы перейти Кордильеры через проходы Путаендо и Аконкагуа. Местом соединения назначена была Санта Роза де лос Андесъ (Santa Rosa de Ios Andes) в расстоянии 337 километров от Мендосы. Наибольшая высота, которую предстояло преодолеть, равнялась 3927 метрам. 8 февраля обе колонны настолько одновременно достигли места назначения, что неприятельские авангарды у выходов с перевалов не знали, откуда им ожидать нападения. Первый смелый шаг плана похода вполне удался.
Но войско все еще стояло в глубине гор: оно не могло ни само развернуться, ни служить опорою для восстания страны на большом расстоянии. Сан Мартин понимал, что быстрое движение вперед означает половину победы, и что обстоятельства требовали избрания кратчайшего пути на столицу Сант-Яго. Поэтому он мог разрешить своим войскам, сильно истощенным, лишь самый необходимый отдых, а затем двинулся на неприятеля, главные силы которого заграждали путь у Чакабуко. В несколько часов ему удалось, при помощи ловкой фланговой атаки, рассеять неприятельское войско. Паника распространилась далеко. Губернатор вместе с остатками войска, кассами, чиновниками и многочисленными жителями, преданными королю, очистил столицу, и 14 февраля 1817 года войско освободителей с триумфом вступило в Сант-Яго.
В ближайшие недели, последовавшие за победой, обнаружился характер Сан Мартина. Он пришел, чтобы принести народу свободу. И, действительно, как только испанцы очистили поле, весь север Чили поднялся за независимость. Теперь законодательное собрание должно было осветить факты, и в Сант-Яго созван был конгресс. Новоиспеченные республиканцы не могли себе представить, чтобы чужеземный генерал сражался за дело иначе, как для того, чтобы стать во главе его. Поэтому Сан Мартин был почти единогласно избран президентом с полномочиями диктатора. Но он считал, что совершил лишь первый шаг на пути своей славы, и безусловно отклонил избрание. Он предложил конгрессу избрать вместо себя в президенты генерала О’Хиггинса, уроженца Чили, который сражался под его командою при Чакабуко; сам же он удовлетворился званием главнокомандующего всеми боевыми силами.
Республика, занятая устройством гражданского порядка, слишком долго отвлекала внимание начальников от преследования неприятеля. Испанская партия оправилась от первого удара; вице-король Перу отправил подкрепления. Море все еще находилось вполне во власти испанцев, и они могли беспрепятственно высадиться у крепости Талькауано, которая господствует над заливом Консепсиона. Попытка взять Талькауано, предпринятая с недостаточными силами, поставила дело свободы в опасное положение, особенно, когда патриоты во время отступления были совершенно разбиты при Талько недалеко от Мауле (см. «Карты к истории Америки»). Страх и испуг распространились до самой столицы. Эта опасность пробудила, наконец, Сан Мартина из его бездеятельности. Войска его, постоянно строго упражняемые, бесспорно превосходили неприятеля, если не численностью, то своими качествами. Благодаря этому обстоятельству и боевому таланту Сан Мартина, они одержали победу при Маипу после долгой и тяжелой битвы. Победа была настолько полная, что даже южные провинции воспряли и свергли с себя испанское иго.
Если после победы при Маипу Сан Мартин снова затих на долгое время, то это была не его вина. Тотчас после битвы он поспешил обратно через Анды, чтобы получить в Буэнос-Айресе разрешение на план похода против Перу. От патриотов требовалось положить начало флоту, чтобы лишить роялистов преобладания на Тихом океане и обеспечить себе возможность нападения на Перу со стороны моря. В теории планы Сан Мартина и теперь встретили самую полную готовность признания их со стороны представителей властьи в Буэнос-Айресе и нового правительства в Чили; но ни та, ни другая стороны не могли оказать ему существенного содействия. В Буэнос-Айресе именно в это время начиналось федералистическое разложение старых групп. Правительство было настолько поглощено заботами о своей собственной безопасности, которой грозили и внутри, и извне (по крайней мере, по его мнению), что оно не могло в данный момент предоставить средства для планов, заходивших далеко за пределы его непосредственной деятельности. Все, чего мог достигнуть Сан Мартин, заключалось в приобретении нескольких английских кораблей, которые были вооружены чилийскими патриотами почти столько же против тамошнего правительства, сколько против испанцев. Эти корабли образовали основание морской силы и под командою необычайно смелого англичанина Кохрэна значительно способствовали уничтожению испанского морского могущества. Для сухопутной армии Сан Мартин почти ничего не мог добиться в Буэнос-Айресе. Это было для него тем чувствительнее, что одновременно и Чили ставило ему на пути существенные преграды.
Если войска, которых Сан Мартин вел через Кордильеры и Чили от победы к победе с непоколебимым воодушевлением, были преданы своему вождю, то в этом нет ничего удивительного; но и чилийские полки, которые он создал и обучил перед битвою при Маипу, следовали за ним в слепом повиновении. Президент О’Хиггинс также принадлежал к кругу самых тесных друзей генерала. Но большинство чилийских патриотов после устранения опасности со стороны роялистов видело в присутствии освободительного войска лишь тяжелое бремя для истощенного кошелька молодой республики и постоянную угрозу для республиканской свободы. Сан Мартин усматривал в этих обстоятельствах лишь дальнейший повод к тому, чтобы приложить все силы к осуществлению своего плана похода на Лиму. Но так как в данный момент невозможно было собрать требуемые для этого средства, то ему, в конце концов, не оставалось ничего другого, как повести освободительную армию обратно через Анды. Эта мера, предпринятая, повидимому, лишь в виду затруднений по продовольствию и вознаграждению войска, имела, между прочим, большое политическое значение. Испанцы в Перу были обмануты относительно фронта ожидаемой атаки. У чилийцев отнято было всякое основание роптать на аргентинских освободителей; но вместе с тем им дано было понять, насколько государство их оказывается в опасности с удалением армии, служившей верной защитой против роялистов, все еще сильных на границе страны. Наконец, правителей Буэнос-Айреса возвращение войск на почву республики должно было убедить, что содержание армии, хотя бы осужденной на бездеятельность, возлагает на государство едва ли меньшие жертвы, чем те скромные требования, которые были предъявлены Сан Мартином для продолжения борьбы за независимость в неприятельской стране.
Все эти соображения и расчеты Сан Мартина отчасти оказались успешными. Созданный вновь флот патриотов произвел под командою адмирала Кохрэна крайне смелое нападение на испанские корабли в Кальяо и этим доказал, что хотя сам по себе он не мог нанести серьезного ущерба врагу, но все же настолько потревожил и поколебал его, что предположенный Сан Мартином план нападения с берега представлял благоприятные шансы. О’Хиггинс и другие друзья генерала могли теперь свободно агитировать в пользу планов Сан Мартина, не рискуя быть заподозренными чилийскими патриотами, и даже предложить ему вернуть в Чили войска, удаленные через Анды, и в соединении с флотом подготовить нападение на Перу. Наконец, военная политика Сан Мартина не осталась без влияния и на аргентинцев: он достиг принципиального признания своих планов. В скромных размерах ему оказали даже поддержку деньгами и военным материалом, но в последньй момент ему грозила очень серьезная опасность именно с этой стороны. Перспектива, что эта опасность безнадежно уничтожит все его надежды на осуществление своего плана, побудила, наконец, Сан Мартина к смелому шагу: с недостаточным снаряжением и без уверенности в будущем, разрушить позади себя мосты и ринуться в неизвестное.
Партия патриотов, которая считала за собою право отстаивать авторитет правительства Буэнос-Айреса на всем пространстве бывшей испанской колониальной провинции, почти с самого начала увидела себя вынужденною применить силу. В Парагвае она не достигла цели. На восточном берегу Лаплаты, в Уругвае, ей пришлось сделать, по крайней мере, серьезные уступки. Даже на северо-западе победоносным войскам приходилось бороться не только с испанскими войсками, но и с республиканскими противниками. Эта последняя оппозиция приняла такие размеры, что существующее правительство очутилось в необходимости прибегнуть к силе оружия. Таким образом, в то время, когда Сан Мартин подготовлял уже поход на Перу, он неожиданно получил приказ вернуться со своей армией внутрь страны для защиты правительства, подвергавшегося опасности. Сан Мартин принадлежал к тем немногим патриотам, которые не предавались иллюзиям. Он видел, что борьба за большую или меньшую степень гражданской свободы будет смертным приговором для новых республик, если она выродится в междоусобие прежде, чем испанское владычество будет окончательно уничтожено на почве Южной Америки. Он, как и единомышленники его, были, даже в глубине души, несомненные республиканцы и, при своем образовании и опытности, не могли быть ничем иным. Если же они, несмотря на это, в различные фазы борьбы за независимость неоднократно пытались навязать новообразованным государствам монархическую форму правления, то это объясняется лишь широким умственным горизонтом этих людей. Горький опыт убедил их в том, какое дурное употребление из свободы, добытой кровью, делали люди, за которых они сражались. Волей-неволей они должны были прийти к заключению, что даже в сфере руководящих лиц огромное большинство еще безусловно не созрело для серьезных республиканских учреждений. Для этой страны, после достижения независимости, была полезнее крепкая центральная власть на либеральной почве, просвещенный деспотизм, чем разнузданная свобода.
Поэтому Сан Мартин откровенно обьяснил правительству, что даже его войско, которое, при своей строгой дисциплине, является могучим фактором в борьбе с неприятелем, окончательно деморализуется, как скоро оно вмешается в гражданскую войну. И тогда оно явится столь же плохой защитой для правительства, как войска и население, на которых это последнее до сих пор опиралось. Вместе с тем, он вошел в непосредственные переговоры с различными вожаками повстанцев с целью склонить их отдать свои силы прежде всего на служение отечеству и отсрочить борьбу из-за политических мнений, по крайней мере, до того дня, когда общий всем враг будет побежден. Но эти благородные увещания не встретили сочувствия, и правительство, которое само уже не ощущало под собою почвы, все настойчивее повторяло свой приказ, чтобы он явился на помощь ему в Буэнос-Айрес. Тогда Сан Мартин решил отказать в послушании. Он обратился с воззванием к своим войскам и потребовал, чтобы они повернулись спиною к гражданской междоусобице и искали славы в честной борьбе с неприятелем, у которого ему удалось уже вырвать цветущую провинцию. Этот призыв встретил восторженный прием. В несколько дней войско по ту сторону Кордильер было собрано, чилийское правительство приняло его под свою защиту, и чилийско-аргентинский экспедиционный корпус, которому дан был титул «Освободительное перуанское войско» (Exercito Iibertador del Peru), сел в Вальпараисо на корабли под командою Кохрэна.
Сан Мартин надеялся, что население Перу, как и Чили, поднимется за независимость, как скоро армия патриотов предложит ему опору против испанцев. Поэтому он еще раньше распространил в тысячах экземпляров прокламации через посредство флота Кохрэна, маневрировавшего вдоль побережья Перу. Но когда он пристал к твердой земле в Писко, ему пришлось убедиться, что население Перу отнеслось равнодушно, если не враждебно, так же, как население Венесуэлы к прокламациям Миранды. Кроме того, тотчас после вступления его на берег, получено было известие из Испании о восстановлении правительства кортесов, которые настоятельно рекомендовали испанским губернаторам вступить в переговоры с борцами за независимость. Эти переговоры, имевшие гораздо больше шансов на успех, в виду известных взглядов Сан Мартина, чем на севере между Морильо и Боливаром, затянулись на долгое время и были на руку обеим партиям. Сан Мартин надеялся воспользоваться этим временем, чтобы оживить в самом народе движение в пользу освободительного войска, вначале очень вялое, так как он считал противным своим убеждениям навязывать стране необходимое изменение системы правления. Что касается роялистов, то они считали успехом каждый выигранный день, который, по их мнению, должен ослаблять экспедиционный корпус, сам по себе слишком малый в сравнении с его великой задачей.
Высадка в Писко имела двоякую цель: разведать настроение страны и отправить летучий отряд вглубь перуанской плоской возвышенности. Когда это было достигнуто, войска опять перешли на корабли с тем, чтобы снова высадиться в Гуачи, ближе к столице. Только тогда обнаружилось некоторое оживление. Установились сношения с неприятелем на береговой полосе и на сторону революционных войск перешел даже один испанский полк, в котором были особенно сильно развиты либеральные стремления, господствовавшие в то время в Испании. С плоской возвышенности также доходили радостные вести: округа Уайлас, Трухильо, Пиура и др. поднялись и образовали патриотические летучие отряды, которые поддерживали военные операции. Этим путем испанцы оказались запертыми в Лиме еще раньше. чем они пришли в соприкосновение с войском Сан Мартина. Наконец, вице-король, угрожаемый и с берега, и со стороны гор, убедился в безысходности своего положения и решил сдать столицу. Это было тем более легко, что обладание Лимою без гавани Кальяо, которая оставалась в руках королевских войск, представляло не столько стратегическое, сколько нравственное значение.
В Перу Сан Мартин далеко не проявил такой активности, какой от него ожидали, но на это имелось много веских оснований. Он не мог не видеть, что в широких массах населения дело, за которое он боролся, не встречало отклика потому, что они совершенно не понимали его. При помощи одного только экспедиционного корпуса едва ли возможно было нанести решительный удар противнику, располагавшему без сравнения превосходными силами. Всякое поражение было бы равносильно истреблению, между тем, как победа на поле битвы существенно не подвинула бы дела вперед. В довершение ко всему, нездоровый климат побережья значительно истощал его силы, и без того ничтожные, а переговоры, которые велись с испанской стороны с дипломатическим искусством, некоторое время давали право надеяться на возможность мирного улажения дела. Тем не менее, такая выжидательная стратегия Сан Мартина вызывала во многих отношениях порицание. Поэтому сдача Лимы произошла в удобный момент, чтобы осадить его противников, хотя вскоре выяснилось, что ни в политическом, ни в стратегическом отношениях она не дала тех важных результатов, которых ждали от нее освободители.
Эти последние надеялись, что падение столицы поведет ко всеобщему восстанию в стране; но они еще раз обманулись в этом. Сами они не в состоянии были серьезно преследовать испанцев; перуанский народ дал им свободно отступить к Куско. Связь с Боливией дала возможность королевским войскам вполне оправиться в короткое время, так что они могли даже снова перейти в наступление. В Лиме Сан Мартин не решился передать будущую судьбу страны в руки конгресса; хотя последний и не был вполне обезличен, но все-таки нельзя было питать уверенности, что он не отклонит помощи освободителей. Сан Мартин поэтому удовольствовался тем, что провозгласил независимость Перу без санкции народа и взял на себя временно почти диктаторскую власть под именем протектора. Но и при таких условиях новое правительство находило лишь слабую поддержку в народе и испытывало постоянные тревоги, теснимое, с одной стороны, превосходными неприятельскими силами, которые подвигались для атаки со стороны Куско, а с другой, угрожаемое укреплениями роялистов в Кальяо. Военное положение ухудшилось еще более, когда роялисты одержали победу при Ике и одно время угрожали Лиме. С политической точки зрения, такое стечение обстоятельств являлось как бы освобождением, так как то, что не достигнуто было победою, сделала необходимость: население Лимы поднялось за свободу и добровольно присоединилось к войску Сан Мартина. Плодом такого движения непосредственно был ряд побед. Кальяо была давно уже заперта с моря и с суши, и движение королевских войск имело, главным образом, целью снабдить эту гавань новыми припасами. Сан Мартин дал предназначенному для этого войску подойти к самой крепости и тогда окружил его настолько, что лишь быстрое бегство спасло его от капитуляции, которая стала неизбежною для Кальяо.
Тем не менее, Сан Мартин хорошо видел невозможность отстоять, при помощи своих ограниченных боевых сил, провинцию от испанцев, предпринимавших все новые атаки со стороны плоской возвышенности. И так как он всегда считал борьбу за независимость общим делом всех американских колоний, то, не колеблясь, решил попытаться соединиться с Боливаром для общих военных действий. Во всяком случае, от этого можно было ожидать более быстрого и верного успеха, чем от операций каждого из них в отдельности, которые привели лишь к застою на обоих театрах борьбы. Оба героя войны за освобождение уже с некоторого времени вступили в общение друг с другом, но не шли дальше обмена пожеланий удачи и т. п. Ближайшим поводом к более тесному сближению их послужило то обстоятельство, что гавань Гваякиль на границе между Перу и Кито восстала за свободу, и хунта ее прибегла к общему покровительству обоих освободителей. Патриоты Гваякиля желали этим обойти споры относительно принадлежности их родного города, который в политическом отношении представлял составную часть провинции Кито, но географически скорее принадлежал к сфере вице-королевства Перу и часто соприкасался с ним в делах управления. Тихоокеанский флот Кохрэна не мало помогал им для достижения независимости; наконец, и Боливар отправил в помощь борцам за самостоятельность небольшой отряд. Но этот общий протекторат должен был иметь совершенно различные последствия, далеко неблагоприятные для дела свободы, чего в первое время никто не мог предвидеть.
Победа при Бояка̀ (ср. выше, стр. 498) не вполне оправдала надежды, которые связывал с нею Боливар. Над Кито все еще высоко развевалось знамя Испании. Фанатически-роялистическое население провинций Попайяна и Пасто оказывало непреодолимое сопротивление вторжению патриотов. В виду того, Боливар охотно согласился перебросить водою в Гваякиль отряд своего войска под командою Антонио Хозе́ де-Сукре (см. табл. «Герои освобождения Ю. Америки», рис. 4), в надежде, что нападение на Кито с этой стороны отвлечет внимание роялистов и облегчит ему одновременное движение со стороны севера. Но первый поход Сукре был несчастлив. После нескольких удачных стычек, которые дали ему повод слишком низко оценить силу противника, он потерпел при Гуачи тяжкое поражение, последствий которого он избег, лишь благодаря ловко устроенному перемирию. Атака, предпринятая одновременно Боливаром, также не привела к цели. Он расчитывал незаметно проскользнуть мимо непобедимых препятствий позиций роялистов у Пасто и подойти к Кито с северо-востока; но противники преградили ему путь у Бомбоны и вынудили дать сражение. Хотя он и вышел победителем, но план его был, вследствие этого, раскрыт и не удался. Он вынужден был еще раз отложить покорение Кито и отступить к северу.
Из этого стесненного положения освободитель севера вышел, благодаря поддержке Сан Мартина. Этот последний неоднократно предлагал Боливару совместные действия против Кито или против Куско, так как лишь этим путем мыслимо было выбить испанцев из этих опорных пунктов, выполнить задачу, непосильную для каждой из слабых армий в отдельности. Но Боливар не мог, по обыкновению, решиться разделить предвкушаемые лавры с равным по положению союзником и все еще колебался. А Сукре в этом отношении ничем или немногим рисковал и поэтому охотно принял бескорыстное предложение Сан Мартина, который предоставлял ему часть своих войск и этим давал возможность предпринять новое наступательное движение против Кито. С 1500 перуанскими солдатами, присоединившимися к его отряду приблизительно такой же силы, Сукре вторгся в феврале 1822 года в округи Лоха и Куэнка, находившиеся до сих пор в руках королевских войск. Он встретил их отступающими при Риобамбо и здесь, главным образом, при помощи своей кавалерии, одержал внушительную победу. Затем смелым фланговым маршем он принудил неприятеля на склонах вулкана Пичинчи к решительной битве. Военное счастье и в этом случае не изменило соединенным патриотам севера и юга, и Кито достался в их руки, как добыча победителя. Этим было уничтожено сопротивление испанцев в Экуадоре, и Боливар поспешил украсить себя лаврами, добытыми в бою его подчиненными.
В надежде, что вслед за победою в Кито тотчас же будет предпринят второй совместный поход против Куско и Боливии, Сан Мартин устроил личное свидание с Боливаром в Гваякиле. Не таковы, однако, были намерения Боливара, честолюбие которого безгранично разрослось. Можно было еще извинить то, что он без дальних околичностей присоединил Кито к своей Колумбийской республике, хотя завоевание ее состоялось, лишь благодаря энергической поддержке перуанско-чилийского войска: Кито всегда был составной частью Новой Гранады. Но относительно Гваякиля вопрос представлялся более сложным: и при испанцах он оставался невыясненным, а теперь здесь существовало независимое правительство. Сан Мартин полагал, что по этому поводу необходимы личные переговоры с Боливаром. Но Боливар уже заранее решил дело с правовой стороны в пользу Колумбии. Фактически он осуществил свой взгляд таким образом, что, не дожидаясь прибытия соперника, внезапно вступил в Гваякиль и одним властным словом решил все дело. Сан Мартин еще на пути получил известие, что Боливар с удовольствием будет приветствовать его, как гостя на территории Колумбии.
Таким образом, свидание обоих освободителей в Гваякиле состоялось при неблагоприятных предзнаменованиях и продолжалось в том же духе. До настоящего времени еще не вполне разъяснена тайна, окружающая происходившие там переговоры. Несомненно лишь то, что оба полководца не могли прийти к соглашению. К изумлению всех участников, Сан Мартин внезапно уехал из Гваякиля. О совместном походе не было больше и речи. Напротив, у Сан Мартина созрело решение, которое, правда, родилось еще до Гваякиля, но выполнение которого было значительно ускорено исходом свидания с Боливаром.
После побед при Кальяо и Кито, Сан Мартин назначил выборы законодательного конгресса в Перу. Он заранее поставил на вид, что намерен передать в руки конгресса чрезвычайные полномочия, которыми он был облечен. При этом он имел, впрочем, в виду еще особые тайные цели. Сан Мартин не разделял мнения, что в испано-американских провинциях могут быть учреждены жизнеспособные республиканские правительства. Он видел весь север в руках диктатора, быть может, воодушевленного идеей свободы, но все же снедаемого честолюбием и жаждою славы. Он видел, как на юге был близок к крушению опыт создания республиканского правительства в Чили и Буэнос-Айресе, и как старые провинции находились в состоянии большего или меньшего разложения. Сопротивление Перу показывало, наоборот, как глубоко коренились монархические чувства даже в сердцах американского населения. Наконец, введение конституционной монархии в соседней Бразильской империи, совершившееся без особых политических потрясений, являлось сильным аргументом в пользу именно этой государственной формы. Лично Сан Мартин всецело принадлежал к партии своих аргентинских соотечественников, которая мечтала и для своей родины об устройстве южно-американского королевства сперва при посредстве инфантины Карлоты, а впоследствии с молодым принцем из испанской династии во главе. Теперь он работал, как в Америке, так и при содействии специально командированного в Европу посла, над тем, чтобы противопоставить великой южно-американской республике по плану Боливара великую южно-американскую конституционную монархию. Он надеялся включить и Колумбийскую республику в эту пан-южно-американскую монархию. Свидание с Боливаром внесло горькое разочарование в его надежды. И хотя вести из Европы по временам давали ему надежду на близкое осуществление его планов, но настроение в Перу и союзных государствах было так мало благоприятно для его монархических проектов, что он чувствовал глубокую тревогу. Не в его характере было разыгрывать, по примеру Боливара, роль личного Провидения для государства, которым он лишь случайно руководил в данный момент. Не по нем было и участие в неизбежно надвигавшейся гражданской войне. Отсюда он пришел к выводу, что ему не остается ничего другого, как вернуться к частной жизни. Он тем охотнее избрал такой выход, что, по его твердому убеждению, с удалением его, честолюбие Боливара побудит последнего довершить дело освобождения и приобщить также Перу и Боливию к своей Колумбийской республике. 20-го сентября 1822 года он сложил с себя, перед собравшимся конгрессом, все свои должности и звания. Представители все еще думали, что это не более, как один из театральных приемов, к каким приучил их Боливар, или что Сан Мартин оставит за собою, по крайней мере, звание главнокомандующего; но он внезапно и таинственно исчез из Перу и, возмущенный всем, что ему пришлось пережить в Чили и Аргентине, удалился в Европу. Здесь провел он остаток своих дней в качестве постороннего наблюдателя.
Предсказания Сан Мартина, по крайней мере, в большинстве, подтвердились ходом событий. Если Боливар и не заместил его впоследствии в Перу, то лишь благодаря сильному национальному течению, которое встретило с явным недоверием его всепоглощающее честолюбие. Обстоятельства оказались, однако, могущественнее, чем слабое правительство, которое взяло в свои руки судьбы Перу. Отвергнув помощь Боливара, перуанцы лишились значительной части опытных войск, и походы, предпринятые ими на собственный страх, окончились двумя тяжелыми поражениями при Торате и Мокегуе. В конце концов, им оставался только один путь к спасению: униженно просить отвергнутую ими вначале помощь и возвести президента соединенной республики Колумбии в звание диктатора Перу. Это, однако, повлекло за собою даже в Перу гражданскую войну. В среде самого войска вспыхнуло возмущение против передачи его в руки Боливара; Кальяо снова водрузил на своих неприступных стенах испанское трехцветное знамя, а Лима вновь должна была открыть свои ворота испанцам. Таким образом, призванием Боливара достигнута была лишь утрата Перу для дела независимости.
Несмотря на это, испанское владычество отжило и должно было рухнуть. Устранение либерального правительства на родине внесло недовольство в королевскую армию, часть которой провозгласила снова «абсолютного короля» и отказала в повиновении вице-королю. В это время Боливар преобразовал свое войско в северных горных округах и, получив подкрепления из Новой Гранады, возобновил поход в августе 1824 года. Первые операции его сопровождались успехом. Он двинулся на юг по верхним долинам, между обеими горными цепями Кордильер, прикрываемый шайками герильясов, которые всюду появлялись с приближением патриотов. К югу от Паско, у Озера Королей (Lago de Reyes), он встретил неприятеля, шедшего ему навстречу. Битва при Хунине была собственно большой кавалерийской стычкой, в которой королевские войска вначале одержали решительную победу. Но, в пылу преследования, они промчались мимо не участвовавшей в деле кавалерийской массы, которая ударила им в тыл и смяла их разрозненные ряды. Победа оказалась, таким образом, роковым поражением. Испанский полководец, который торжествовал уже победу, должен был быстро отступить и продолжать это отступление на протяжении слишком 750 километров, почти до самого Куско. Боливар не мог следить за ним с такою же быстротою; когда он снова пришел в соприкосновение с неприятелем у Апуримака, наступало дождливое время, положившее конец военным операциям. В то же время конгресс Колумбии значительно ограничил его диктаторские полномочия. Он передал верховную команду Сукре, а сам вернулся обратно в северные провинции. Оттуда он все еще руководил военными движениями, пока можно было поддерживать сообщение. Но в конце ноября неприятель проник между отрядом самого Сукре и сообщениями в тылу его армии, так что ему не оставалось ничего другого, как попытаться решить дело на поле битвы. Испанцы были уверены в победе. Сукре приходилось отступать с невероятной быстротою, чтобы не быть совершенно отрезанным, и в дни перед сражением он понес тяжкие потери. Ни он, ни войско его не теряли, однако, присутствия духа в этом опасном положении и знали, что от них зависит судьба не одного только похода. 9-го декабря 1824 года испанцы вступили в битву, которую им уже не раз предлагали, на равнине Айякучо и потерпели неудачу. Сукре замечательно искусно выбрал позицию и с необычайным талантом руководил битвою, которая почти исключительно велась холодным оружием. Победа была полною. Последняя испанская армия была окончательно рассеяна, и немногочисленные остатки ее, устоявшие на поле битвы, с 14 испанскими генералами во главе, положили оружие. После Айякучо независимость Южной Америки, подготовленная на полях битв при Чакабуко и Маипу, при Карабобо и Бойяка̀, была обеспечена.
Капитуляция на Айякучо была принята почти всеми местами, которые находились еще во власти королевских войск. Сукре не обесславил своей победы излишними кровопролитиями, и почетная капитуляция обеспечила защитникам испанских прав беспрепятственное удаление из страны. Этим Сукре достиг большего, чем он мог ожидать: не только собственно Перу, но и Боливия положили оружие. В одном Кальяо испанский комендант продолжал еще сопротивляться почти в течение целого года, хотя бесцельно, так как помимо удаления из страны испанских войск, даже флот отказался от безнадежной борьбы в американских водах. Фактически независимость была завоевана к началу 1825 года. Отрицательная сторона борьбы за освобождение была исчерпана. Оставалось лишь добиться положительного признания новых государств и дать им настоящую политическую организацию.
9. История независимого Юга до наших дней
Как и можно было ожидать, испанские колонии уже на ранней ступени своего подъема домогались поддержки Северо-Американских Соединенных Штатов, примеру которых они пытались следовать в борьбе за свободу и независимость. Но их встретил безусловный отказ: Соединенные Штаты, сами еще не вполне окрепшие, желали воздержаться от всякого вмешательства, которое могло бы вызвать недоразумения с другими державами. Такое же решение выслушали различные посольства, которые во время борьбы обращались к Англии. Бесспорно, и Соединенные Штаты, и Англия были настроены доброжелательно к испанским колониям и доказали это, относясь не слишком бдительно к частной поддержке восставших, исходившей из гаваней этих государств. Англия признала, однако, борьбу колоний с их родиной внутренним делом, в котором она тем менее могла принять чью-либо сторону, что одновременно с тем находилась в тесных союзных отношениях с Фердинандом VII. Таким образом, борющимся открытую поддержку оказала только негрская республика Гаити и тем охотнее, что борцы за независимость почти повсюду провозглашали свободу негров-невольников, с целью пополнения ими поредевших рядов своего войска, и вообще уничтожали рабство. Они не догадывались, что этим образом действий нарушали дружбу с своими ближайшими соседями. Когда Боливар, после больших побед в Новой Гранаде и Кито, созвал пан-американский конгресс на Панамском перешейке, кроме испанских колоний, он приглашал на него северо-американцев, и уже в то время в Соединенных Штатах существовала большая партия, которая лелеяла мысль о все-американском братстве. Одна из главных причин, почему никто не был прислан со стороны Соединенных Штатов на этот вообще неудавшийся конгресс, было соображение, что одним из статей его заявлялось об уничтожении рабства негров, и, вследствие того, там пришлось бы оказаться на равной ноге с представителями республики Гаити.
Переворот в общественном мнении произошел впервые во время испанской революции и в особенности тогда, когда Фердинанд VII был во второй раз возведен на престол Священным союзом, в качестве неограниченного монарха. Революционное правительство было склонно, ради принципа, сделать большие уступки колониям, и когда его власти все более и более грозила опасность, оно охотно согласилось даже признать независимость некоторой части колоний, чтобы приобресть их поддержку против Франции. Аргентинская республика могла в то время купить себе независимость, отстранившись от прочих колоний, но она отклонила какую бы то ни было сделку помимо других.
Вмешательство Священного союза отделило тогда Англию от других держав. Эта последняя заявила, конечно, в виду, главным образом, своих торговых интересов, что каждую попытку восстановления прежних условий в колониях она сочтет за неприязненный акт против нее. Это поощрило президента Соединенных штатов Монроэ (см. выше, стр. 486) обнародовать 2-го декабря 1823 года декларацию (доктрина Монроэ), с тех пор повторявшуюся бесконечное множество раз по самым различным поводам, в силу которой Союз на каждую попытку европейских держав к завоеваниям на американской территории должен смотреть как на враждебное действие против него. В первое время это не имело большого значения, так как Южная Америка юридически еще оставалась зависимой от Испании, и тамошние республики не были еще признаны Соединенными Штатами. Но дальнейший шаг к этому признанию, в виду того, что Испания должна была отказаться от попыток восстановления своей власти, был только вопросом времени и удобства; он должен был определиться тем, какое употребление сделают молодые государства из своей свободы.
Когда победа на равнине Аяйкучо уничтожила последнюю опору испанской власти в Южной Америке, ни одна из прежних колониальных провинций, в действительности, не имела еще серьезной организации. Буэнос-Айрес вначале, повидимому, без всяких существенных потрясений, превратился в жизнеспособную республику. Тем не менее, и там произошла быстрая перемена формы и лиц высшей исполнительной власти; лишь после того, как в 1816 году провозглашена была независимость республики, был созван конгресс по действительно свободному народному выбору, и в то же время установилось даже равновесие в бюджете юного государства, еще добивавшегося своего признания. Однако, эти результаты были вновь совершенно утрачены, когда в 1820 году достигла власти федералистическая партия, которая уничтожила единство правления, и не только признала независимость отделившихся провинций, Боливии, Парагвая и Уругвая, но и расторгла все связи настоящих аргентинских округов между собою и с Буэнос-Айресом. Последний обязан был прочным положением во главе власти только своему географическому значению, которое в бо̀льшей мере приводило его в соприкосновение с иностранными державами, чем внутренние провинции. И хотя в силу исторического предания, тогдашние властители в Буэнос-Айресе стремились все более и более доставить фактическое преобладание этой провинции, но между нею и соседними государствами долгое время существовал лишь союз на основе полной независимости всех договаривающихся сторон.
В это время нравственная сила правительства стала быстро клониться к упадку. Революция была произведена людьми, которые своим выдающимся образованием предназначены были к роли вождей: Бельграно, Сан-Мартин и Ривадавия, несомненно, возвышались над большинством своих сограждан знаниями и талантами. Но для менее почтенных политических деятелей потрясение всякой законной власти было наиболее удобной почвой; победа федеральной идеи была, главным образом, плодом честолюбия предводителей местных партий, которые среди общей необеспеченности хотели прежде всего создать положения для самих себя и своих приверженцев. Централистическая партия не могла противопоставить этим стремлениям никакого высшего интереса, который мог бы оказать достаточное действие на неопытную массу. Последствием того было крушение этой партии и более грубый образ действий правительств. Лишь этим объясняется диктатура Дон-Хуана Мануэля де-Розас, который из управляющего фермою, путем хитрости и бессовестности, сделался президентом Буэнос-Айреса, вновь восстановил, более или менее сомнительными средствами, главенство его над другими провинциями и, при весьма трудных условиях, почти в течение 20 лет, занимал положение диктатора во главе государства. Так как при этом всякое проявление независимого образа мыслей уничтожалось в корне, обеспеченность жизни и собственности была ослаблена, и, тем не менее, диктатор не мог быть свергнут, то это было преимущественно результатом того, что даже лучшие представители народа не имели настоящего понятия о громко прославлявшихся благодеяниях республиканской свободы.
В конце концов, Розас пал не жертвою реакции, поднявшейся для восстановления закона и порядка, а в борьбе с людьми, которые были не лучше его. Слабым пунктом Аргентинской республики было отношение к отпавшим провинциям, в особенности к Монтевидео, на которую, кроме местной партии независимости, беспрерывно обнаруживала притязания и Бразилия. После первого столкновения за обладание Уругваем, Бразилия и Буэнос-Айрес пришли к соглашению признать это государство независимым и совместно гарантировать его существование. Однако, и там различные партии боролись за место у государственного кормила; поддержание свергнутого президента дало Розасу благовидный предлог вновь распространить свое влияние на Уругвай. Война, возгоравшаяся по этому поводу, повела даже к временному вмешательству Франции и Англии. Но прежде всего она послужила к тому, чтобы выдвинуть новых властолюбивых вождей партий против Розаса; под их натиском, власть его рушилась в 1852 году на поле сражения при Монте-Касерос. Розас, хотя и насильственными средствами, вел, под видом убежденного федералиста, довольно объединительную политику; его изгнание вновь поставило вопрос о союзе Аргентинской республики, и Буэнос-Айрес на долгое время отделился от него. Однако, борьба, которая не столько вращалась около государственного союза и около единого государства, сколько около обладания властью, едва ли когда-нибудь приводила к спокойствию: революции в республике или войны между ее частями продолжались до новейшего времени.
Самое значительное из этих столкновений была война с Парагваем. В этой стране, называвшейся республикой только по имени, за диктатурою д-ра Франсиа (см. выше, стр. 494) последовала диктатура обоих Лопесов, отца и сына. Между тем, как Франсиа искал блага государства в строгой замкнутости его от соседних государств, оба Лопеса (Карлос Антонио, умерший в 1862 г., и Франсиско Солано) открывали его всем иностранцам и вызвали этим значительный экономический подъем. Но когда Лопес-младший вмешался в борьбу претендентов на Уругвай, он прежде всего вызвал этим враждебность названной страны, а в октябре 1864 г. неприязнь Бразилии; при своих стараниях повредить этим противникам, он легкомысленно вызвал и вражду Аргентинской республики. Так образовался союз этих трех государств против Парагвая, который в течение пятилетней войны утратил почти все свое благосостояние, значительную часть своих владений и свое политическое значение. С тех пор и там, вместо пожизненных диктаторов, выступали республиканские президенты. Но внутренний покой с того времени часто нарушался и в Парагвае. Несмотря на то, революционное состояние не сделалось там в массе хроническим, как в Уругвае, где партийная война колорадосов и бланкильосов, ведущая начало со времени вмешательства Розаса, до новейшего времени почти ни разу не давала возможности ни одному президенту дожить до конца законного срока своей должности.
И последней из провинций, которая некогда принадлежала к Буэнос-Айресскому вице-королевству, выпал жребий не лучше, чем родственным ей государствам. Верхнее Перу, нынешняя Боливия, получило свободу, только благодаря победе Сукре на Айякучо. Собрание, созванное в Чукисаке, объявило в августе 1825 года независимость республики Боливии, против чего ни Перу, ни Аргентинская республика не заявили никаких возражений (см. «Карты к истории Америки»). Молодое государство отдало себя под покровительство Боливара, которого считало своим настоящим освободителем, и предоставило ему заботу о будущем устройстве республики. Боливар не упустил этого случая провести на деле свои идеи о государственном управлении и наделил Боливию формою правления, которое так же, как в Ангостуре, состояло из пожизненного президента, наследственного сената и нижней палаты с ограниченными полномочиями. Согласно постановлению конгресса, ему предоставлены были диктаторские права всегда, когда он вступил на почву Боливии, но конституционным президентом был назначен главный маршал Аяйкучо, Сукре. Гораздо лучше своего учителя он распознал опасность, какой Codice Boliviano (Боливийский кодекс) подвергал молодую республику. Они приняли звание президента только на два года, но отказался от него еще до истечения этого срока, когда обнаружилось противодействие республиканско-патриотической партии аристократическим стремлениям колумбийского диктатора.
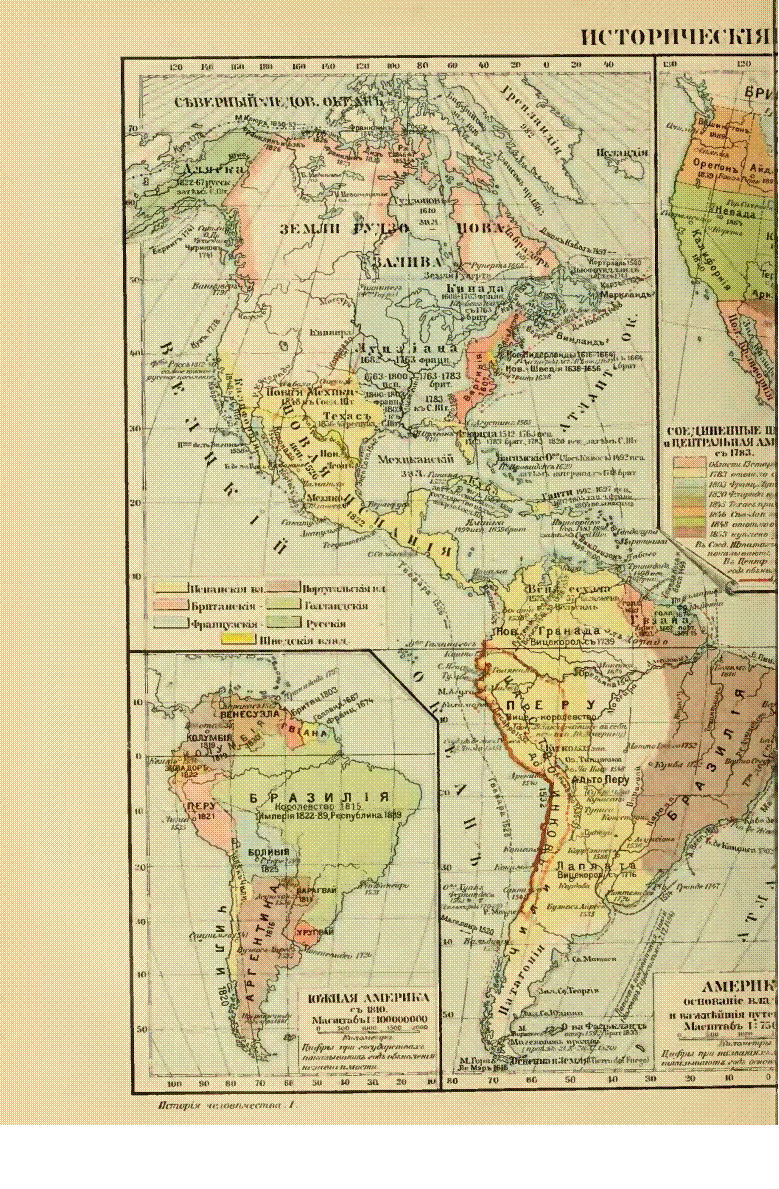
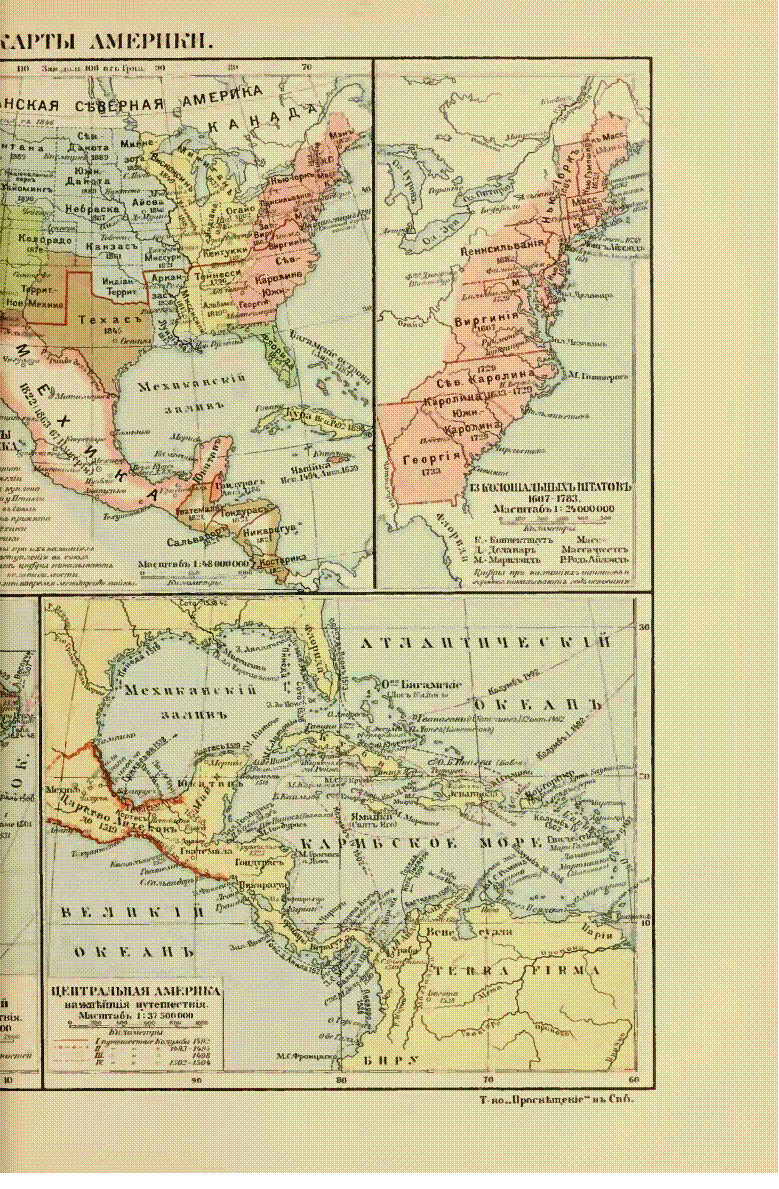
Вместе с тем и для Боливии настал период продолжительных военных возмущений, которые были прерваны только десятилетней диктатурой генерала Санта Крус. Этот последний был индейского происхождения, участвовал в войне за независимость и отличился при Пичинче (ср. выше, стр. 507); поэтому высшее место в государстве досталось ему отчасти по заслугам. Однако, его честолюбие не было этим удовлетворено: он мечтал, подобно Боливару, о союзе американских республик под его руководством. Положение вещей в Перу доставило ему случай к осуществлению этих планов. Диктатура Боливара в Перу, правда, оттеснила национальную партию, но не устранила ее совсем и она усилилась, как только испанцы потерпели окончательное поражение. Провинция эта лишь неохотно переносила опеку колумбийской республики, и, когда ее внутренние затруднения отозвали диктатора на север, она сбросила иго и в 1827 г. объявила себя независимой. Но это послужило только сигналом к взрыву междуусобной войны. Санта Крус, обрадованный желанным поводом к вмешательству, сумел подвигнуть перуанцев к более тесному сближению с Боливией и, как глава союза, облек себя высшей властью в обеих республиках. В этом положении они оказали значительные услуги для экономического развития подчиненных ему государств; однако, его внешняя политика не соответствовала трудностям положения и повела к падению его правительства и к разрыву перу-боливийского союза.
Утесом, вызвавшим крушение Санта Круса, было Чили. Там первый президент О’Хиггинс (ср. выше, стр. 502) в это время пал жертвою демократических стремлений, когда Сан Мартин в Перу отказался от борьбы за конституционную монархию в Южной Америке. Однако, господство так называемых либералов создало трудные времена и для Чили; с 1823 г. до 1831 года в Чили сменилось не менее тринадцати правительств и семь раз изменялась конституция. Лишь с избранием президента Хоакина Прието и с консервативной конституцией 1833 г. развитие Чили получило устойчивость, которою до недавнего времени оно так выгодно отличалось от всех других испано-американских республик. В надежде присоединить и Чили к своему союзу государств Санта Крус поддержал попытку бывшего чилийского президента Фрейре, который надеялся устранить вооруженной рукой либеральную партию и доставить победу консерваторам. Но Фрейре не только был побежден строго законным правительством Прието, но увлек в своем падении и Санта Круса, так как Чили за это вмешательство в свои дела объявило войну перу-боливийскому союзу. Санта-Крус вел войну без всякой энергии и в 1839 г. при Юнгае потерпел полное поражение, последствием которого явились независимость всех трех республик и отречение от власти боливийского диктатора.
С тех пор в Боливии многие президенты быстро следовали один за другим, почти всегда возвышаемые и низвергаемые военными пронунсиаменто. При этом естественные ресурсы страны оставались в незаслуженном пренебрежении. Уступая всем своим соседям, эта страна только раз еще сыграла историческую роль, в сущности, пассивного характера, – в перуанско-чилийской войне 1879 года.
Для Перу падение Санта Круса было так же невыгодно, как и для Боливии. Правда, благодаря в особенности деятельности президента Рамона Кастильи (1844–54), было сделано многое для экономического развития страны, но внутренняя политика большинства президентов не была достаточно дальновидной и бескорыстной, чтобы положить твердую основу благосостоянию государства. Большие естественные богатства частью бессовестно расточались, частью становились предметом отчаянной спекуляции, какой не могло бы выдержать и давно установившееся государство; юную республику все это вело к гибели.
Истощение естественных ресурсов в эксплуатировавшихся прежде всего средних провинциях, в конце семидесятых годов, придали особую ценность южным округам. Там были открыты не только неистощимые залежи селитры и соды, но и богатые серебряные рудники; поэтому в этих пустынных местах надеялись найти возмещение хищнической эксплуатации залежей гуано на островах Чинча. До тех пор границам в этих мало привлекательных местностях не придавалось почти никакого значения. Боливия, правда, обладала здесь узким участком, доходившим до Тихого океана и отделявшим Перу от Чили, но так мало обращала на него внимания, что свои территориальные притязания и верховные права наполовину уступила Чили прежде, чем выяснилась ценность этой местности. Вследствие того, не только в Атакаме, Боливийской береговой области, но и в Тарапака̀, самой южной части Перу, почти все хозяйственные интересы находились в руках чилийцев и подданных других государств, которые обогащались здесь, возбуждая зависть настоящих владельцев земли. Втайне давно связанные между собою противники Чили начали неприязненные действия тем, что Боливия, противно трактатам, в начала 1879 г. обложила чилийскую промышленность в Атакаме высокими пошлинами и, получив отказ в уплате их, конфисковала все, что принадлежало Чили. Но Чили было подготовлено в борьбе; войска его заняли без серьезного сопротивления спорный береговой участок, и Боливия, в течение всей войны, почти не пыталась вернуть себе утраченную область. Распря происходила в сущности между Перу и Чили, после того, как первое, на основании союзного договора, вступилось за Боливию и этим дало Чили желанный повод объявить ему войну. Пока перуанский флот усиленно боролся с чилийцами за господство на море, эти последние и на суше не пошли далее осады самых южных береговых местечек. Но после того, как «Гуаскар», самый большой и быстроходный из перуанских военных кораблей, был взят в неравной битве чилийским флотом (8 октября 1879 г.), боевые силы южной республики могли нанести общее поражение и предпринять победное движение, которое в январе 1881 г. закончилось в Лиме. Поражение повело в Перу и Боливии к падению существующего правительства, и прошли долгие годы прежде, чем отношения победителя к побежденным могли получить конституционную форму. Вследствие того, Чили оставалось при продолжительном обладании Атакамой и Тарапака и временно заняло провинции Такна и Арика, которые до сих пор еще не вышли из-под ее власти (см. «Карты к истории Америки»).
Победа была блестящим оправданием чилийского образа правления, которое всегда считалось враждебным свободе. Она, несомненно, была последствием того, что правительственная власть в Чили, со времени конституции 1833 г., обладала большей силой и единством, чем в какой-либо другой из испано-американских республик. Упрек во враждебности к свободе, во всяком случае, не основателен. Уже при Мануэле Монтт (1851–61), настоящем основателе процветания Чили, развитие конституции в либеральном смысле получило серьезный толчок, и его преемники не останавливались на этом пути. Но сомнительно, – уравновешивали ли достигнутые при этом успехи вред, какой с тех пор испытывало Чили вследствие более усиленной и ожесточенной борьбы партий, чем при консервативном правительстве 1833 г. В этой борьба, главным образом, заключался конфликт, который после десятилетнего мира в 1891 г. привел к революции и к насильственному падению правительства. Указание опыта, в силу которого война для победителей, в их экономической жизни, может быть почти столь же опасной, как и побежденным, оправдалось и на Чили. Чрезвычайное увеличение национального благосостояния, вызванное перуанской войной, повело к крайне неосмотрительной деятельности в экономической области. В особенности президент Хозе Мануэль Бальмаседа (1886–91) довел в этом направлении силы страны до крайнего напряжения. Финансовый кризис обратился в политический вследствие того, что хозяйственные спекуляции несомненно производились к личной выгоде президента и его креатур, обременяя государственную казну. Это придало революции, исходившей столько же из политических, сколько и личных интересов партии, непредвиденную нравственную силу и привело в 1891 г., в короткое время, к сравнительно легко доставшейся и благоразумно использованной победе, тем не менее, факт, что и в Чили ряд законных правительств низвергался победоносным военным восстанием, остается в своей силе. Немногие годы, протекшие с тех пор, могли уже показать, что государственная власть не без потрясений выходит из этой борьбы. В настоящее время Чили лишь мало может иметь притязания на прежнюю свою репутацию наиболее внушающей доверия из всех южно- американских республик.
И Колумбийской республике, этому любимому созданию Боливара, не суждено было долголетие. Когда «освободитель», пожиная плоды победы Сукре при Айякучо, шел триумфальным маршем через Боливию, в голове его уже снова зрели смелые планы расширения Колумбийской республики. Он то предлагал чилийцам помощь, чтобы вытеснить последние остатки испанских гарнизонов из архипелага Чилоэ, то задумывал, вместе с аргентинцами, нападение на Бразилию, последнюю страну южно-американского материка, находившуюся под монархической властью, еще не отрешившуюся от связи с Старым Светом. Однако, диктаторская власть и аристократическое правление, которое он ввел в Перу и в Боливии, делали его только подозрительным для республиканцев не только в других государствах, но даже в Новой Гранаде; ни в Чили, ни на Ла-Плате не было в то же время недостатка в честолюбивых генералах, которые готовы были последовать его примеру в свою собственную пользу. Наконец, возрастающее недоверие колумбийского конгресса вызвало его с юга, и безусловное повиновение было, быть-может, его лучшей защитой.
В Венесуэле уже в 1826 г. сильная партия, во главе которой стоял Паэс, настаивала на отложении от Колумбийской республики. Это последнее почти стало фактом, когда вмешался Боливар и всевозможными уступками сумел склонить своих старых товарищей по оружию вновь признать его власть и власть колумбийского конгресса. В это время соответственное движение произошло в Перу. Там, как и в Боливии, колумбийцы с самого начала не пользовались расположением. Чувствуя себя свободной от угрожающей близости диктатора, национальная партия восстала, свергла в Лиме правительство, поставленное Боливаром, и пригласило Боливию примкнуть к ней. Это настолько соответствовало настроению Боливии, что она восстала против Сукре и понудила его к отречению, о котором было упомянуто выше (стр. 513). Но перуанцы пошли еще далее: они вызвали в Гуайякиле и других местах Экуадора пронунсиаменто. Под предлогом защиты их от угнетения, перуанский диктатор Ламар объявил войну Колумбии. На этот раз опять Сукре спас славу колумбийского оружия: своей победой при Тарки он вызвал в Перу революцию против Ламара. Новое правительство, правда, отстояло независимость Перу, но заключило на льготных условиях мир с соседними государствами.
Уже в это время Боливару приходилось постоянно бороться с сильным течением, которое стремилось устранить его самого и его диктатуру. После того, как он четыре раза низлагал правительство, чтобы каждый раз в ближайший момент вновь завладеть неограниченными полномочиями, его враги решили сделать попытку отделаться от него незаконным путем. После различных неудачных вспышек в провинциях, 25 сентября 1828 г. разразилось в Богота̀ военное восстание, имевшее целью умерщвление Боливара. Однако, его почти чудесное спасение внесло в планы заговорщиков такое смятение, что они легко были побеждены: умный Боливар и на этот раз искал более примирения с побежденными, чем мести своим противникам. Но, в конце концов, он не в силах был обезоружить партию, которая в его постоянно возобновлявшихся чрезвычайных правительственных полномочиях видела серьезную угрозу свободе. Когда он перед конгрессом 1830 г. прибегнул к часто употреблявшемуся им приему, к отречению, он должен был с грустью видеть, что это отречение было принято, хотя и с всевозможными почетными выражениями признательности за его услуги, оказанные свободе, и ему был назначен преемник в лице Хоакина Москеры. После долгого колебания, Боливар решился подчиниться приговору конгресса. Уже тяжело больной, оставил он страну, которая, по его мнению, отплатила ему неблагодарностью, и умер в Санта Марте 17 декабря того же года.
Колумбийская республика была потрясена еще раньше. В Венесуэле повторилась вскоре попытка расторгнуть связь с Колумбией; эти стремления в 1830 г. приняли новое направление, обратившееся против Боливара. Однако, и после его удаления, движение это не могло затихнуть: Паэс и его приближенные господствовали безусловно над законодательным собранием. Попытки воспротивиться этому преобразованию были подавлены без большого кровопролития; еще в конце года Венесуэла объявила себя независимой республикой в пределах прежнего Каракасского генерал-капитанства. То же самое сделала и Боливия, с тем различием, что она признательно чтила память своего освободителя и предлагала ему приют, когда он сложил с себя свое звание в Колумбии; предложение это он отклонил так же, как и призыв вновь взять правление в свои руки по желанию победоносного восстания против Москеры. В следующем, 1831 г. исчезло самое имя Колумбии: провинции, остававшиеся верными правительству Богота, составили из себя республику Новую Гранаду и под консервативным правлением, которое поддерживалось с полной силою целым рядом энергичных президентов, до 1857 г. пользовались редко возмущавшимся, почти спокойным развитием. Но затем и здесь вспыхнула гибельная междуусобная война между партиями централистов и федералистов; дело последних, которые в крайних географических различиях находили для себя оправдание, под конец взяло верх. Под именем Соединенных штатов Колумбии в 1861 г. образовался союз по образцу Северо-Американских Соединенных Штатов. С того времени страна могла вновь с бо́льшим спокойствием отдаться своему экономическому развитию.
Подобный же процесс переживала Венесуэла. В первые двадцать лет Хозе Антонио Паэс, в качестве президента (1830–38, 1839–42), диктатора (1846) или только советника настоящего представителя власти, в сущности, направлял судьбы государства, для освобождения которого он, на ряду с Боливаром, сделал всего более. Его энергичное управление обеспечило республике мирные времена. Но и здесь федеративное правление, на подобие северо-американского, все более и более приобретало приверженцев, хотя оно исходило не столько от естественных причин, сколько из стремления к подражанию, сделавшись лозунгом либеральной партии. Венесуэла принадлежит к государствам испанской Америки, которые всего менее имели возможности окрепнуть. После многолетней междуусобной войны, в которой Паэс еще раз взялся за оружие (1861–1863), в защиту единства республики, провинции в 1864 г. составили союзную республику «Соединенных Штатов Венесуэлы». Тем не менее, междуусобная борьба там постоянно вспыхивала вновь, и только почти диктаторское управление Антонио Гусмана Бланкос (1870–77, 1879–84 И 1886–87) по временам доставляло мир республики.
10. Средняя Америка и Бразилия
А. Мексика
Во все время борьбы Южной Америки за независимость, Мексика одна стояла в стороне, шла собственной дорогой. После низложения Идальго и его приверженцев (ср. выше, стр. 491), испанское владычество, повидимому, вновь вполне утвердилось; даже введение и последующее устранение демократической конституции 1812 г. совершилось здесь без всяких столкновений. События, которые разыгрывались кругом в одноплеменных государствах, не могли, конечно, вовсе не отражаться в умах населения; однако, желание свободы и независимости было не настолько сильно, чтобы стремиться к ниспровержению существующих условий. Революционный толчок исходил здесь с совершенно другой стороны.
Вице-король оказывал особое доверие подполковнику Итурбиде, который, хотя и был уроженцем Мексики, отличался в борьбе с отрядами Идальго энергией и искусством, но в то же время и жестокостью. Однако, Итурбиде употребил во зло это доверие. Он втайне вступил в союз с предводителями креолов и с рассеянными приверженцами партии Идальго; в то время, как он, повидимому, выступил с военной силой против одного из них, он произвел в городке Игуале военное пронунсиаменто, направленное против испанского владычества. Составленная им программа конституции возвещала независимость Мексики и проектировала созвание конституционного собрания, но заранее объявляла страну монархией, престол которой должен быть предоставлен Фердинанду VII и другим принцам его дома. Число приверженцев его возрастало с необычайной быстротой, так что вскоре вице-король и испанская партия увидели в своем распоряжении только одну столицу. Прибытие вице-короля, назначенного либеральным правительством Испании, закончило эту революцию без всякого кровопролития. Новый правитель принял план Итурбиде почти без изменения и лично отправился в Испанию, чтобы ходатайствовать за него при дворе Фердинанда VII. Если бы тогда кто-либо из братьев короля решился уехать в Мексику, то государство это во всяком случае осталось бы в руках бурбонской династии. Но игуальский план был отвергнут, и это заставило его автора вступить на путь революции. Так как временное правление, при продолжительности своего существования, одинаково казалось угрожающим всем партиям, Итурбиде допустил своих приверженцев в мае 1822 г. провозгласить его императором Мексики, чтобы таким способом спасти выработанную им конституцию. Однако, приверженцев его было слишком мало, и прошлое его было недостаточно безукоризненно, чтобы господство его могло быть навязано стране. После того, как в самых различных провинциях последовали новые пронунсиаменто во враждебном ему смысле, император уже в марте 1823 г. вынужден был искать убежища на борте английского судна.
Тогда в Мексике была провозглашена республика. Однако, на деле она существовала только по имени, пока ряд военных президентов, пользовавшихся большей или меньшей удачей, оспаривал наследство Итурбиде. Самая выдающаяся личность в этой борьбе, генерал Антонио Лопес де Санта Ана (Сантана), который принимал уже существенное участие в низвержении «императора», в течение некоторого времени сажал и низвергал президентов по собственному выбору, сам принял это высшее звание и потом терял и возвращал его себе несколько раз. Его неоспоримая заслуга заключается в том, что во внутренних делах он твердо отстаивал сильное централистическое правительство против неосновательных в географическом и историческом смысле федералистических идей, исходивших лишь из слепого подражания Северо-Американским Штатам, а извне мужественно защищал неприкосновенность и честь страны, неоднократно рискуя своей собственной безопасностью.
Более всех других испано-американских республик Мексика втягивалась в международные затруднения. Еще в 1829 г. испанцы повторили попытку насильственного возвращения страны под свою власть, но были разбиты Санта Аной и вынуждены к капитуляции. Восстание, вспыхнувшее в 1836 г. в Техасе, было, прежде всего, внутренним делом Мексики, границы которой в то время охватывали весь дальний запад Северной Америки. Но так как Санта Ана, при попытке вернуть эту провинцию к повиновению, был разбит 20 апреля 1836 г. и взят в плен, то сепаратисты получили преобладание. Техас образовал под президентством американца Гоустона независимую республику, которая с самого начала искала поддержки в тесном союзе с Соединенными Штатами и в 1845 г., по собственному ходатайству, была принята в Союз. Мексика не сочла возможным спокойно перенести это оскорбление; она объявила Соединенным Штатам войну и поручила главное начальство над войском Санта Ане. Однако, разрываемая борьбою партий, истощенная в финансовом отношении Мексиканская республика была не в силах бороться с североамериканцами. Наступление войск Союза не встретило в северных провинциях серьезного сопротивления, и высадка в Вера-Крусе совершилась беспрепятственно. Санта Ана, правда, несколько раз выступал против этих войск, но он терпел одно поражение за другим и, наконец, бежал в Ямайку, когда союзные войска, в сентябре 1847 г., в самой столице Мексики продиктовали условия мира своим противникам. В силу их, Мексика отказывалась от своих притязаний на Техас и уступала все северные тихоокеанские провинции за вознаграждение в 15 миллионов долларов.
Санта Ана в 1853 г. был еще раз поставлен во главе истощенного государства, чтобы с диктаторской властью руководить его восстановлением, и он принял эту задачу со своей обычной энергией; однако, он тем менее мог восстановить внутреннее спокойствие, что с 17 декабря 1853 г. открыто стремился прочно удержать власть в своих руках. В 1855 г. он был низвергнут новым пронунсиаменто. С того времени Мексика вновь впала в революционное состояние, которое еще раз вызвало иноземное вмешательство в жизнь несчастной страны. Продолжительное беззаконие привело государство на край банкротства, и, при своих финансовых затруднениях, лица, находившиеся у власти, естественно, не всегда стеснялись трактатами в пользовании имуществом иностранцев. Уже в 1838 г. подобные обстоятельства привели к войне с Францией, которая временно завладела гаванью Сан Хуан де Улуа. Когда в 1861 г. президент Карло Бенито Хуарес, который после долгой борьбы партий приобрел власть, впрочем, оспаривавшуюся многими, вновь позволил себе противозаконно воспользоваться имуществом иностранцев, Наполеон III, старавшийся заставить позабыть незаконное вступление свое на престол с помощью блеска внешних успехов, ухватился за этот случай и предложил Англии и Испании снарядить общую экспедицию для защиты прав своих подданных. Предложение это сперва было принято обеими сторонами. Войско, составленное из отрядов всех трех государств, осадило Вера-Крус и дошло до Орисабы. Однако, когда союзники узнали, что Франция не предполагала ограничиться возмещением ущерба ее подданных, а стремилась к ниспровержению существующей власти в Мексике и к установлению монархии под своим покровительством, тогда англичане, а вскоре за ними и испанцы, отказались от участия в этой войне.
Обманутые внушениями мексиканских беглецов, французы верили, что народ массою устремится к ним и приготовит им триумфальное шествие до самой столицы. Вместо того, они встретили в Пуэбле такой жаркий прием, что были довольны, когда могли добраться до своих прежних квартир у Орисабы и удержать их за собой. Лишь посла того, как войско экспедиции было доведено до численности 30000 человек, оно вновь могло двинуться вперед. После ожесточенной борьбы за обладание Пуэблой, закончившейся капитуляцией мексиканского гарнизона, Мексико отворил свои ворота победителю. Этим цель казалась достигнутою. Быстро созванная хунта назначила временное правительство, которое чрезъ насколько дней представило конгрессу проекты законодательства, создавший монархию с именем империи; он был принят подавляющим большинством, почти единогласно. Претендентом, которого выбрал Наполеон для императорского трона и согласием которого он заручился еще до начала военных действий, был австрийский эрцгерцог Максимилиан. Когда депутация временного правительства прибыла в Мирамаре, чтобы предложить принцу императорскую корону Мексики, он охотно принял ее. В апреле 1864 г. в гавани Триеста он вступил на борт «Новары», которая должна была отвезти его в Вера-Крус. Переезд совершился необычайно быстро, и народ приветствовал своего нового государя с искренней радостью: когда он вступал в Мексико, противная партия, во главе которой стоял бывший президент Бенито Хуарес, казалась фактически уничтоженной.
Ее значение стало возрастать, однако, поразительно быстро вследствие внутренних затруднений, на которые наталкивалась императорская власть. С самого начала Максимилиан почувствовал, что руки его связаны. Его договор с Наполеоном III, правда, обеспечивал ему помощь французских войск, но в лице их главнокомандующего, маршала Базена, тот же договор создавал около императора другую власть, которой он мог распоряжаться только в самом ограниченном размере. Базен был почти таким же королем в Мексике, и тем более в значительной степени, чем более исчезало взаимное доверие между императором и маршалом. Далее, договоры показали, что вмешательство французов в пользу Максимилиана вовсе не было столь бескорыстным, как это могло казаться. Финансовые требования, предъявляемые стране, были крайне тяжелы и достаточно неответственны, так как под давлением французской политики велась недостойная спекуляция по эксплуатации Мексики в целях выполнения весьма сомнительных требований. Уже эти моменты были весьма невыгодны для власти Максимилиана. Он сам тем охотнее готов был снять с себя всякий отчет за положение вещей, что покровительство иностранной державы должно были привести к отчуждению от него значительной часто страны. Поэтому он не только старался избавиться по возможности от французского влияния, но и стремился стать выше партий, которые разделяли страну на два враждебных лагеря. Но народ был не подготовлен к такому беспристрастному отношению к делу.
Консервативная партия, которая возвела на престол Максимилиана, оказалась обманутою в своих ожиданиях, а либералы в его миролюбии видели сознание слабости и вскоре опять стали чувствовать свою силу. Они могли сделать это тем легче, что нашли поддержку, которая обещала им более верную охрану, чем та, какую Франция могла доставить их противникам. Французское вмешательство было очевидно направлено против Соединенных Штатов, мощное распространение и быстрый подъем которых тревожил монархов Европы. Наполеон счел этот момент особенно удобным для вмешательства, так как Соединенные Штаты, вследствие междоусобной войны, недавно были вполне поглощены своими внутренними делами. Однако, быстрая и полная победа северных штатов развязала им руки и послужила к тому, что они сочли нужным принять энергичное положение в мексиканском вопросе. Для них Хуарес представлял единственное правоспособное правительство Мексики, так как он по собственному полномочию продолжил срок своей президентской власти и до сих пор жил в качестве беглеца на дальних границах страны.
Перспектива доставить предлог Соединенным Штатам к вторжению в северную Мексику, вследствие поддержки Максимилиана Францией, была крайне неприятна для Наполеона III. Однако, вместо того, чтобы открыто признать это положение вещей и охранить свое создание другим путем, Наполеон воспользовался неисполнением финансовых обязательств со стороны мексиканского правительства, как предлогом, чтобы предать Максимилиана, которого он долго держал между страхом и надеждой. Максимилиану эти крайне трудные обстоятельства, вообще, оказались не под силу. Его колебания между мексиканскими партиями и нерешительность его политики по отношению к Франции во многом содействовали потрясению его трона. К этому присоединились ослабление его здоровья и тяжелый удар, когда супруга его Шарлотта лишилась рассудка после тщетных попыток найти помощь в Париже и в Риме. Когда французские войска начали выступление из страны, Максимилиан, повидимому, решился на отречение, но потом внезапно вернулся назад и стал сам во главе слабого отряда, отстаивавшего его власть. Но было уже слишком поздно. В половине мая 1867 г. в Керетаро ему изменили собственные генералы, и, после краткого, лишенного всякой формы процесса, он был расстрелян республиканцами вместе с немногими лицами, остававшимися ему верными (19-го июня 1867 г.).
Теперь для Хуареса задача была уже легка. Вновь овладев властью, он оказался более ловким политиком, чем его предшественники. В республиканской форме Мексика с 1865 г. жила, в сущности, под диктатурою двух лиц: Бенито Хуареса (1867–72) и Порфирио Диаса (1877–81 и с 1884 г. без перерыва). Пронунсиаменто и революции были там довольно частым явлением, как и в остальной испанской Америке, но просвещенный деспотизм этих правителей позволял стране возмещать многое, что она утрачивала во время революции. В союзе с испанскими родственными республиками она оказывает медленные, но несомненные успехи на пути к истинно республиканской свободе.
В. Мелкие Средне-Американские республики
Когда Итурбиде, в 1821 г., подготовил внезапный конец испанскому владычеству в Мексике, движение в пользу независимости сообщилось и генерал-капитанству Гватемале, в которое входили государства к северу от Панамского перешейка до границ королевства Новой Испании. Революция и там произошла без кровопролития, по крайней мере, насколько дело касалось отторжения от Испании; напротив, между партиями рабовладельцев и либералов тотчас же возгорелась междоусобная война. Первые начали с того, что, наперекор законодательному собранию, провели присоединение Центральной Америки к империи Итурбиде. Вследствие того, они были вовлечены в воспоследовавшее в скором времени падение его и утратили свое влияние в стране, отдельные округа которой, под предводительством либералов, взяли ведение дел в свои руки и образовали мелкие республики Центральной Америки. Тем не менее, чувство взаимной связи их не угасло. Только Чиапас отделился от прежних союзников и присоединился к мексиканской республике. Гватемала, Гондурас, Сан Сальвадор, Никарагуа и Костарика, напротив, составили 1-го апреля 1823 г. союзное государство, которое в 1825 г., в лице генерала Арсе, избрало своего первого президента. Это положило, впрочем, начало беспрерывной междоусобной войне, которая под предлогом подавления федералистических или централистических стремлений была, в сущности, борьбою своекорыстных вождей партий за обладание властью.
До 1839 г. республика Соединенных Штатов Средней Америки вела часто потрясавшееся бурями, но все-таки законное существование, но в упомянутом году союз государств распался и не возобновлялся долгое время. Пять мелких государств, однако, не раз приходили к убеждению, что энергическое содействие их внутренним интересам, часто совпадавшим между собою, делало настолько же желательным более тесную связь их между собою, насколько и сохранение их независимости против притязаний, предъявляемых им извне. Поэтому постоянно производились попытки, то путем дипломатических переговоров, то с помощью военной силы, вновь осуществить союз всех или, по крайне мере, некоторых из прежних государств Центральной Америки. Но так как при этих затруднениях республикам, которых они касались, наносился серьезный ущерб в ходе их непрерывного развития, то не достигались и выгоды, которые должно было принести с собою их соединение. Никак не удавалось выработать такую форму правления, которая предохраняла бы от подавления более слабых более сильными членами союза. По этой причине до сих пор за каждой попыткой слияния в скором времени следовала революция в целях децентрализации. И «República Mayor de Centro-America», созданная в 1896–97 г., хотя она и предоставляла полную внутреннюю самостоятельность отдельным государствам, в 1898 г. испытала ту же судьбу.
С. Бразилия
Когда рухнул трон Максимилиана, республиканская форма правления восторжествовала на всем американском материке, за исключением Бразилии. Португальская королевская фамилия в 1808 г., перед угрозою наступления французов под предводительством Жюно, перенесла резиденцию правительства в Рио де Жанейро, но это считалось лишь временной мерой, которая не могла внести никакой перемены в правовые отношения между метрополией и колонией. Однако, в силу обстоятельств это оказалось невозможным. Революционный дух, который после изгнания Наполеона прошел по пиренейским государствам, и борьба родственных государств за свободу и независимость должны были усиленно отразиться на делах Бразилии. Уже в 1815 г. Бразилия объявила себя королевством, что неизбежно должно было оказать значительное содействие стремлениям, направленным к отторжению ее от Португалии. Но решение и на этот раз зависело от условий, существовавших в самой Португалии, а не в Бразилии.
Восстание в пользу парламентского образа правления, которому в 1820 г. в Испании дал толчок Риего, сообщилось и португальскому королевству и оттуда проникло в Бразилию. Оно было совершенной неожиданностью для короля Иоанна VI; так как наследник престола Дон Педро стал во главе либералов, то эти последние легко достигли своей цели – обещания собственного парламентского правительства для Бразилии. Но когда здешние либералы почувствовали свою солидарность с португальскими, они вскоре должны были убедиться, что кортесы родной страны преследовали вовсе не те цели, какие были желательны: они требовали ни более, ни менее, как возвращения двора в Лиссабон и восстановления верховной власти Португалии над Бразилией.
Первая цель была достигнута: Иоанн VI вернулся в Лиссабон; Дон Педро, который отказался от престола в пользу младших членов своей семьи, сперва остался в Рио Жанейро в качества королевского наместника. Но чем очевиднее кортесы стремились к тому, чтобы Бразилию вновь принизить до положения простой провинции, тем слабее становилась связь, соединявшая колонию с родной страною. Наконец, самому Дон Педро не оставалось ничего иного, как порвать эту связь и, 7-го сентября 1822 г., объявить полную независимость Бразилии, которая через месяц после того получила наименование империи. До того времени Дон Педро, увлекаемый национальным движением, оставался в полном согласии с значительным большинством своего народа. Но в разногласиях, которые возникли в последующие годы по вопросам внешней и внутренней политики, это соглашение все более и более нарушалось. И когда, наконец, народ пытался запугать его беспорядками, как это удалось при его содействии по отношению к Иоанну VI, Дон Педро, в 1831 г., отказался от престола в пользу своего сына и вскоре окончил свои дни в Лиссабоне.
И Педро II не было предназначено умереть в своей империи. Уже во время его несовершеннолетия, в страстной борьбе партий, заметно выделились приверженцы федералистическо-республиканской государственной формы. Их влияние опять отступило на второй план, когда в 1842 г. преждевременно объявленный совершеннолетним Дон Педро II с большим тактом повел дело правления в весьма свободном духе. Но полное спокойствие и тогда не установилось прочно в стране: в особенности провинция Сано Пауло оказалась неугасимым очагом постоянно возобновляющихся республиканских волнений. Победоносный поход в Парагвай поднял, правда, внешний престиж страны, но он внес тяжелые финансовые затруднения, которые еще увеличились в 1871 г. от расходов по освобождению невольников. Переговоры о проведении этой меры долгие годы наполняли политическую жизнь Бразилии и оказали даже решающее действие на последнюю перемену правления этой страны. После того, как Дон Педро долгое время, с помощью консервативных министерств, пытался разрешить вопрос о невольничестве в таком смысле, который, по возможности, удовлетворял бы интересы всех, он увидел себя вынужденным обратиться в 1888 г. к либеральному министерству, и это последнее, тотчас же по своем вступлении в должность, высказалось за безусловное уничтожение рабства и против всякого вознаграждения рабовладельцев. Но это привлекло столь значительную часть населения на сторону противной партии, что эта партия 15-го ноября 1889 г. могла вызвать восстание, которому столица сдалась без сопротивления. Соединенные консерваторы и федералисты вынудили тогда Дон Педро к отречению и установили республику Соединенных штатов Бразилии, которая, впрочем, до сих пор не могла доставить стране ни мирных времен, ни лучших видов на будущее.
11. Северная Америка в XIX веке
Мы привыкли смотреть на новейшую историю Северо-Американских Соединенных Штатов исключительно с точки зрения борьбы из-за рабства. Но это справедливо далеко не в той мере, в какой оно может быть применено к трем последним десятилетиям истории Бразилии. Идеальный вопрос о допустимости или оправдании рабства, во всяком случае без существенных перерывов, поднимался и получал отрицательные ответы, как отдельных лиц, так и обществ, уже со времени прекращения английского колониального господства. Однако, правительство Соединенных Штатов само по себе еще долго в течение XIX века смотрело на рабство черных, как на состояние вполне законное: борьба партий между Севером и Югом никогда не вращалась около нравственного вопроса справедливости или несправедливости рабства. Это была скорее борьба за чисто экономические интересы, которые постепенно обострились в том направлении, что сохранение рабства было столько же безусловною потребностью Юга, сколько ослабление преобладания рабовладельческих южных штатов стало жизненным вопросом для должного развития интересов Севера. Для правительства, у которого на голосование относительно важнейших дел оказывало влияние число невольников, для правительства, которое неограниченно разрешало рабовладельцу преследовать своих рабов даже в таких штатах, в которых не существовало этого учреждения, для правительства, наконец, которое допускало рабство в единственном небольшом округе, в котором оно могло обыкновенно распоряжаться с непосредственным полномочием, не могло быть, конечно, серьезного сомнения в законности рабства.
В северных штатах, однако, по причинам климатическим и условиям хозяйственного развития, рабство было мало распространено: в Массачусетсе, при объявлении войны за независимость, уже не было рабов. Но в Нью-Йорке они были еще до 1840 г., так же, как и в других северных городах. Работорговля, которая гораздо свободнее осуждалась, чем рабство, велась не только в течение двадцатилетнего срока, установленного правительством после провозглашения независимости, но и далее этого времени, даже крупными торговцами северных штатов, в остальном уже вполне сознававшими экономическую противоположность между интересами Севера и Юга.
Пока это противоречие не поддавалось решению, для обеих партий являлась серьезная опасность в постановлениях правительства, согласно которым мероприятие получало законную силу при большинстве народных представителей, избранных на основании численности населения (ср. выше, стр. 477) в палате депутатов, а в сенате – голосованием большинства штатов. Сначала северные штаты обладали в палате депутатов некоторым большинством вследствие своего более плотного населения. Этому не могло противодействовать предложение обитателей южных штатов считать пять невольников за три голоса, которое противозаконно было принято. Это большинство росло, однако, из года в год, так как южные штаты, несмотря на ввоз и размножение невольников, не могли сравняться с увеличением населения северных штатов. Поэтому единственная опора Юга заключалась в сенате, где голосование происходило не по населенности, а по штатам. Если Юг не хотел быть предоставлен в экономическом отношении власти Севера, он должен был стремиться к поддержанию равновесия в сенате. На самом деле, не было никакого сомнения в том, что Север своим преобладанием в обеих палатах воспользовался бы с величайшей беспощадностью в своих собственных интересах. Штаты Новой Англии, уже в начале революционного движения, резко выказали полнейшее своекорыстие. Они держались его с такой же беспощадностью и во время войны, а, по заключении мира, их эгоистическая политика во многом вынудила создание конституции. Затем, в течение нескольких лет, федерализм бессознательно заботился о своих интересах. Но образ действий после Гартфордской конвенции сознательно составленной северной группы не оставлял никакого сомнения в том, что предстояло Югу, если бы он не в силах был противостоять себялюбивой деловой политике северных штатов.
Вследствие того, плантаторские штаты должны были поддерживать против купеческих штатов свои общие, жизненные интересы. Эти последние не заключались исключительно в поддержании рабства, которое, впрочем, имея весьма существенное значение для их хозяйственного развития, придавало им внешний, легко заметный признак; он был тем более существенным знаком партии, чем более Север, в своем фарисейском самодовольстве, учреждение, на деле вовсе не презираемое им, выставлял как предлог своих нападок на Юг, совершавшихся в интересах первого.
В то время, когда тринадцать северо-американских провинций вступали в государственный союз между собою, экономическая противоположность плантаторских штатов по отношению к торговым и мануфактурным штатам не была еще выражена настолько резко, чтобы можно было говорить о большинстве той или другой группы. Однако, с течением времени, это разделение принимало из года в год все более определенный характер. Как бы то ни было, являлось не простой случайностью, что, подобно тринадцати первоначальным штатам, и в девяти областях, принятых до 1818 г. в Союз в виде новых штатов, со свободным промышленным и земледельческим населением, и с преобладанием плантационно-невольничьего хозяйства, поддерживалось известное равновесие. Этому равновесию, повидимому, впервые был нанесен удар, когда Миссури хлопотал о принятии его в Союз, и комиссия, на которую было возложено расследование по этому вопросу, поставила запрещение рабства предварительным условием соглашения. Вопрос оставался настолько открытым, насколько прежнее установление определяло, что в областях к северу от Огайо рабство не должно существовать, а по ту сторону Миссиссипи (см. «Карту к истории Америки») в этом отношении еще не было установлено определенной границы. Так как, сообразно своим естественным условиям и характеру своего населения, Миссури предназначено было сделаться плантаторским штатом, то в обеих палатах представители последних с большой энергией восстали против отчета комиссии. Они потребовали, согласно учению о главенстве, всегда усиленно поддерживавшемуся Югом, чтобы новому штату самому предоставлено было решить вопрос о невольничестве, чтобы за Союзом ни в каком случае не оставалось право ставить в зависимость принятие нового штата от предварительного решения этого вопроса. Между тем, для Севера дело заключалось не в том – будут ли рабы в Миссури или нет, так как к этому вопросу крупные коммерсанты относились вполне равнодушно, а в том, что причисление этой территории к южной группе дало бы последней в союзном сенате решительный перевес, пользование которым в духе, враждебном Северу, могло бы причинить ему серьезный ущерб. Сопротивление Севера было поэтому стойким и энергичным, пока угрожала опасность невыгодного для него большинства; но оно тотчас же исчезло, когда территория Мэна стала, в свою очередь, ходатайствовать о принятии его в союз в виде штата, и этим образовалось равновесие севера против усиления юга принятием Миссури. Таким образом, в 1820 г. состоялся так наз. Компромисс Миссури, который, с одной стороны, допускал безусловное принятие обеих областей в Союз, а, с другой, устанавливал, что граница между территориями с рабством и без рабства должна проходить к западу от Миссиссипи по 36⁰ 30’ с. ш.
Существенная причина резкости, с какою велся с обеих сторон спор о Миссури, заключалась в том обстоятельстве, что одновременно с тем происходила другая борьба интересов между Севером и Югом. Мы упоминали уже выше (стр. 474), что Нью-Йорк, еще до принятия союзной конституции оградил себя системой покровительственных пошлин, ради поддержания своей молодой промышленности. Чем более эта последняя развивалась во всех северо-восточных штатах, тем распространеннее было желание покровительства с помощью союзных законов. К этому стремлению присоединились северо-западные штаты, в которых фермеры, по преимуществу, посвящали себя возделыванию хлебных растений. Напротив, безусловный интерес Юга заключался в свободной торговле. Он производил лишь немногие товары, которые в виде сырых продуктов вывозились массами из области южных штатов; вместе с тем, всю свою потребность в мануфактурных товарах он покрывал извне и не мог видеть равнодушно, что таможенное покровительство затрудняло иностранную конкуренцию на его рынках и удорожало необходимые ему предметы. При этом ему вдвойне было неприятно не только усиливать покровительственным тарифом промышленность северян, служившую главным фактором быстрого возрастания их численности, но и вытеснением иноземной конкуренции становиться в прямую зависимость от северных штатов, в отношении произведений их промышленности. Тем не менее, в 1824 г. в обеих палатах конгресса большинством немногих голосов прошел законопроект, которым умеренные покровительственные пошлины превращались в союзный закон. Борьба между сторонниками свободной торговли и сторонниками покровительственных пошлин, вследствие того, конечно, не утихла и тем менее могла вовсе прекратиться: с такой же энергией, с какой северяне боролись за дальнейшее повышение пошлин, южане стояли за их уничтожение.
Когда Монроэ (ср. выше, стр. 485), в 1824 г., после второго периода своего президентства (1821–1825), вернулся к частной жизни, он мог с полным удовлетворением оглянуться на результаты своих трудов. Престиж правительства был усилен внутри и извне, экономическое развитие направлено на многообещавшие пути, и финансовое положение достаточно установлено. И при его преемнике, Джоне Кинси Адамсе (1825–29), сыне второго президента, Джоне Адамсе, обстоятельства, в сущности, оставались теми же самыми, и не только по отношению к благоприятному внешнему развитию, но и к неблагоприятному продолжению внутреннего раздора.
Джон Кинси Адамс был в 1825 г. возведен на место президента в качестве кандидата северян, но он далек был от того, чтобы исправлять свою должность в партийном духе. С трибуны конгресса величайшие ораторы, какими обладала Америка, направляли политическую жизнь партий – Калгун (ср. выше, стр. 483), как вождь Юга, и Уэбстер, как предводитель Севера. Диалектика их, правда, не свободна от остроумных софизмов, но эти люди все-таки были представителями политических убеждений, а не одних материальных интересов. Содержание их могучего словесного турнира заключалось, главным образом, в тарифной реформе. Сторонники покровительственных пошлин в каждом новом конгрессе выступали в увеличенном числе, и мировое положение, повидимому, тогда решительно оправдывало их стремления. Англия, с ежегодным ввозом на сумму 25 миллионов долларов, все еще была главным поставщиком Соединенных Штатов. Однако, вместо благоприятного отношения к торговле такого значительного потребителя, Англия еще раз вернулась к строгому применению навигационных актов, отказалась от заключения торгового договора и добивалась полного вытеснения американцев из их Вест-Индских владений. Поэтому покровительственная пошлина против английских мануфактурных изделий была столько же политической, сколько и экономической мерой; сознание этого доставило ей большинство в обех палатах конгресса. Тем не менее, в оппозиции южного меньшинства все более и более проявлялись черты возмущения; однажды, еще при Адамсе, она прямо поставила вопрос об авторитете власти Союза. Георгия, желая освободиться от неудобного остатка своего индийского населения, заключила с несколькими начальниками криков договор, который оказался несомненным нарушением закона, так как договаривающиеся действовали без согласия всего племени и притом, очевидно, были подкуплены. И все-таки, губернатор и законодательный корпус штата не только отстаивали договор против отмены его президентом, но и против решения союзного суда, и прибегали по отношению к союзным властям к такой вызывающей форме, что для правительства было почти позором, когда представители Георгии, в конце концов, добились не только изгнания индейцев, но, при преемнике Адамса, и утверждения незаконного договора.
Учение о верховной власти отдельных штатов и в этом случае часто привлекалось к делу; оно было непосредственно применено в еще более резкой форме другим из южных штатов. Южная Каролина, уже при Джоне Кинси Адамсе, заявила, что она не согласна подчиняться политике повышенных покровительственных пошлин, но в ту минуту удовольствовалась одним протестом, так как приближался выбор президента и ожидалось возведение на этот пост человека, который давал надежду на устранение покровительственных пошлин. Эндрью Джэксон, герой семинольской войны, победитель Нового Орлеана (ср. выше, стр. 484), уже в предыдущей избирательной борьбе собрал относительное большинство голосов и утверждал, что пальма первенства была вырвана у него из рук только недостойной сделкой между Адамсом и президентом сената, созванного для решения спора. Не подлежало никакому сомнению, что он окажется излюбленным кандидатом в новой избирательной борьбе, так как доктринерское беспристрастие Адамса отвратило от него даже его друзей. Так как Джексон представлял собою характерное выражение Юга, то этот последний ожидал от избрания генерала, пользовавшегося расположением народа, не только устранения таможенных стеснений, но и вообще решительной политики в интересах Юга. Избрание Джэксона в 1828 г. подавляющим большинством, во всяком случае, создало резкий переворот в истории Соединенных штатов; тем не менее, вожаки южных штатов считали свои надежды неудовлетворенными.
Джэксон обладал чрезвычайно достойным и доброжелательным характером; благо государства, во всей его совокупности, как, к своему вреду, мог заметить Юг, стояло для него выше, чем этого можно было ожидать, судя по многим неправильностям его прежней жизненной карьеры. Впрочем, умственное образование его не вполне соответствовало крупной задаче, какую возлагало на него управление Союзом. Даже то обстоятельство, что он вступил в Белый Дом, как избранник масс в широком смысле слова, было для него невыгодно, так как он не умел смелых требований, предъявлявшихся ему вождями демагогов, различать по их настоящим стимулам, или достойным образом держаться вдалеке от них. Оказавшись слишком доступным различным внушениям с заднего крыльца, он явился виновником гибельной системы, получившей с его президентством право гражданства, системы, в силу которой обязанностью вновь избранного президента считается награждать своих приверженцев назначением их на выгодные государственные должности, что̀ естественно может происходить лишь путем удаления прежних заместителей их. Но вообще Джэксон в своей правительственной политике руководился здравым смыслом, свойственным ему в выдающейся степени. Ненависть, с какой он преследовал Банк Соединенных Штатов и, наконец, довольно самовластно, закрыл его своим распоряжением, с национально-экономической точки зрения, была близорукой и привела к финансовому кризису, который причинил тяжелые потери Союзу. Но идея, какою он руководился, была несомненно справедливою; с своей тогдашней организациею, Банк фактически был не что иное, как точка опоры для крайне своекорыстных и отчасти недобросовестных предприятий быстро усиливавшихся дельцов янки.
Относительно тарифного вопроса Джэксон осторожно воздерживался от решительного вмешательства. Конгресс, в сущности, держался и в 1832 г. системы покровительственных пошлин, и несколько понизил лишь отдельные, особенно непопулярные пошлины, чтобы отнять оружие у оппозиции. Большинство южных штатов спокойно принимало эти факты, хотя без исключения стояло на стороне оппозиции, и довольствовалось простыми протестами. Наоборот, в Южной Каролине движение против покровительственных пошлин все более и более приобретало революционный характер. Законодательное собрание этого штата прямо объявило тарифные постановления 1828 и 1832 гг. необязательными для их области и назначило 1-е февраля 1833 г. сроком, после которого покровительственные пошлины теряют свою силу, если до тех пор конгресс сам не отменит их. Джэксон в начале своего жизненного поприща не отнесся бы слишком щепетильно к повиновению, требуемому центральной властью; но с тех пор, как он сам стоял во главе государства, для него не могло быть никакого сомнения в том, что всякое сопротивление союзным законам является преступлением, за которое он, в качестве быстрой и сильной исполнительной власти, всего легче может отомстить вооруженной силой. Его образ действий против Южной Каролины, несмотря на эти колебания, оставался в пределах строгой законности. Когда штат воспротивился его указаниям и остался при своем противозаконном решении, он представил конгрессу билль, по которому союзное правительство приобретало право при известных обстоятельствах следить за исполнением союзных законов с оружием в руках.
Для дальнейшего развития Соединенных Штатов было бы несомненным благодеянием, если бы этот конфликт разрешился тогда вооруженной силою. Несмотря на тайные симпатии в известных кружках южан, Южная Каролина стояла в то время одиноко, и дело ее было несомненно в дурном положении. Никогда не бывало более подходящей личности для насильственного проведения идей Союза, как Джэксон, который сам безусловно принадлежал к партии южан и пользовался необычайной популярностью. Если бы тогда Южная Каролина вынуждена была к повиновению, то спор о главенстве Союза или Штатов закончился бы уже в 1833 г., и война между Севером и Югом стала бы невозможною. Однако, централистическая партия и северяне не имели мужества поднять перчатку, брошенную им Южной Каролиной. Распря разрешилась компромиссом, который настоящий спорный пункт оставил открытым и, вследствие того, несмотря на непосредственную победу, означал собою поражение союзной власти. Основа, на которой состоялось соглашение, представлял закон о постепенном понижении покровительственных пошлин в умеренном размере; он был прежде всего постановлен конгрессом, так что Южная Каролина могла взять назад свое отрицательное решение, и билль о вооруженной силе, который, тем не менее, был принят, оказался недействительным еще до вступления своего в законную силу.
Джэксон, как и большинство его предшественников, в течение двух периодов своей власти (1829–37) стоял во главе всех государственных дел, но уже после него в течение долгого времени это не удавалось ни одному президенту. Для государства правильно повторявшаяся смена главы не могла быть благодетельной в особенности потому, что почти все президенты подражали системе Джексона – увольнению служащих с целью доставления мест, в виде награды, своим приверженцам. Это должно было производить самое вредное влияние на преданность долгу и добросовестность чиновников, так как способность к исполнению должности определялась не личною опытностью и усердием, но зависела от услуг, оказанных известным лицом партии или самому президенту. Поэтому из кругов, служащих государству, исчез консервативный, устойчивый элемент. Необычайно развитой, уже с самого начала американской общины, деловой дух проник и в правительственные учреждения, и весь народ, начиная с его главы, привык считать определяющими образ его действий такие основные положения, согласно которым цель оправдывает средства, и успех является единственным мерилом всех вещей.
В глазах понимающих дело политиков, эти невыгодные стороны вполне вознаграждались выгодами, какие организация партии извлекала из этой меры. В Нью-Йорке, где к государственным выборам впервые была применена эта система в большом масштабе, под влиянием ее не только произошло ясное и определенное разделение партий: в виду выгод, непосредственно доставляемых победой, выработалась такая строгая партийная дисциплина, что каждое личное уклонение от известных воззрений у отдельных сочленов групп внутри партии безусловно отступало на второй план перед платформой, выставлявшейся в каждом отдельном случае от имени всей партии. Именно эти процессы повторились в гораздо большем масштабе, когда в управление Союза проникла система наживы и повела к резко выраженной системе партий, которою население Соединенных Штатов отличается и теперь еще от всех других наций.
Значительной, получившей историческое значение партией этой страны была партия демократов. Она вполне воплощала в себе воззрения основателей северо-американской независимости. И эти последние конституцией 1787 г., в действительности, создали лишь предохранительную меру от угроз прибывавшей волны слишком далеко заходящей децентрализации и связанных с нею бедствий; в ней пытались разрешить трудную задачу соединения деятельной центральной власти с возможно неограниченной свободой всех отдельных членов. Партия федералистов возникла и приобрела временное значение лишь во время переговоров о конституции. Но так как она не обладала твердой опорой в обширных народных массах и не могла создать ее даже и в последующее время, – она вскоре рушилась и потеряла всякое значение. Напротив, возникшая из партии анти-федералистов демократическая партия развивалась непрерывно, выставляя своим главным требованием неограниченное главенство и право на самостоятельность отдельных штатов, как первое и высшее начало. Демократическая партия вовсе не была сперва представительницей интересов южных штатов, хотя на первых порах в ней несомненно играли руководящую роль представители южных и средних штатов. Но и эта роль имеет историческое значение; уже в войне за независимость представители названных штатов поддерживали дальновидную национальную политику, между тем как самые значительные представители северо-востока оставались более или менее в узком кругу местных интересов. Перевес этих влияний в политике федералистов ослабил силу их партии после первых успехов, тогда как демократы, в качестве носителей последовательной, национальной и консервативной политики, все более и более усиливались. Тем не менее, их партия, по крайней мере, после неповиновения Южной Каролины (ср. выше, стр. 526), раздробилась на два отдела, мнения которых значительно различались между собою. Впрочем, радикально-демократическая фракция, которая в упомянутой борьбе показала первое проявление своей силы, сперва была меньшинством, имевшим небольшое значение. Ее притязания не одобрялись значительно превышавшим большинством политиков южных штатов не только из тактических причин, из желания отвратить опасность, чтобы северные приверженцы партии могли пострадать от этого: оно в них, как и в северных единомышленниках, видело уклонение от традиционного догмата партии.
В качестве поборников интересов отдельных штатов, демократы были противниками высоких покровительственных пошлин, которые ради выгод торгового и промышленного севера обременяли весь Союз. Но политика их сочленов, избиравшихся в президенты, показывала, что они вовсе не безусловные фритредеры, хотя интересы южных штатов настолько же требовали свободной торговли, насколько интересы севера – покровительственных пошлин. Они стремились только к тому, чтобы таможенная система оставалась в правильном отношении к потребностям союзного правительства. Как только избытки таможенных доходов начинали накопляться (а это случалось много раз в первой половине прошлого столетия), они требовали, чтобы пошлины, которые сами по себе были премией, уплачиваемой югом в пользу севера, были понижены до таких ставок, которые соответствовали бы истинной потребности государственной казны. Вражда демократов с государственным банком возникла из того же источника. Банк в руках их политических противников сделался опасной деморализируюшей силой, работающей лишь в интересах северных спекулянтов. Фактически банку было суждено лишь непродолжительное существование. При управлении преемника Джэксона место государственного банка заняло независимое казначейство, после того, как растрата государственных денег временно вызвала болезненную спекулятивную лихорадку в целом ряде денежных учреждений, что по необходимости повело к краху обширных размеров. Эта мера, имевшая большое значение, сделала излишней в программе партии определенное отношение к банковому вопросу.
Противники демократов сперва были лишены всякой организации. После крушения федералистической партии (ср. выше, стр. 481) они долгое время не могли выставить никакой программы, которая давала бы возможность собрать воедино разрозненные элементы. Стремление к сильной правительственной власти, в качестве программы партии, не имело силы даже на севере и ослаблялось тем, что политики, выступавшие вновь под именем вигов, хотели навязать ведение обще-полезных работъ (каналов, а вскоре затем и железных дорог) союзному правительству, а не отдельным штатам. Рядом с этим, покровительственные пошлины и от времени до времени финансовые вопросы служили поводом к тому, чтобы партия занимала определенное положение. Но свою главную задачу она видела в безусловной оппозиции преобладанию демократов. Отсюда развилась оскорбительная грубость избирательной борьбы, которая гораздо более заключалась в вытеснении кандидатов противной партии, чем в разъяснении и обосновании принципов.
Джэксон, даже в конце второго периода своей должностной деятельности, настолько был любим народом, что наименование им преемника почти равносильно было его наречению. Подавляющим большинством был избран в президенты (1837–41) Мартин фан Бурен, северный демократ из Нью-Йорка, где организация партии и проведение политики наживы в обширных размерах считались его делом. Обещание продолжать во всех отношениях политику своего предшественника он сдержал вполне: все его правление было продолжением системы Джэксона.
Наследство, принятое Буреном, не было, впрочем, приятным во всех направлениях. Финансовая политика Джэксона разнуздала спекуляцию, которая своим предметом избрала прежде всего еще нетронутые сокровища дальнего запада. В течение нескольких лет много миллионов были употреблены для покупок земли в западных территориях, и ценность земли в этих неисследованных территориях в короткое время удесятерилась. При этом естественно множество ловких спекулянтов разом сделались богатыми людьми. Однако, прежде, чем эти воображаемые ценности могли реализоваться путем действительного развития, должны были, несмотря на баснословно быстрое расширение путей сообщения и заселения (см. таблицу «Три ступени роста Сан-Франциско»), пройти еще годы, что́ не было принято во внимание теми, в чьих руках оказались в конце концов земельные облигации. Когда безденежье Европы коснулось и Соединенных Штатов, фиктивные ценности стали падать; невозможность продажи их повела непосредственно к такому падению, которое увлекло за собой все другие действительные и дутые предприятия.
Если даже на правительстве не было почти никакой, а на Бурене уже совершенно никакой вины во всем происходившем, он все же не мог воспрепятствовать тому, чтобы его популярность и значение его партии не были этим существенно подорваны. Уже в 1837 г. можно было предвидеть, что фан Бурен имеет мало шансов на то, чтобы занять во второй раз президентское кресло. Это, действительно, и не удалось ему, несмотря на все махинации соединенной правительственной машины и партийной организации, которыми он умел пользоваться в своих интересах лучше всякого другого. Но он потерпел поражение не потому, что программа демократов была отклонена или потому, что противная партия могла выставить более жизнеспособную программу. Напротив, в это время опять можно было заметить, насколько основные принципы демократической партии совпадали с воззрениями почти всего населения. Еще при Джэксоне небольшая, но деятельная кучка идеалистов вызвала движение, конечной целью которого было уничтожение рабства. Первые шаги ее на этом пути вовсе не были разрушительными. Но уже выступление партии, которая стремилась, хотя бы только в принципе, признать негров-невольников равноправными людьми и гражданами, вызвало общую бурю негодования, и даже не столько на юге, где просто смеялись над подобными мечтаниями, сколько на севере.
Аристократическое сознание превосходства белой кожи, которое в невольнических штатах даже самого жалкого нищего и бродягу заставляло смотреть с презрением на черных, почти без изъятия разделялось всеми и на севере. У богатых торговцев и судостроителей это происходило от личных и деловых отношений к крупным землевладельцам юга, так как на экономической зависимости от них основывались в значительной степени выгоды севера. Средние штаты были
менее связаны подобными соображениями. Правда, и там рабство поддерживалось государственными законами, но естественные условия были не совсем благоприятны невольническому хозяйству. Значительная часть тамошнего населения состояла из свободных, мелких земельных собственников, и соседство свободных штатов способствовало тому, что этот элемент усиливался из года в год и оказывал все большее и большее влияние на законодательство. Но там, где невольничье хозяйство было вынуждено вступать в непосредственную конкуренцию с свободным трудом, видно было с первого взгляда, что долго оно держаться не могло. Вследствие того, лишь небольшая часть населения этих штатов вела рабовладельческое хозяйство в настоящем смысле. Плантаторы занимались преимущественно воспитанием негров-невольников. Тяжелая работа и жестокое обращение вели к тому, что настоящее рабочее население негров-невольников выказывало лишь незначительное естественное размножение. Общий ход экономического развития двигался, однако, в таком направлении, что невольническое хозяйство становилось относительно все менее и менее выгодным, и рабовладельцы могли поддерживать свои богатство и положение только тем, что постоянно увеличивали размеры своего предприятия. Но для этой цели им постоянно были нужны новые рабы. Так как покупка их в Африке была почти прекращена с помощью строгих мер, то сама собой напрашивалась мысль о размножении в самой стране этого рабочего материала, на который был постоянно сильный спрос. Это происходило естественно через посредство средних штатов, в которых невольничий труд не вознаграждался достаточно, но соседство делового севера служило толчком к занятию этим выгодным делом. Движение, ставившее себе целью устранение рабства (движение аболиционистов), приводило только к перемене предмета деловой деятельности, но не уничтожало самого дела. Так как за этим движением зорко следили, то оно не внушало серьезного страха.
Даже и на севере, среди почти исключительно свободного населения, это движение находило только ожесточенных врагов. Здесь выгодные и убыточные стороны невольнического хозяйства знали только по имени, но все негодование настоящей американской крови поднималось против каждого, кто намеревался сделать презираемого, почти не признававшегося человеком негра жизненным членом государства, строй которого неустанно прославлялся со всех сторон, как неприкосновенная святыня. С аболиционистами, насколько они позволяли себе выступать среди народа, легко раздражавшаяся масса справлялась без труда: неоднократно в отдельных местах происходили вспышки, угрожавшие жизни и собственности противников рабства, но в народе это движение рассеивалось без следа.
Иным было положение вещей в парламенте. И здесь существовало преобладающее большинство, которое ничего не хотело знать о движении. Это большинство вовсе не состояло из непосредственно заинтересованных лиц, хотя радикальное крыло его, быть может, находилось в самом резком противоречии с аболиционистами. Большинство было весьма значительно и оставалось еще долгое время сплоченной массой потому, что аболиционистское движение бесспорно стояло в противоречии с конституцией. Конституция избегала даже прямо произносить слово «невольник», но она в совершенно ясных обходных выражениях обещала всем гражданам Союза защиту их общей собственности, и не только в тех штатах, в которых с разрешения правительства поселены были негры, но и безусловно во всех штатах Союза. Каждый закон, который дозволял рабовладельцу переселяться с своими рабами из одного штата в другой, строго говоря, был нарушением конституции. Эта точка зрения находила себе выражение в неоднократно издававшихся союзным правительством и подтверждавшихся во всех штатах законах о выдаче беглых невольников, законах, непосредственно примыкавших к известным конституционным законам. Таким образом, аболиционистское движение, сколько бы оно ни оправдывалось с нравственной точки зрения, по букве закона было противно конституции.
На сколько можно говорить, что в конгрессе существовала партия в пользу аболиционизма, это можно сказать, главным образом, о Джоне Кинсее Адамсе, который неутомимо представлял конгрессу новые петиции, обращенные против рабства. За эту деятельность он заслужил много похвал. С другой стороны, законы, которыми конгресс старался остановить этот искусственно поддерживавшийся поток петиций, заклеймили названием: «ценных законов», и их виновников осыпали тяжкими нравственными оскорблениями. Оба суждения несправедливы. Дело, за которое, повидимому, боролся Адамс, было еще далеко от своего решения, и конгресс, оставаясь на почве конституции, не мог взяться за него иначе, как прибавлением нового закона к основным законам страны. Положение, принятое Адамсом, было в значительной степени парламентской партийной тактикой, так как сам он был далек от того, чтобы желать серьезного и правильного решения вопроса. В избранной им форме борьба могла лишь обострять несомненно существовавшие крайности, вместо того, чтобы примирять их, и отнимать от конгресса дорогое время, которое было нужно ему для более настоятельных дел. Во всяком случае, депутаты северных штатов не заслуживают основательного упрека за то, что они противились его предложениям.
Все развитие Союза еще в первой половине прошлого века не могло оставлять никакого сомнения, что и в Соединенных Штатах дни рабства сочтены. Без всякого запрещения со стороны правительства оно угасало само собой в значительной части штатов Союза, а в другой части, несмотря на законодательное покровительство, хотя медленно, но постоянно сокращалось. Даже и в тех штатах, экономическая жизнь которых основывалась на нем, оно все более и более вызывало вопросов и споров, заставлявших испытывать самых ревностных защитников его все недостатки этого учреждения на самих себе; поэтому, в конце концов, оно должно было постепенно пережить себя и исчезнуть. Естественный процесс умирания его был, впрочем, столь медленным, что Америка долго еще стонала от тяжелых сторон рабства после того, как весь остальный мир сбросил с себя оковы его. Тем не менее, движение, которое в недавно минувшем столетии вообще устранило рабство на большей части земной поверхности, не могло не отразиться, в виде сознания собственной пользы, и на Соединенных Штатах, если бы они даже и не нашли нравственного мужества приступить к решительному шагу. Но в том виде, в каком велась борьба против рабства, она вовсе не была величественным зрелищем победы возвышенной идеи, а скорее доказательством того, что эта идея, вследствие слияния с вопросами политического и материального интереса, почти совершенно утратила свое высшее оправдание.
Южные штаты в течение всей борьбы за рабство вели оборонительную войну. Они находились в положении осажденной крепости, которая как ни хорошо была снабжена в данную минуту всем потребным для войны, почти с математической точностью могла предвидеть время, когда она вынуждена будет сдаться. Расчет побуждал и к нападениям и вылазкам, которые должны были доставлять ей средства сопротивления на более продолжительный срок. Но победа над противником была вне пределов возможного. Северные штаты могли вести борьбу в том убеждении, что уже само время, в конце концов, вручить им венок победителя. Тем временем они не только внутренно продолжали постоянно крепнуть, но и извне к ним присоединялись новые союзники в виде территорий, примыкавших к Штатам. Ни для кого не было тайной, что и в штатах и территориях, в которых рабство было неограниченным, для этого последнего свободный труд представлял опасную конкуренцию. Жизнь скваттеров давала слишком много случаев для развития личности, чтобы рабство могло торжествовать полную победу в молодых государственных образованиях. Даже тогда, когда направляли переселенцев из настоящих невольнических штатов в западные территории, часть их, благодаря местным условиям, переходила к свободному труду; с другой стороны, никакое законодательство и никакие запрещения не могли не допустить туда свободных поселенцев. И это получило тем большее значение, что вообще существовало стремление противопоставить преобладанию Севера в палате депутатов известное равновесие географических отделов страны в сенате, для чего допущение одного штата какого-либо отдела зависело всегда от одновременного образования штата другого отдела.
Эта борьба получила особенную окраску вследствие того, что она почти в течение всего времени велась под руководством людей, принадлежавших к партии меньшинства, которое находилось в состоянии обороны. Демократическая партия не всегда посылала в Вашингтон президентов из южных штатов. Однако, северные демократы тогда только могли надеяться занять высшее место в государстве, когда они умели провести свое демократическое учение так, что с ними не могла столкнуться крепче и плотнее организованная партия Юга. Прежде всего это не удалось фан Бурену. Так как в конце периода его президентства оказалось многое, лежавшее на ответственности правительства, то демократическая партия не имела никакой надежды провести ему в преемники кого-либо из своих. Однако, виги были еще далеки от того, чтобы иметь возможность послать в Вашингтон человека, которого они по праву могли причислить к своей партии. Они выставили в качестве президента старого, почти неизвестного в политическом отношении, генерала Уильяма Генри Гаррисона, а в качестве вице-президента Джона Тэйлера, личность, хотя уже и не принадлежавшую в ту минуту к демократической партии, но имевшую среди нее более друзей и приверженцев, чем среди вигов; только благодаря тому, удалось выбрать своих кандидатов значительно преобладающим большинством. Но этот видимый успех вскоре обнаружил свои настоящие размеры. Гаррисон вступил в Белый дом лишь для того, чтобы умереть там (в апреле 1841 года). Тэйлер, сделавшись президентом, опять примкнул к демократической партии, общение с которой он не прерывал.
Под давлением экономических отношений, в июле 1841 года удалось еще раз, как в сенате, так и в палате депутатов, собрать большинство в пользу восстановления Банка Соединенных Штатов, который все еще составлял важный пункт в программе партии вигов. Однако, Джон Тэйлер, как президент этого периода (1841–45), не только наложил свое veto на это решение, но и на повторившееся решение конгресса в этом направлении. Такой образ действий был признан за открытый разрыв с партией, которая возвела его на президентское место. В общем президентство Тэйлера прошло без выдающихся событий; дипломатические затруднения съ Англией, финансовые вопросы по устранению вредных последствий краха и постепенное преобразование личного состава правительства в духе демократической партии, с помощью которой Тэйлер надеялся сохранить за собой президентство и на следующий срок, наполняли все время, между тем, как события большой важности подготовлялись в тишине, пока еще не требуя деятельного вмешательства.
Когда президент Монроэ издал знаменитую декларацию, которая еще недавно считалась руководящим началом внешней политики Соединенных Штатов, хотя в позднейшее время из нее выработалось нечто совершенно иное, тогда выдающиеся государственные люди держались воззрения, что область Соединенных Штатов достигла уже крайнего предела своего объема, какой только можно было соединить с республиканской государственной формой, предусматривавшейся союзной конституцией. Но это воззрение уже через два десятилетия оказалось устаревшим. Оно могло казаться основательным, пока большой бассейн Миссиссипи вмещал лишь скудное население, и пути и средства сообщения находились в начале своего развития. Но быстрое и подвинувшееся особенно после изобретения парохода пользование удобными водными путями, которыми северо-американская озерная область соединена с Гудзоном, с одной стороны, и с Огайо и Миссури, с другой, а затем в середине прошлого столетия железные дороги, за проведение которых Америка взялась раньше и энергичнее Старого Света, вскоре послужили к устранению затруднений, вытекавших из далеких расстояний. Уже в средине тридцатых годов обладание береговой полосой на Тихом океане казалось столь же необходимым предварительным условием свободного развития Союза, как некогда обладание устьем Миссиссипи. Необузданная спекуляция государственными землями запада, навлекшая такую финансовую опасность на дела союза, была не только менее гибельна для запада, но, в особенности в то время, когда приобретение малоценных земельных владений представляло известную выгодную сторону, действовала возбуждающим образом на тамошнюю колонизацию. Отдаленные земельные участки оправились всего быстрее от последствий краха, и их действительно существовавшие естественные богатства все более и более привлекали к границам цивилизации новых переселенцев.
Эти события естественно отражались в старых штатах в таком направлении, что дальнейшее перемещение западной границы Союза признавалось желательным, а пространственное распространение равнозначущим с национальным обогащением. Западная граница союза никогда не была установлена с точностью. Во Флоридском договоре (см. выше, стр. 485) Испания отказалась от своих прав на все протяжение от океана до океана; однако, это было чисто бумажное право, так как Флорида никогда не простиралась до Тихого океана. Северо-западная граница с Англией также была спорною; в то время, когда дальнему западу не придавалось еще никакого серьезного значения, Соединенные Штаты, в силу договора, согласились на общее управление Орегона английскими и союзными чиновниками. Права владения Соединенных Штатов на выход в Тихий океан, вследствие того, до недавнего времени оставались сомнительными. Но уже давно не было сомнения в том, каким образом они могли быть исправлены.
Отторжение Техасской республики от Мексики (см. выше, стр. 518) было в значительной степени делом обитателей дальних лесов Северной Америки и с самого начала преследовало, как конечную цель, присоединение этих областей к Союзу. Северо-восточным штатам не представлялось нужным вмешиваться в это дело, так как они не могли расчитывать извлечь какие-либо деловые выгоды из этой страны; для Юга имело первостепенное значение приобретение этих областей для будущих невольнических штатов. Однако, настоящую двигательную силу представило население молодых штатов Запада. Здесь на почве, которая была приобретена уже после образования Союза, но в короткое время представила собою необычайное развитие, образовалась партия с девизом: «великая Америка», ближайшей целью которой являлся только Техас, затем вся страна до Тихого океана, а, в конце концов, поглощение всей разлагавшейся Мексиканской республики до Тегуантепека. Из их рядов постоянно набирались бойцы, которые защищали от натисков мексиканцев техасское правительство, обессиленное постоянным безденежьем: требования их об удовлетворении неоднократных ходатайств Техаса о принятии в союз, хотя бы под угрозою войны с Мексикой, становились тем настоятельнее, чем более тяжелые обстоятельства этого мнимого государства угрожали вмешательством других держав.
Техас был недостаточно богат, чтобы, в том состоянии одичания, в каком он находился, доставлять средства, потребные для правительства. В начале злоупотребляли кредитом молодого государства и легкомысленно делали долги в надежде покрыть их вступлением в Союз. Однако, это вступление замедлялось, так как Мексика не хотела признать независимость Техаса и не хотела продать эту область. Но техасцам надоело выпрашивать помощи только у Соединенных Штатов; они обратились также к Франции и, как говорят, по крайней мере, к Англии. Тогда на политическом небе союза появился грозный призрак чужой державы, утвердившейся на юго-западе и, быть может, преграждающей доступ к океану. Уже Тэйлер старался отклонить эту опасность возобновлением переговоров с Мексикой; последние велись, однако, в таком вызывающем тоне, что со дня на день можно было ожидать взрыва настоящей вражды. Но Тэйлер не мог решиться на объявление войны.
В избирательной борьбе 1844 года Техасский вопрос имел решающее значение. Ему обязан был, сам по себе не имевший большого значения, демократ Джемс Нокс Польк (11-й президент 1845–1849) тем, что он одержал победу над кандидатами вигов, Генри Клеем и президентом Тэйлером. Клей высказался сперва против присоединения Техаса, но, под конец, вооружил против себя и анти-аннексионистов, перейдя на сторону присоединения, в видах избирательной тактики. Тэйлер своей нерешительной политикой в Техасском вопросе совершенно утратил уже сами по себе незначительные шансы на вторичное избрание. Тем не менее, ему пришлось, уже в последние дни исполнения своей обязанности, совершить присоединение соседней республики. Хотя относящийся к тому билль был не за долго перед тем отвергнут сенатом, он вновь внес его в конгресс на том основании, что результат выборов президента в мае 1844 года обнаружил желание большинства народа в пользу присоединения; это действительно произвело такое впечатление на народных представителей, что билль прошел теперь в обеих палатах. В последние дни своего президентства Тэйлер заключил договор о присоединении, и уже в следующем году Техас был принят в Союз, как 29-й штат (см. «Карты к истории Америки»).
Но это было лишь внешним решением вопроса. Мексика считала названную страну юридически принадлежащей ей и отказывалась вступать с Соединенными Штатами в переговоры относительно техасского вопроса. Однако, союзное правительство сумело справиться с этим затруднением; оно прежде всего отправило отряд войск против мексиканцев на западную границу нового штата и вместе с тем решило вопрос – должна ли р. Сабин или р. Нуэсес составлять границу, так как выдвинула войска за обе эти реки до Рио-Гранде-дель-Норте. Как только мексиканцы при нападении на рассеянный взвод драгун пролили первую кровь, война оказалась объявленною. Во всей стране едва ли мог найтись хоть один голос, который решился бы воспротивиться общему призыву к мести за вызов со стороны мексиканцев.
На северном театре войны генерал Захария Тэйлор быстро одержал одну за другою целый ряд блестящих побед над мексиканцами: в начале 1847 г. сопротивление их в местностях, пограничных с Техасом, было совершенно сломлено. Это не могло быть однако окончательным решением дела; союзное войско, отделенное бесконечными пустынями от настоящей Мексики, стояло на сотни миль от нее и испытанные ею потери могли оказать лишь незначительное влияние. Тогда Польк должен был решиться нанести более чувствительный удар. Этот последний был нанесен генералом Уинфильдом Скоттом в таком виде, что он из Вера-Круса выступил против столицы. И с этой стороны мексиканцы не могли оказать северо-американцам никакого серьезного сопротивления. Вера-Крус капитулировал в марте 1847 г. после недолгой бомбардировки; как только Санта Ана решался преградить путь неприятелям, направлявшимся к столице, он испытывал кровавые поражения. Тем не менее, даже и эти победы не давали президенту возможности пожать плоды его недобросовестной политики. Под сокрушающими победами северо-американского оружия рушилась диктатура Санта Аны, покоившаяся на слабых опорах; когда союзные войска вступили в Мексико, там уже не было никакого правительства, с которым можно было бы заключить мир. Победители должны были прежде всего содействовать восстановлению правительственной власти прежде, чем могли достигнуть своей настоящей цели – возвращения правильных отношений между Соединенными Штатами и Мексикой.
Тем временем отношение к полученным благоприятным результатам необычайно повысилось. Кроме техасского войска и вера-крусского отряда, был снаряжен третий отряд для вторжения в Калифорнию. Это последнее сопровождалось необычайной удачей: уже при самом вступлении в Калифорнию задача оказалась наполовину исполненной. Капитан Джон Чарльз Фримонт в 1844 г., во время своего путешествия с целью исследования, посетил Калифорнскую пограничную область, но пребыванию в ней придал так много политической окраски, что был выслан из Санта-Фе. Однако, как только была объявлена война, он возвратился туда, овладел городом Сономой и водрузил на нем союзный флаг. Одновременно с тем, американский военный корабль в Монтерее вошел в бухту Сан-Франциско и встретил там так мало серьезного сопротивления, что его командир, с помощью живших там американцев, завладел и этим важным пунктом. Тогда было постановлено присоединение Калифорнии и Новой Мексики к Союзу. Перед этим совершившимся фактом мексиканское правительство должно было преклониться. Эту горькую пилюлю подсластили для него тем, что присоединение провинций облекли в форму покупки: за уплату 15 миллионов долларов Мексика уступила обширные пространства земли, признала Техас членом Союза и согласилась считать Рио-Гранде западной границей его. Так как в это время дипломатическим путем достигнута была и уступка Англией в Орегонском вопросе (ср. выше, стр. 534), при чем был признан границею 49⁰ с. ш., Соединенные Штаты приобрели на дальнем западе границы, которые остались без изменения до настоящего времени. Какую это имело важность – видно из того, что через год в Калифорнии было найдено первое золото.
В конгрессе мексиканские победы имели весьма знаменательный отклик. Так называемое предложение Уильмота заключало ходатайство о том, чтобы согласие на уплату 15 миллионов обусловлено было устранением рабства во вновь приобретенных областях. Это предложение повело к крайне утомительному и ожесточенному словесному состязанию. В конце концов, запрещение было отклонено, но и как вся эта борьба, оно имело весьма мало практического значения. Свойства почвы Новой Мексики и Калифорнии само собою исключали способ хозяйства, в котором невольнический труд был бы выгоден. Кроме того, Калифорния быстро приобрела особый отпечаток, вследствие громадного прилива золотоискателей, которые, все, почти без исключения, были свободными работниками. Даже в Техасе, где со времени присоединения рабство было узаконено, оно вело лишь жалкое существование. Происходившее в конгрессе имело значение лишь потому, что оно свидетельствовало об усилении настроения против рабства; это настроение было столько же выражением раздувавшейся противниками рабства ненависти к этому учреждению, как и признанием его экономического вреда. Большинство и в этом случае, под конец, соединилось на решении, повидимому, благоприятствующем рабству, но теперь это было следствием того, что нападение на это учреждение было, несомненно, нападением на союзную конституцию. Тем не менее, изо всего хода речей рабовладельческого юга не могло не обнаружиться, что опасности, угрожавшие его экономическому обособлению, усиленно возрастали. Поэтому едва ли может казаться удивительным, что мысль о выступлении из Союза, на которое южные штаты считали себя вправе в согласии с демократическими принципами, и о более тесном сближении группы штатов, благосостояние которых было всего непосредственнее связано с сохранением невольничества, возникла вновь, хотя в ближайшее время без всяких реальных событий.
Эти обстоятельства не остались без влияния на президентские выборы. Польк принес слишком мало чести демократической партии, чтобы ему можно было надеяться на вторичное избрание. Вся эта партия в данную минуту была так слабо сплочена, что мало могла иметь надежд на победу в избирательной борьбе, и кандидат ее, Касс, северянин, не был таким лицом, которое могло бы прикрыть слабость этой партии. Между тем, противники ее, именно в выборе личности, были особенно счастливы. Генерал Тэйлор происходил из южных штатов, был сам рабовладельцем и не играл никакой политической роли, хотя и причислял себя к правому крылу вигов. Но его поход в Техас (см. выше, стр. 535) доставил ему популярность: подобно Джэксону и Гаррисону, он был народным кандидатом. Тем не менее, одним вигам едва ли бы пришлось провести его избрание; как партия, они были бессильнее, чем когда бы то ни было. Вся их программа состояла в том, чтобы собрать вокруг себя противников демократов, которые не хотели выступать вместе с малочисленными противниками рабства и не хотели присоединиться к так называемым Know-nothings, партии нативистов. Обе группы были обломками старой партии вигов; самым большим искусством для вождей их было установить такую платформу, которая давала бы возможность примкнуть к ним в данную минуту недовольным всех партий. Надо было выставить такой ticket, который обещал бы следовать собирательной политике и после успешных выборов; в качестве его, Тэйлор и Фильмор были выбраны несомненно с большим искусством.
Победа этих кандидатов означала поражение демократов, но никак не победу вигов. Политика вращалась в первое время вокруг организации вновь приобретенных областей; борьба, какую вели рабовладельцы за свои теоретические взгляды, еще более, чем за действительные интересы, была долгою и ожесточенною. Прежде, чем она закончилась, умер президент Тэйлор (9-го июня 1850 г.). Во второй раз выступал на место президента, избранного партией вигов, еще до истечения срока его власти, вице-президент, которому недоставало даже и той небольшой части приверженности партии, какая Гаррисону и Тэйлору подготовила путь к президентству. Миллард Фильмор (13-й президент 1850–1853) был, правда, не в такой степени отступником от принципов партии вигов, как некогда Тэйлер (ср. выше, стр. 533), но он шел навстречу представителям Юга до крайнего предела, в надежде этим путем создать себе успешную кандидатуру для будущих выборов. Весь период его службы был почти исключительно наполнен подготовлением к выборам, но надежды Фильмора не осуществились. Виги имели, правда, в виду его переизбрание, но избирательный конвент партии отдал предпочтение генералу Скотту (ср. выше, стр. 536), хотя и не удалось сделать этого последнего народным кандидатом. С большей удачей подражали демократы вигской избирательной тактике, выставив в лице Франклина Пирса ничего не говорящую личность и вместе с тем платформу, которая ничего не обещала положительного, кроме успокоения всех несогласий, поглотивших без всякого результата так много времени в течение предшествующего президентства. Такая программа могла расчитывать на многочисленных приверженцев и вне демократической партии. Общему желанию положить предел бесконечным пререканиям Пирс, без сомнения, в значительной степени обязан был большинством, с которым он 6 декабря 1852 г. вышел победителем из выборной борьбы.
Особая ирония судьбы заключалась в том, что служебные действия президента, избранного по преимуществу для умиротворения внутренней распри, начались с вопроса, от которого возгорелась междоусобная война. Принятием Калифорнии в качестве штата без невольничьего труда Север временно получил перевес. Чтобы по возможности скорее уравнять его, Юг предложил организацию территории Небраски, с целью как можно скорее превратить ее в невольничий штат, хотя эта область заходила к северу за линию компромисса Миссури (36⁰60’); так как при Фильморе состоялось соглашение вполне предоставлять вопрос о рабстве в территориях их будущей законодательной власти, то юридически нельзя уже было держаться требований компромисса Миссури. Это предложение разом уничтожило мирное настроение. Общий крик негодования поднялся против того, что этим путем рабство выдвигалось опять далее к северу. Знаменательным явлением было то, что в пользу компромисса Миссури высказывались не только виги и аболиционисты; в собственном лагере демократов ясно замечался раскол: среди них образовалась враждебная рабству фракция, исходившая с Севера, и другая, еще большая, в которой демократы невольничьих штатов стояли за «особое учреждение» своей секции. Последовательность союзной политики была еще больше, чем движение, направленное против рабства: билль, которым устанавливалась организация территории Канзаса и Небраски, сообразовался с компромиссом 1850 г. без упоминания о невольничестве. Но торжество рабовладельцев было только мнимым. Билль нанес опасный удар связи демократической партии; в северных штатах движение приняло такое направление, которое извергло слабейшую партию вигов из числа политических факторов. На развалинах ее возникла республиканская партия. На ней оставались еще многочисленные осадки из времен мутного прошлого, но вскоре с юношеской свежестью она превратилась в представительницу идей, которые, благодаря происходившим в то время событиям, возбуждали усиленное внимание всех кругов народа.
В северных штатах делались многочисленные попытки к освежению политических партий, но ни аболиционисты, ни нативисты (ср. выше, стр. 537) не могли вызвать глубокого и продолжительного движения в жизни партий. Противникам рабства преграждало дорогу к общему господству несовместимость их конечных целей с основными законами Союза. Убеждение во вреде рабства и желание содействовать его устранению приобретали, правда, приверженцев в более и более широких слоях населения; однако, они не примыкали к программе, к которой было потеряно уважение, благодаря отдельным, несомненно, беззаконным действиям. Нативисты некоторое время испытывали значительное приращение преимущественно потому, что таинственность организации их действовала заманчиво на толпу; однако, их программа, существенное содержание которой заключало требование, чтобы эмигрантам ставились ограничения в приобретении гражданских прав, оставляла массы совершенно равнодушными. Главы этой партии более всего восставали против ирландских переселенцев, прибывавших в Америку в качестве предшественников множества угнетенных в политическом отношении, искавших убежища в свободном государстве по ту сторону океана. Ирландцы составляли, во всяком случае, незавидный прирост населения. Они стояли почти без исключения на возможно низкой ступени образования, и господствовавшая среди них нравственная испорченность превращала их в сравнительно многочисленный контингент преступности Соединенных штатов. Кроме того, они принадлежали, по большей части, к католическому вероисповеданию, к которому принципиально относились с терпимостью, но которое не любили именно в северных штатах и которое возбуждало опасение своею крепкою сплоченностью. Антидемократические политики мало сочувствовали положению ирландцев и те, почти без исключения, примыкали к демократам. По этой причине демократическое большинство не могло, конечно, согласиться на закон об эмигрантах по желанию нативистов.
В этом отношении демократы находили поддержку и у вигов после того, как характер иммиграции существенно изменился вследствие революций, которые потрясали Старый Свет в средине XIX века. За ирландцами вскоре последовали венгерцы и затем особенно многочисленные отряды немцев. Эти последние, противоположно ирландцам, в среднем, по общему образованию не только стояли наравне с гражданами Соединенных Штатов, но даже превосходили их. И хотя они в ближайшее время казались сравнительно с местными жителями довольно неловкими в практическом отношении и политическое положение не соответствовало их представлениям, но они с способностью приспособления, свойственной немцам, быстро освоились с новыми условиями и приобретали все более и более самостоятельное политическое значение. Здесь они опять приходили в связь со старинными немецкими поселениями, которые давно уже играли видную роль во внутренней части Пенсильвании (см. выше, стр. 442). Между старыми и новыми гражданами Союза германского происхождения произошло сближение, выгодное для обеих сторон и усиливавшее личное самосознание, вследствие чего германо-американцы, не переставая ни одной минуты чувствовать себя в передовой линии в качестве американцев, в то же время признавали себя особым землячеством внутри Союза.
Вступление германо-американцев в политическую жизнь обозначает поворотную точку в истории Союза; это было вызвано не исключительно исходившим от них стимулом, но получило свое значение, благодаря им. Германо-американцы, в особенности прибывавшие после 1848 г., не могли ни в каком случае сделаться приверженцами демократической партии. Они, которые на прежней родине высказывались, боролись и страдали за общие человеческие права и за предания французской революции, никак не могли присоединиться к партии, силою обстоятельств вынуждавшейся отводить в своей политической программе все больше и больше места поддержанию рабства. В теории они часто являлись аболиционистами. Но для того, чтобы примкнуть массами к этой небольшой партии, они стояли слишком далеко от действительных политических условий американской жизни: сочувствие к форме правления, воодушевление республиканской конституцией были слишком живы, чтобы все их политическое мышление могло направиться на путь этого, частью нравственного, частью экономического вопроса. Еще менее для них могло быть место в партии Know-nothings; они, первые эмигранты, видевшие, как их соотечественники притекали все более и более широкими потоками, и призывавшие их в страну свободы, не могли действовать за одно с партией, которая хотела закрыть это искомое всеми и прославляемое убежище.
Вследствие всего этого в жизни партии вигов возникли совершенно новые явления. Если даже допустить, что немецкий элемент народонаселения сыграл роль тех дрожжей, от которых зародилось брожение, создавшее республиканскую партию, то все же, ее действительное возникновение и состав не зависели от этого элемента. Те политические деятели, которые и раньше с опасением и сожалением относились к раздроблению анти-демократической партии уже неоднократно пытались выработать программу по главным животрепещущим вопросам времени, чтобы на основании этой программы могла создаться прежняя жизнеспособная политическая партия. В своих первоначальных зачатках республиканская партия была ничем иным, как возобновлением попытки некоторых наиболее дальновидных политиков вигизма подвести под его программу такую общую идею, которая могла бы возвысить эту партию, влить в нее новую жизнь, обеспечить ей конечную победу. Подобные попытки производились одновременно в разных местах под разными наименованиями; но уже в самом начале получило преимущество название республиканцев (см. выше, стр. 538). В основе программы несомненно лежали вопросы о невольничестве, но решение его не предполагалось в том радикальном смысле, как того хотели аболиционисты. Новая партия принимала безусловно консервативную точку зрения; однако, не ставя естественных прав человека, как они изложены в декларации независимости, выше конституции Союза, новая партия вместе с тем требовала, чтобы конституция не служила далее средством насиловать равно обязательные для всех законы в пользу односторонних и неправильно понимаемых интересов одной части граждан. Развитию этой главной основной мысли была посвящена вся остальная часть программы. Однако, партия вместе с тем унаследовала от вигов все требования внутренних улучшений, которые предъявлялись союзному правительству, как этими последними, так еще раньше и федералистами (см. выше, стр. 528). Во главе этих требований стояло, между прочим, проведение железнодорожного пути через континент Америки от одного океана к другому.
Во время президентских выборов, окончившихся избранием Пирса, республиканская партия еше только народилась и не играла сколько-нибудь заметной роли. Зато в течение четырех лет пребывания Пирса в Белом Доме обстоятельства способствовали ее могучему развитию. Прежде всего содействовали тому события в Канзасе. Так как введение или недопущение невольничества в Канзасе было поставлено в зависимость от решения его жителей, то между сторонниками и противниками невольничества на этой территории возгорелась горячая борьба, начавшаяся на почве законности, но скоро принявшая такие формы, которые представляли явное нарушение закона. По постановлению конгресса в различных штатах Севера образовались общества, имевшие целью заселение Канзаса свободными фермерами. Результаты деятельности этих обществ были в высшей степени благоприятны: сильная иммиграция из Европы доставляла обширные контингенты людей, которые, пользуясь сильною поддержкою правительства, охотно шли на далекий запад на борьбу с пустыней и со многим другим. А там, где плуг свободного труженика поднимал девственную почву, рабовладельцы, конечно, не выдержали бы конкуренции с фермерским сословием. Но его расселение могло происходить лишь постепенно, и вся территория Канзаса не могла быть занята ими сразу. Для этого расстояние от атлантических гаваней до Канзаса было слишком велико, передвижение слишком дорого и средства, которыми располагали колонизационные общества, слишком ограничены.
Положение рабовладельцев в этом отношении было более благоприятно. Насколько Канзас примыкал к цивилизованным областям, он граничил почти исключительно с невольничьими штатами, и переселенцы из Миссури, которые были в особенности многочисленны в Канзасе, могли всегда расчитывать на помощь своих друзей по ту сторону границы. Так, напр. случилось, когда губернатор его назначил выборы в первое законодательное собрание: немедленно толпами устремились жители южных пограничных штатов, и они, частью туда прямым участием в выборах, частью с помощью подлогов и насилия над противной партией, достигли таких результатов, которые, очевидно для всякого, совершенно не соответствовали действительным условиям. Однако, правительство Союза не только утвердило эти выборы, но и допустило, чтобы избранное таким образом собрание выработало для территории конституцию исключительно в интересах рабовладельцев и видах угнетения их противников. Правительство Союза поставило в распоряжение рабовладельцев даже союзные войска, несмотря на то, что, параллельно с утверждением выборов, владельцы свободных участков народным голосованием доказали наличность, по меньшей мере, равного числа свободного населения, не согласного на введение невольничества, и с своей стороны также избрали законодательное собрание и выработали конституцию. При таких обстоятельствах, сколько-нибудь продолжительный мир был невозможен. Первая кровь пролилась, быть может, по вине сторонников невольничества, но противники его почти немедленно и без зазрения совести также прибегли к насилию. Таким образом, в самом центре Союза, еще задолго до избрания президентом Линкольна, свирепствовала междоусобная война на почве невольнического вопроса.
Правительство Союза открыто держало сторону рабовладельцев. Это обусловливалось и основными принципами и всем прошлым демократической партии. Даже ее северное крыло, предводимое Дугласом, стояло, если не за самое рабство, то, во всяком случае, за полнейшее право самостоятельности отдельных штатов и территорий, и было вынуждено, чтобы быть последовательным, допустив утверждение первых канзасских выборов, поддерживать политику президента и дальше. Однако, в демократическом лагере никто не заблуждался относительно того, что в конгрессе все труднее и труднее было поддерживать партийную дисциплину, что влияние партии в народе значительно уменьшилось, а своим образом действий в канзасском вопросе она дала опасное оружие в руки противников. Все это наглядно обнаружилось при следующих президентских выборах. Правда, на них еще раз одержал победу демократический кандидат Джемс Бьюкенен (1856–1861), слишком семидесятилетний старик, долго бывший послом Союза в Англии и потому стоявший совершенно в стороне от борьбы политических партий. Впрочем, из числа четырех миллионов избирателей, за него было подано лишь 1800000 голосов, и он прошел только потому, что оказалось невозможным сосредоточить на одном лице голоса антидемократов. Старые виги и knownothings’ы выставили вновь кандидатуру Фильмора; если уже самое это имя достаточно указывало на слабость и беспринципность программы партии, то кандидатура его имела своим результатом еще и то, что она отвлекла от третьей партии несколько сотен тысяч голосов и оставила ее в меньшинстве.
Тем не менее, вся эта выборная борьба имела для республиканцев большое значение, была крупным шагом на пути к победе. Уже при первых переговорах относительно указания кандидатов состоялось соглашение между старой группой сторонников свободного землевладения, примыкавшими к аболиционистам know-nothings’ами и собственно республиканцами; счастливым результатом этого соглашения оказалось избрание Фримонта, исследователя дальнего Запада и завоевателя Калифорнии, в кандидаты президента. Фримонт был олицетворением юной Америки, ничего не хотевшей знать о старинном споре защитников прав отдельных штатов и федералистов, и написавший на своем знамени исключительно величие общего отечества и его свободное развитие в республиканском смысле. Республиканцы и на этот раз остались верны консервативному духу, но не в смысле застоя, оглядывающегося назад, а в виде непрерывного развития, стремящегося к высшим целям определенными, законными путями. Фримонт, получивший 1300000 голосов, был, в сущности, так близок к победе, что не только его сторонники, но и противники предусматривали победу республиканцев на следующих выборах, как неизбежную. Такая перспектива грозным призраком стояла перед южными демократами. До тех пор их противники могли надеяться на какой-либо успех, выставив кандидата, за которого в конце концов могли бы подать голос и демократические избиратели. Кандидатурой Фримонта им в первый раз был противопоставлен человек, программа которого не заключала в себе ни одной черты демократического характера, который, без всяких оговорок, ставил Союз выше отдельных штатов, декларацию независимости выше конституции – и только случай воспрепятствовал победе этой программы. Это было «началом конца», что хорошо сознавали в рабовладельческих штатах еще до исхода избирательной борьбы. В виду того, как уже неоднократно случалось и раньше, попробовали собрать и теперь отдельный конгресс южных штатов, но он сошелся лишь в недостаточном числе и остался без результатов.
Впрочем, в невольничьих штатах вполне сознавали серьезность положения. На Юге гораздо раньше и отчетливее, нежели на Севере, поняли все экономическое противоречие между свободными и невольничьими штатами, делавшее невозможным никакую общность интересов. Если в прежние времена еще можно было не замечать, на сколько положение Юга в борьбе было менее благоприятным, то события последних лет и их основательная и компетентная оценка вполне раскрыли в этом отношении глаза большинству рабовладельцев. Они не могли не заметить, на сколько различно увеличивалось народонаселение в обеих половинах Союза, и должны были видеть, насколько на Севере богатства умножались в совершенно иных условиях, чем на Юге. Они должны были, наконец, прийти к пониманию, почему земля по эту и по ту сторону границ рабовладельческих штатов обладала существенно различной ценностью. В Канзасе и во многих других пограничных округах они могли чувствовать на самих себе, насколько свободный труд был продуктивнее «особого учреждения» Юга; колонисты, которых они на общий счет посылали туда для конкуренции с свободным трудом, в большом числе переходили в противоположный лагерь. Конечно, хорошо было бы одним ударом уничтожить рабство и стать в уровень с экономическими условиями Севера! Но, при существовавших условиях освобождение невольников повлекло бы за собою разорение рабовладельцев, банкротство всех имущественных классов Юга. Южане часто и внутри, и вне конгресса доходили до выражения поступков мало достойных культурного народа, но побуждались они к этому не одним рабовладельческим высокомерием; в них сказывалось чувство сознания собственного бессилия, опасение разориться, как только правительство Союза наложит в той или другой степени руку на рабовладельческую систему. Вот что́ побуждало передовых застрельщиков Юга предъявлять все новые и новые требования, и все более обостряло борьбу. Правительственная политика, которой часто ставили в упрек, что она оказывала недостойное потворство рабовладельческим вожделениям, фактически исходила лишь из стремления облегчить в известной мере, помощью законодательных льгот, экономические затруднения, от которых страдала южная половина Союза. Отсюда же истекало и желание большинства северных политических деятелей быть угодными Югу.
Но если бы бо́льшая часть нации совершенно отказалась от подобных воззрений (а что это могло быть, показало голосование последних президентских выборов), если бы этому большинству удалось поставить своих людей во главе исполнительной власти, то Югу предстояло бы банкротство. Таким образом, ему, в сущности, оставался только один путь – или разорвать с прошлым, или же выйти из состава Союза и составить новый союз из числа штатов, все интересы которых основывались на существовании труда невольников. Весьма вероятно, что и такой союз очень скоро и безнадежно бы обанкротился, не выдержав конкуренции соседей, или же какая-либо внутренняя революция повела бы за собой перемену всей его экономической системы. Но в данную минуту рабовладельцы еще могли надеяться спасти свою собственность и задержать ее неминуемое обесценение.
Деятелям Юга такой образ действий не казался революционным. Учение о суверенитете отдельных штатов повело к тому, что весьма значительная часть политических людей не только на Юге, но и на Севере, считали Союз лишь государственным договором, который стороны, заключившие его, имели права расторгнуть без нарушения закона. Это уже однажды открыто высказала Южная Каролина в своем конфликте с Джэксоном (см. выше, стр. 527) и ее заявление было принято вовсе не как что-либо незаконное или несправедливое; наоборот, только путем соглашения добилось тогда союзное правительство удовлетворения своих требований. Конечно, с тех пор сознание неразрывности Союза значительно окрепло и распространилось среди населения; стремления к отпадению отдельных южных штатов даже в их среде возбуждали движение дружественное Союзу. С другой стороны, на северо-востоке, где экономическая противоположность с Югом выражена была всего резче, существовала большая партия, которой отделение экономически различных групп казалось столь же выгодным, как и самим южанам, и которая с правовой точки зрения считала мирное расторжение Союза наиболее желательным исходом.
Президент Бьюкэнен больше всего заботился о том, чтобы предоставить решение вопроса будущему. От своего предшественника унаследовал он несколько других задач, решение которых было в значительной степени связано с общими интересами Союза, и президент надеялся, что, поставив эти задачи на очередь, он придаст другой оборот внутренней политике. Так, Соединенные Штаты уже давно добивались обладания островом Кубой. Его географическое положение влекло за собою многочисленные осложнения, а слабость испанского владычества делала возможным продажу этого острова. Для Соединенных Штатов становилось в таких случаях жизненным вопросом, чтобы Куба не перешла к таким владельцам, которые сумели бы создать эксплуатацией ее естественных богатств могучую конкуренцию произведениям Северной Америки. А потому неоднократно с их стороны делались попытки вступить с Испанией в переговоры, но они оставались до сих пор без результата. Мы не будем вдаваться в рассмотрение того, основательно ли Бьюкэнен расчитывал на будущее, но он во всяком случае воспользовался Кубинским вопросом, чтобы отвлечь общественное внимание от внутреннего положения: он добился того, что конгресс долго занимался предложением правительства открыть ему на это дело кредит в 30 миллионов долларов, и дебаты и прения направились в сторону от внутренней политики. В том же направлении воспользовались и вопросом о мормонстве. Против мормонов уже Пирс посылал союзные войска, чтобы вынудить подчинение союзным законам теократической общины, основанной Брайгемом, Юнгом, и Бьюкэнену предстояло провести через конгресс заключенный тогда договор, которым, хотя по наружности, все это дело являлось улаженным в желательном для правительства смысле. Тем не менее, президенту все-таки не удалось заглушить внутренний раздор. Раздор этот стучался в двери конгресса, который не мог и не хотел закрыть их перед ним.
В Канзасе между тем партии стояли по прежнему друг против друга, готовые к борьбе. Рабовладельческая партия, помощью самых беззастенчивых подлогов на выборах, вновь доставила себе видимость того, будто ей одной принадлежит право голоса за всю территорию, и выработала в Лекомптоне проект конституции, на основании которого Канзас добивался принятия своего в Союз. Освободительная партия, с своей стороны, указывала на допущенный при выборах обман, выступила с так называемой «конституцией Топека», воспрещавшей рабство, и обратилась в конгрессы с тем же требованием; но президент Бьюкэнен даровал свою санкцию проекту, составленному в Лекомптоне, и провел его через сенат. В палате представителей, однако, не удалось достигнуть прямым путем принятия этого проекта, и когда, наконец, помощью различных парламентских сделок и передержек, составилось в пользу его известное большинство, то лишь под условием, чтобы Лекомптонская конституция была вновь подвергнута народному голосованию. При этом вторичном голосовании рабовладельческий проект потерпел полнейшее поражение. Вследствие того, вступление Канзаса в число штатов союза отсрочилось еще на несколько лет, но делу освобождения была оказана большая услуга.
Северные демократы, во главе которых стоял в то время Стефэн Арнольд Дуглас, уже давно лишь с крайним трудом мирились с политикой большинства. Но вопрос о конституции Канзаса повел к полному отпадению их. Демократическая партия принципиально стояла за право самостоятельности штатов. Поэтому Дуглас поступил лишь последовательно, внеся требование народного голосования для Лекомптонской конституции. Но так как в конгрессе хорошо и заранее было известно, что требование Дугласа выдвинет вопрос о признании рабства в Канзасе, то демократы юга отнеслись к образу действий Дугласа как к измене партии и постарались безвозвратно порвать связь с ним и его единомышленниками. Конечно, поступая так, южане могли смело расчитывать изъять из своей партии все ненадежные элементы и этим усилить ее внутреннее единство. Но, к несчастью, с распадением демократической партии порвалось еще одно звено, связывавшее Север с Югом, и обозначился еще один лишний пункт, указывавший на неизбежность конфликта между ними. Страна, таким образом, вступила в следующий период избирательной борьбы за президентство в состоянии противоположения двух вполне отдельных друг от друга групп штатов.
Демократы на этот раз действовали уже не единодушно. Первый избирательный сьезд их в Чарльстоне разошелся, не придя ни к какому соглашению. Северное крыло выставило кандидатом Дугласа, южное – Брекинриджа. Виги все-таки еще имели смелость выставить своего собственного кандидата; но это не имело значения распадения анти-демократов: виги, при существовании республиканцев, уже как бы не принимались в расчет. Последние, верные месту возникновения своей партии, собрались в мае 1860 г. на свой избирательный конгресс в один из городов Запада – в Чикаго, и там был намечен для президентской кандидатуры представитель Запада – Абрагам Линкольн. Он был то, что называется «а self-made man», человек, личным трудом проложивший себе дорогу, и приобрел известность лишь весьма незадолго перед тем, в борьбе с Дугласом за сенаторское кресло от Иллинойса. Спокойная, бесстрастная вдумчивость и полная юмора находчивость делали его одним из наиболее выдающихся политических людей молодой партии. А то, что он был, сверх того, – в сильной степени «человеком из народа», заставило предпочесть его в качестве кандидата на президентство всем уже несколько износившимся парламентским деятелям из республиканцев.
Голосование дало результаты еще менее определенные, чем при избрании Бьюкэнена. 6 ноября 1860 г. Линкольн получил относительное большинство голосов, обеспечивавшее ему, на основании закона, президентство, но до абсолютного большинства ему недоставало двойного числа голосов сравнительно с предшественником. Сверх того – что было всего хуже – избрание Линкольна было результатом единственно подавляющего большинства голосов Севера. В южных штатах кандидатура Линкольна даже и не выставлялась, а в пограничных штатах он получил едва несколько тысяч голосов. Таким образом, Линкольн был в сущности избранником лишь одной секции. Противная партия не замедлила воспользоваться этим обстоятельством. Немедленно за провозглашением результатов голосования, южная Каролина, как всегда, стоявшая во главе крайней партии, заявила о своем выходе из состава Союза. Сначала это заявление оставалось единичным, но вскоре затем была намечена в Монгомери особая конвенция всех южных штатов с целью соглашения относительно общего плана действий для защиты интересов Юга против избранного Севером президента. Попытка Виргинии созвать конвенцию для посредничества оказалась безуспешной: эта комиссия считала своей задачею лишь выработку дальнейшего образа действий одних средних штатов, с целью приостановить по возможности распадение Союза. Удержать южные штаты в составе Союза было невозможно: это не только категорически заявляли они сами, но в том же были убеждены и на Севере и старались освоиться с этой мыслью.
Бьюкэнен, в последние месяцы своего управления, счел уместным занять вполне пассивное положение. Для него, как демократа, по внутреннему убеждению отстаивавшего права отдельных штатов, было вполне естественным признать за южными штатами право выхода из Союза. Однако, ему пришлось, еще до оставления им президентского поста, совершенно изменить свою политику. Февральское собрание южных штатов в Монгомери окончилось немедленным образованием особой конфедерации избравшей своим президентом Джефферсона Дэвиса и провозгласившей себя вполне независимым государством, со всеми принадлежавшими ему правами. Бьюкэнен лично был склонен признать Юг таким государством. Мысль о том, чтобы предоставить южным штатам мирным путем выйти из состава Союза, была настолько распространена в северо-восточных штатах и в среде их демократов, что на Юге вполне расчитывали на подобный исход. Но отпадение Юга повлекло за собою выход из состава кабинета Бьюкэнена некоторых из его министров, а люди, заступившие их места в кабинете, не только сами имели твердую решимость сохранить единство Союза, но сумели и президенту внушить убеждение в необходимости такой политики. Отсюда произошло то, что он внезапно прервал всякие переговоры с конфедерацией. Если он не перешел прямо к активной политике против нее, то, во всяком случае, советникам президента удалось удержать его от каких-либо дальнейших уступок.
При таких обстоятельствах принял президентство Линкольн 4-го марта 1861 года. Ему пришлось въехать в Вашингтон переодетым, вступление его в должность произошло под охраною войск, и, лишь благодаря тому, дело обошлось без печальных инцидентов. Вступительная речь Линкольна была составлена в совершенно консервативном духе, который республиканской партией был возведен в свою программу, тем не менее сохранение и единства Союза и всех его законов стояло в ней на первом плане. Президент категорически отрекался от всяких аболиционистских стремлений как несогласных ни с законом, ни с его личными взглядами; а потому тем сильнее возлагалась вся ответственность на южан в случае, если бы их образ действий имел последствием междоусобную войну. Это были не пустые слова – что́ немедленно оказалось на деле. Статс-секретарь кабинета Линкольна по иностранным делам в самой резкой форме отказал в приеме посольству конфедерации Юга, желавшему вступить в переговоры с союзным правительством, так как оно не признавало конфедерацию Юга независимой республикой. В остальном Линкольн держался выжидательной политики, пока события не принудили его к другому образу действий.
Сецессионисты еще в правление Бьюкэнена выступили с требованием передачи в их руки всего союзного имущества в пределах южных штатов, и в особенности фортов Чарльстона. С формальной стороны требование это было отвергнуто, но на деле цель его была достигнута. Гарнизон фортов был так слаб, что их комендант майор Андерсон признавал невозможным защитить их даже от простого нападения. Так как союзное правительство не решалось послать ему подкрепления, то он отступил с гарнизоном в наиболее удобный для обороны, лежавший на острове форт Сумтер, а остальные заняли конфедераты. Первые выстрелы последовали здесь еще в январе 1861 года, когда союзный фрегат попробовал подвезти Андерсону провиант, но вынужден был, под огнем береговых батарей конфедератов, возвратиться, не исполнив своего назначения, и предоставить Андерсона его участи. Но только 12 апреля 1861 года южно-каролинцы решились направить свои орудия против самого форта Сумтера, который и вынужден был сдаться после двухдневного обстреливания.
Южане торжествовали, как крупную победу, что звездное знамя союза было, наконец, снято с последнего форта в их области. Но они жестоко ошиблись в расчете. Союзное правительство, пока вопрос об отпадении Юга шел лишь дипломатическим путем, вынуждено было считаться с тем фактом, что на всем пространстве Севера существовало могущественное течение, благоприятствовавшее разделению Союза, и которое, во всяком случае, не допустило бы до вооруженного этому противодействия. Но когда первая кровь была пролита Югом, на Севере поднялся такой взрыв негодования, что само собою возникло требование по вкладывать меча в ножны, пока Юг не будет приведен к повиновению законам Союза. Весь этот воинственный жар угас впоследствии как преходящая вспышка, но, в данную минуту, он открыл Союзному правительству выход из ложного положения, в какое, в виду решительного образа действий Юга, его поставила выжидательная политика Линкольна.
До этого момента только 11 штатов примкнули к отпадению. Средние, лежавшие между Югом и Севером, штаты еще колебались, и выбор положения их, по всей вероятности, оказался бы в зависимости от исхода первых военных действий. К колеблющимся прежде всего принадлежала Виргиния; ее значение для Юга было так велико, что южный конгресс сделал все возможное, чтобы привлечь ее на свою сторону. Этим преимущественно объясняется то, что Ричмонд на реке Джемс (см. «Карты к истории Америки») был объявлен столицею конфедерации, хотя он и лежал близко к границе Севера и был открыт для нападений неприятеля, но во время избрания еще никому серьезно не верилось, что спор может быть решен только силою оружия, – теперь в этом уже не было никакого сомнения.
Положение Союза было в момент открытия военных действий довольно критическим. Союзная военная сила, и сама по себе незначительная, находилась в полном разложении. Статс-секретарь по военным делам, только что удалившийся от дел, намеренно частью передал в руки южан весь боевой материал, частью рассеял его по различным местам. Большинство офицеров оставило службу Союза и поступило в войско южан. Даже огромное численное превосходство населения Севера вначале не играло никакой роли в борьбе. Относительно характера предстоящей борьбы в свободных штатах заблуждались настолько, что ее сперва предполагали вести с помощью милиции и вербованных отрядов, и большая часть граждан, верных национальному отвращению от всего военного, спокойно предавалась своим обыкновенным занятиям.
Непосредственная опасность угрожала как столице Союза, так и самому Союзному правительству. Ближайшие штаты Мэрилэнд и Делавар были невольничьими и открыто симпатизировали Югу. Если бы потеря Вашингтона и не имела серьезного стратегического значения, то морально было бы тем более тяжелым ударом, что в Северных штатах военная партия вообще имела лишь временное преобладание. К счастью, потери Вашингтона удалось избежать; быстро созванные полки милиции Коннектикута и Нью-Йорка своевременно вступили в столицу. Когда Мэрилэнд начал угрожать вооруженным сопротивлением пропуску подкреплений, – союзные войска заняли его столицу, Бальтимору, разогнали правительство, составленное в духе отпадения, и водворили на его место преданное Союзу управление. Это был первый удар, нанесенный распадению: он предупредил присоединение обоих Штатов, Мэрилэнда и Делавара, к конфедерации и повел за собою отпадение от Юга западной, унионистической части Виргинии, которая уже в 1863 году была принята отдельным Штатом в состав Союза.
Приблизительно так же шло дело на Западе, и конфедерация расчитывала привлечь на свою сторону невольничьи средние штаты. Кентукки, Миссури, Канзас, и еще некоторые из штатов Запада. Расчет этот был тем более вероятен, что почти повсюду правительство находилось в руках демократически настроенного большинства. Однако, расчет этот нигде не оправдался. В Кентукки твердость должностных лиц Союза воспрепятствовала какому-либо ложному шагу правительства; а Миссури, хотя его сначала и не удалось удержать на всем протяжении за союзом, тем не менее, лишен был возможности формально примкнуть к конфедерации. На Дальнем Западе сами демократы были убежденными унионистами, и весь Запад, за исключением лежащих при Мексиканском заливе штатов, Луизианы, Арканзаса и Техаса, остался верен Союзу. Здесь, наоборот, и коренилась идея государственного единства Союза. Жители Запада, большею частью, поселившиеся в нем под покровительством общего союзного законодательства, и сложившиеся в общины, территории и штаты, были всегда представителями великоамериканской политики, и вовсе не были расположены ставить в зависимость от доброй воли известного количества недовольных своим положением граждан вопрос о том – останется ли Сев. Америка целостным государством с огромным будущим, или же распадется на две, друг другу враждебные и одна другую вытесняющие части. Уроженцы Запада, к которым принадлежал и Линкольн, являлись преимущественно носителями сознания государственного единства. С Запада началось последнее победоносное движение Союза, окончившееся совершенным подавлением восстания, да и само восстание могло быть только в том случае окончательно побеждено, когда на Востоке получила преобладающее влияние политика Запада.
Первые наступательные действия северян кончились печальной неудачей. 60000 армия, под начальством Мак-Доуэля, выступила по направлению к неприятельской столице и сошлась с южанами 21 июля 1861 г. под Булль-Реном, но потерпела позорное поражение и в паническом ужасе была отброшена к Вашингтону. Не численное, но исключительно качественное превосходство обеспечило победу Юга. Это было совершенно в порядке вещей. Наемные солдаты и милиция Севера, предводимые офицерами, которые в большинстве были недавно оторваны от мирных гражданских занятий, представляли плохо дисциплинированную массу, предводительствование которою оказалось бы в высшей степени затруднительным даже для первоклассного военного таланта. В войске южан социальные условия были совершенно иными: народные массы уже издавна привыкли повиноваться своей плантаторской аристократии, и эта последняя, искусная во всех родах спорта, заключавшая большое количество вполне опытных и в военном отношении образованных офицеров, сумела, в свою очередь, внушить военный дух и массам. Эти условия борьбы сохраняли свое значение в течение всего хода войны. Только ими объясняется, что сравнительно ничтожное население отделившихся штатов (число его не доходило до 5000000 белых против 20000000 белого населения Севера и Запада) могло держаться так долго и упорно. Правда, что на весы надо положить еще 4 миллиона невольников. Они не только не произвели никаких восстаний, но, наоборот, по крайней мере, вначале, почти без исключений, последовали призыву своих господ к оружию. Если они не участвовали в боях в качестве воинов, то совершенно освобождали сражающихся белых от тяжелой саперной и обозной службы. Отсюда происходило то, что отношение настоящей боевой силы к общей численности армии было у южан всегда гораздо благоприятнее, нежели на Севере.
На Востоке, на так называемом Виргинском театре войны, борьба годами имела характер прилива и отлива крупных войсковых масс, на пространстве между обеими столицами, Вашингтоном и Ричмондом, отстоявшими друг от друга лишь на 25 немецких миль. Происходили многочисленные сражения, длившиеся иногда по несколько дней, в которых потери сражающихся достигали огромных размеров. Однако, ни та, ни другая из сторон не могли добиться какого-либо решительного успеха. Почти всегда операции оканчивались неудачею наступающего, не доставляя защищающемуся случая прийти к решительным результатам. Превосходство военного таланта было несомненно на стороне Юга: действия Джозефа Экклестона Джонстона и Роберта Эдуарда Ли, изумительные кавалерийские набеги Томаса Джонатана Джэксона, по прозванию «Каменная Стена», и его конной пехоты далеко оставляли за собою все военные операции северян. Но и эти вожди не возвысились до целостного, широко задуманного и энергически выполненного плана кампании. Правда, им приходилось бороться с особенными затруднениями. Так как Юг уже в самом первом фазисе войны потерял обладание приморской полосою, то его полководцы вынуждены были ограничиваться единственно операщями на суше. Пока эти операции происходили между Ричмондом и Вашингтоном, южане имели то преимущество, что на их стороне было население этой местности. Тем не менее, продовольствование крупных войсковых масс, а часто и передвижение их производились почти исключительно помощью немногочисленных железнодорожных линий, так как других путей сообщения, в европейском смысле слова, почти совсем не было. Такое положение естественно затрудняло наступательное движение на далекое расстояние, да таковое было бы почти бесцельно и с военной точки зрения. Сам Вашингтон – как показали события первого года войны – был неприступен для южан, пока силы Союза не были потрясены в корне, а кроме этого пункта для ричмондской армии почти не существовало серьезного объекта наступления. Поход на торговые и промышленные города северо-востока, завоевание которых, конечно, представлялось для Юга богатою добычей, было для южан на сухом пути невозможно, так как неприятельские силы, в этом случае, оказались бы у них в тылу. Даже если бы удалось привести во временное подчинение Юга известную часть средних штатов, или же терроризировать и разорить военными набегами ближайшие северные штаты – Пенсильванию или западную Виргинию, то это осталось бы без особого влияния на результаты борьбы. Генерал Ли повторял подобные попытки дважды, и оба раза без всякого успеха. Решительный момент наступил бы здесь лишь в том случае, если бы он сопровождался соответствующими успехами и на других театрах военных действий.
Успеху северян более всего препятствовало отсутствие хороших вождей. Правда, в два первые года войны ополчение Севера в своем общем составе было в качественном отношении так незначительно, что даже и хорошие генералы не могли бы с ним одержать победы. Но когда, наконец, решились ввести обязательный набор, а из полков волонтеров выработались кадры испытанных боевых дружин и офицеров, дело изменилось в этом отношении. В течение войны удалось даже создать из ополчения западных фермеров достойных соперников превосходной южной кавалерии, сначала значительно превосходившей северную. Но медлительная тактика Джоржа Бринтона Мак-Клеллана, неспособность его непосредственных преемников, даже стойкое упорство и непоколебимость Уллиса Симпсона Гранта все-таки оставались далеко ниже военных способностей их противников. Север имел преимущество и в обладании морскими сообщениями, и Мак-Клеллан однажды попытался основать на этом свой план кампании, но эта попытка не удалась и на Виргинском театре войны более уже не повторялась.
Кроме того, существовали, в особенности в начале войны, политические соображения, подрывавшие силы Севера. Линкольн смотрел на восставших лишь как на заблуждавшихся соотечественников. Он не допускал борьбы с ними, как с конфедерацией, существования которой он не признавал, и целью борьбы ставил лишь подчинение тех, которые вооруженною рукою восставали против законов Союза. Однако, несмотря на такое ограничение, Линкольну не удавалось сплотить вокруг себя весь Север так прочно и крепко, как это сделала на Юге простая сила вещей. Когда в течение двух первых лет войны, в особенности на востоке, и, в меньших размерах на остальных военных театрах оказались лишь поражения и жертвы без заметных результатов, партия на Севере, которая благоприятствовала мирному отпадению Юга, угрожающе подняла голову, побуждаемая к тому, конечно эмиссарами южан. Были моменты, когда демократическая партия в восточных штатах оказалась вновь в большинстве и во многих местах взяла в свои руки управление, когда чернь в Нью-Йорке восстала против позорной войны, а в конгресс было внесено предложение президенту вступить в переговоры с конфедератами относительно прекращения военных действий. Если б в это время Запад не держался твердо союзной программы республиканской партии, а существовавшие там некоторые демократические настроенные правительства не были своевременно распущены союзной центральной властью, то Линкольн по меньшей мере очутился бы в крайне затруднительном положении.
Опасность на востоке была бы еще гораздо больше, если бы война с течением времени не создала там особый класс сторонников. То обстоятельство, что при вступлении Линкольна в президентство почти все запасы снаряжения и оружия Союза оказались переданными в руки Юга (см. выше стр. 547), доставило последнему временный перевес. Так как Юг, в виду сравнительной малочисленности своего населения, не был, конечно, в состоянии, в особенности во время войны, быстро создать свою собственную промышленность, то положение должно было с течением времени сильно измениться к его невыгоде. Для Севера это обстоятельство создавало чрезвычайно сильную побудительную причину к крайнему напряжению сил: для всей промышленности северо-восточных штатов открылась возможность могущественного подъема и крайне прибыльной деятельности. Фабрики, вырабатывавшие всевозможные предметы продовольствия, военного снаряжения, оружия и одежды, оказались заваленными заказами на самых выгодных условиях. В особенности это имело значение для кораблестроения, которое и раньше занимало в северных приатлантических портах Союза тысячи рук. Те немногие фрегаты и таможенные суда, которые составляли флот Соединенных Штатов, были еще до объявления войны разосланы по гаваням юга, или в далекие чужестранные плавания, так что и в этом отношении силы Союза были до последней возможности ослаблены. Унионисты же не могли не признавать, что Юг мог быть только тогда фактически лишен подвоза новых боевых материалов, когда он был бы отрезан от моря.
В Вашингтоне хорошо понимали, какое важное значение имело для Юга свободное сообщение с морем. Юг твердо уповал на то, что европейские государства, и во главе их Англия, в случае поражения в борьбе с Севером, непременно оказали бы ему помощь, так как Европа не могла обойтись без его хлопка. Фактически королем юга был хлопок. Он составлял главное богатство крупных землевладельцев; ради него решались, даже ценою тяжелой войны, удержать невольнический труд, им расчитывали оплатить издержки войны, – и в виду того надеялись на признание, если не на помощь Европы. Последний расчет был далеко не ошибочен. Если Наполеона III побуждала держать сторону южан одна лишь завистливая ревность к Северо-Американским Штатам, то склонность Англии к Югу основывалась почти исключительно на промышленных расчетах. И не только временное прекращение подвоза сырья: и связанная с ним приостановка работ на фабриках, и, еще более, страх захвата северо-американской промышленностью этой отрасли производства настолько, что английская конкуренция навсегда будет устранена, внушили Великобританскому правительству такое отношение к конфедерации, что северо-американский посланник в Лондоне вынужден был, наконец, пригрозить Англии дипломатическим разрывом. Какой серьезной поддержкой с английской стороны пользовались морские каперные суда южан – выяснилось лишь впоследствии во время длинных и тяжелых переговоров по так называемому «вопросу об «Элебеме», который лишь в 1872 году был закончен международным приговором, присудившим Англию к уплате Северной Америке значительной денежной суммы.
С достойной удивления энергией принялись северо-американцы за трудное дело создания такого флота, который удовлетворял бы их задачам: не только сотни, но тысячи судов были спущены ими с верфей за короткое время гражданской войны. Уже в конце 1862 г. чувствительно сказалась блокада южных портов. Несомненно, что во все продолжение борьбы неоднократно удавалось отдельным смелым морякам неожиданно или безнаказанно прорывать эту блокаду. Они наживали при этом большие деньги: но сравнительно незначительные грузы, доставлявшиеся этим путем, были, конечно, не в состоянии удовлетворить требованиям европейского хлопкового рынка, а с другой стороны, этих случайных подвозов было недостаточно для возобновления постепенно истощавшихся боевых средств Юга. Таким образом, действия на море косвенно в значительной степени повлияли на исход тяжелой борьбы. Решающего же значения они несомненно не имели.
Решение пришло с Запада. Образование конфедерации Южных Штатов привело бы вновь весь Запад Союза к тому же положению, которое существовало до уступки Луизианы. Если уже тогда возможность свободного судоходства по Миссиссипи до самого его устья составляла необходимое условие благосостояния внутренних штатов континента, то тем более так было теперь, когда на месте немногих фортов и торговых факторий, между которыми бродили индейцы, – в этих штатах целое население трудолюбивых фермеров подняло тысячи квадратных миль девственной почвы и превратило их в плодоносные поля, – создались цветущие города и деревни. Лишь немногие рельсовые пути соединяли «отца рек» с восточными провинциями, а проект железной дороги к Тихому океану не выходил еще из стадии подготовительных работ. Миссиссипи, таким образом, для всего огромного района, орошаемого им с его большими притоками, представлял главную артерию внутреннего сообщения; большой паровой флот уже тогда работал в нем, производя обмен товаров между внутренними и восточными штатами. Отпадение Юга угрожало закрыть этот путь: начиная от впадения Огайо в Миссиссипи до самого Мексиканского залива, оба берега реки были бы во власти южан, и целый ряд укреплений предназначался ими для того, чтобы закрыть реку для всякого чужого судна. Так как Кентукки при открытии военных действий остался верен Союзу, то Огайо почти до своего впадения в Миссиссипи находился в руках северян; но конфедераты за то своими фортами Генри и Донельсон совершенно заперли как Кумберлэнд, так и Тенесси в том месте, где эти реки сходятся на расстоянии нескольких английских миль, и создали здесь укрепленный лагерь огромного стратегического значения. Первый удар унионистов должен был направиться на этот пункт.
Война вскоре приняла здесь, еще более, нежели на востоке, тот отпечаток, который отличает ее от всех войн Старого Света. Вследствие огромного практического смысла американцев и свойственной им деловитости, технические искусства и науки уже в то время получили во всех частях Союза такое развитие, которое далеко оставило за собою Старый Свет. Уже в то время железные дороги и пароходы играли в сообщениях и в торговле Северной Америки такую роль, которую они лишь значительно позже получили в Европе. Между тем, как здесь массовое вооружение народов в случае войны оставляет промышленность без рабочих рук и сокращает ее до пределов самой безусловной необходимости, в Америке именно за время гражданской войны промышленность овладела всеми представлявшимися ей производствами с такой энергией, которая обратила на себя внимание всего света. Гражданская война в Америке более, нежели какая-либо другая, велась при помощи технических изобретений, которые или впервые применялись в очень большом масштабе, или же прямо возникали под влиянием потребностей минуты. Железные дороги получили огромное стратегическое значение в лишенной дорог стране. Задачей борющихся сторон являлось не столько их разрушение, сколько восстановление, а также и постройка вновь рельсовых путей, мостов и т. п. Впрочем, этим не ограничились: рельсовые пути применили еще ближе к военным целям; а именно, впервые пустили в ход блиндированные поезда, перевозившие артиллерию и пехоту. Еще сильнее отразились потребности военного времени на кораблестроении. Когда Мак-Клеллан (см. выше стр. 549) попробовал перевезти на судах северную армию к устьям реки Джемс, навстречу северным судам вышло судно совершенно неизвестного типа. Южане срезали доставшийся им фрегат союзного флота почти до самой ватерлинии, затем покрыли его непроницаемой для тогдашних снарядов бронею, и снабдили это морское чудовище спереди сильным тараном, как главным орудием нападения. Это был «Мерримак» – боевое судно Юга, жертвой которого сделалось не одно из судов северян, пока они не выставили ему равносильного соперника. Таковым оказался построенный по проекту шведа Дальгрена «Монитор», представлявший собою также невысокое панцырное судно, вооруженное в средине вращающеюся башней с двумя орудиями самого большого калибра. С этого времени началось в морском военном деле соперничество между бронею и артиллерией, которое с тех пор росло все более и более и лишь в последние годы, благодаря новым взрывчатым веществам, повидимому, окончательно разрешилось в пользу последней.
Техника нашла себе применение и в войне на Западе. Унионисты построили речную флотилию панцырных канонерок с тяжелой артиллерией, представлявшую не только достаточный опорный пункт для сухопутных войск, но вместе с тем и плавучий осадный парк для неприятельских фортов. Действия этой речной флотилии много способствовали успеху западной армии на Миссиссипи. Одна из армий Севера, вытеснив южан из Тенесси, спустилась на Миссиссипи, тогда как, с другой стороны, отряд, посланный с Востока морем, явился к устьям великой реки, – следствием чего было взятие северянами Нового Орлеана еще в начале 1862 года. Вторая половина этого года и начало 1863 г. были наиболее тяжелым временем для Союза. На Востоке конфедераты перешли в наступление, на среднем театре войны они прорвались через завоеванную в кампанию предыдущего года линию Тенесси далеко на север и угрожали оставшимся верными Союзу городам до Чикаго и Цинциннати, наконец, на самом Миссиссипи южане в течение нескольких месяцев задерживали союзную армию под стенами твердыни Виксбурга на левом берегу реки. Победа и здесь досталась только при помощи техники. Придумывались самые сложные и остроумные приспособления, чтобы провести в целости речную флотилию под огнем неприятельских батарей и, в конце концов, обошли непобедимую крепость вновь прорытым каналом.
По счастливому совпадению, Виксбург пал в тот самый день (4 июля 1863 г.), когда армия Ли вынуждена была отступить от Геттисбурга к Ричмонду. Но решительное значение имела победа Запада: она освободила Миссиссипи до самого устья и отделила этим Юго-Запад от конфедерации. Блокада вдоль реки была столь же недостаточна, как и на море; но и она оказала свое действие, понизив до крайне малых размеров значительный до тех пор подвоз хлеба с Запада. На северо-востоке оценили значение этой победы и поставили Гранта (см. выше стр. 549), победителя при Виксбурге, во главе союзного войска.
К счастью для Севера, у Гранта оказался достойный его преемник, в лице Уильяма Текумсэ Шермана, также уроженца Запада. Он вел кампанию на среднем театре войны и в сентябре 1864 г. победоносно вступил в город Атланту в северо-западном углу штата Георгии. Здесь его осенила гениальная мысль – пройти неприятельскую страну насквозь в направлении к Атлантическому побережью. Таким образом, если бы это удалось, область владычества Юга вновь сокращалась бы в значительной степени. Если здесь и не представлялось, как на Миссиссипи, стратегической линии, которую можно было бы удержать на продолжительное время, то все-таки поход большой неприятельской армии поперек всей Георгии, от западной границы до самого моря, по крайней мере, на долго прервал бы связь между восточными и южными частями конфедерации. Вместе с тем борьба переносилась бы в самое сердце восставшей страны, в южную Каролину, до сих пор не затронутую бедствиями войны. Когда Шерман в декабре 1864 г. вступил в Саванну и установил морское сообщение с Вашингтонской армией, борьба вступила в свой последний фазис. Грант с севера и Шерман с юга одновременно стали наступать на местопребывание правительства конфедерации и все более и более ставили его в положение осажденного. 9 апреля 1865 года в Ричмонде пальмовое знамя конфедерации было спущено перед Грантом, и несколько дней спустя (26 апреля), стоявшая против Шермана южная армия конфедератов под начальством Джонстона прекратила бесполезное сопротивление.
Север спас, таким образом, единство Союза, но что же сталось с остальными частями его программы? Линкольн вначале твердо держался воззрения, что Союз не вел войну с конфедерацией, но лишь подавлял возмущение в своей собственной области, что́ нисколько не затрагивало права южных штатов и лиц. Он настойчиво повторял это заявление представителям средних штатов, оставшихся верными Союзу, когда с их стороны высказывались опасения относительно сохранения невольничества. Однако, самый ход войны вынудил его совершенно изменить свое отношение к вопросу о невольничестве. Это прежде всего сказалось тем, что, на самом театре войны, военачальники Союза гарантировали свободу всем неграм, которые пожелали бы вступить в ряды союзных войск. Линкольн сначала решительно не одобрял такой образ действий. Но когда южане объявили конфискацию всякой собственности, принадлежавшей в пределах конфедерации гражданам Союза, Линкольн не мог не прибегнуть к соответственной репрессивной мере: так как невольники составляли наиболее ценное имущество конфедератов, то они, конечно, всего охотнее подвергались конфискации и этим путем получали свободу. Все это были предвестники первых решительных шагов в рабовладельческом вопросе. Чем дольше длилась война, тем более выступали наружу огромные выгоды, которые южане извлекали из своего рабовладения для ведения войны. До тех пор не было слышно, чтобы рабы возмущались против своих господ или противились вступлению в военную службу. И действительно, у невольников не было к тому никакой побудительной причины, пока союзное правительство само провозглашало сохранение всех, касавшихся невольничества законов как всего Союза, так и отдельных штатов. Перемена в этом отношении могла наступить лишь в том случае, если бы Союз обещал известную награду за отпадение от господ. Такою наградой должна была быть свобода. Вследствие того, Линкольн, в качестве верховного распорядителя военными действиями Союза 22-го сентября 1862 года издал декларацию, что с 1 января 1863 года все рабы в области возмущения должны считаться свободными перед законами Союза.
С этого времени исчезновение негров из рядов южан приняло большие размеры, и число их быстро возросло в северных армиях. При таких обстоятельствах требование уничтожения рабства было неизбежным. В конгрессе Линкольн все еще искал компромисса, предлагал заинтересованным штатам денежное вознаграждение, хлопотал о содействии выселению освобожденных рабов в Либерию в обширном размере. Однако, эти предложения не были приняты, а между тем наступил новый период президентских выборов. Хотя как рабовладельцы, так и демократы, из различных побуждений, противились вторичному избранию Линкольна, оно тем не менее состоялось в конце 1864 года подавляющим большинством голосов. А так как за это время в округе Колумбии невольничество было отменено законом, а в Мерилэнде уничтожено добровольно, то правительство, наконец, внесло в конгресс так называемое «13-е дополнение к союзной конституции которое, в силу основного закона, не знающего слова «рабство», отменило его во всей области союза. Через несколько месяцев после принятия конгрессом этого дополнения (31 января 1865 г.) последовало полное подчинение Юга. Победа республиканцев превзошла самые смелые их ожидания и омрачилась лишь тем, что одновременно с нею пал жертвою подлого убийства тот человек, который все время служил им разумным, бесстрастным, но безусловно надежным вождем: Линкольн был убит 14 апреля 1865 г., в конце торжества своего дела.
Смерть Линкольна была крупным несчастьем для всего Союза. Республиканская партия находилась в несомненном кризисе. Та программа, с которою в 1860 году Линкольн принял бразды правления, была, в течение нескольких лет войны, не только дополнена в самом существенном, но ход событий ее обогнал во многом. В решительный момент, когда в объятия партии, после беспримерной победы, устремились все не совсем чистые элементы, которые всегда примыкают к победителю, когда дело доходит до дележа добычи, партия оказывалась не имеющей ни определенной программы, которая ставила бы ей высшие цели, ни вождя, обладающего достаточным авторитетом, чтобы не дать уклониться от прямого пути.
От высшей справедливости и тонкого чувства меры, которыми обладал Линкольн, можно было с уверенностью ожидать, что он проведет восстановление Союза, которое преимущественно должно было заключаться в новом устройстве южных штатов, до конца в том же духе, каким отличалась его политика во время всей войны. Но человек, который, после смерти Линкольна, стал у кормила правления, прежний вице-президент Эндрью Джонсон, далеко не стоял так высоко над воззрениями своей партии, как его предшественник, и не пользовался над нею властью, необходимою, чтобы держать в узде ее бурные радикальные элементы. В республиканской партии получила господство та часть ее, которая, оставляя в стороне все идеальные воззрения, стремилась лишь к тому, чтобы примерным образом отмстить Югу за пять лет междоусобной войны и лишить его всякой возможности играть вновь какую-либо роль во внутренней политической жизни. Джонсон лично вовсе не принадлежал к крайним представителям этих стремлений, но он совершенно не отдавал себе отчета в угрожавшей Союзу с этой стороны опасности и упустил благоприятную минуту избавиться от нее. Впоследствии он мужественно выступил против нее и до конца своего президентства вел тяжелую борьбу, из которой, однако, не мог выйти победителем.
Джонсон, как и республиканцы-радикалы, не считал возможным немедленно возвратить мятежным штатам их место в Союзе, и дарованная им амнистия исключала из нее столь многих, что на радикалов она подействовала возбуждающим образом. Но Джонсон этот закон об амнистии применял на деле так разумно и так настойчиво старался восстановить на юге правильный порядок, что, немедленно вслед за открытием конгресса, между президентом и радикальным большинством завязалась борьба. Джонсон ставил допущение южных штатов в состав Союза на прежних правах лишь в зависимость от принятия ими закона об уничтожении невольничества, соответствующего участия в долгах Союза и признания недействительными займов, сделанных конфедерациею. На этих основаниях некоторые из южных штатов были реорганизованы и даже выслали своих представителей в Вашингтон. Но конгресс кассировал полномочие этих представителей и открыл против умеренной политики президента ожесточенную борьбу, окончившуюся тем, что возвращение южных штатов в состав Союза было обусловлено требованием предоставить неграм совершенную равноправность с белыми. Джонсон напрасно наложил свое президентское «veto» на это неразумное постановление. Он добился лишь того, что сам был предан суду сената, как верховного судилища, которое, впрочем, в конце концов оправдало его. Что касается указанного выше условия, то оно было навязано последовательно всем южным штатам, чем была закреплена полная победа радикальной партии.
Конгресс в своем образе действий вовсе не руководствовался идеальным одушевлением за равенство всех людей. Произведенные на основании организационного плана Джонсона выборы в южных штатах ясно показали, что, несмотря на все военные и экономические поражения, политическое значение Юга и демократической партии не только не угасли, но быстро получили, с водворением спокойствия и правильного порядка, свою прежнюю, нормальную силу в государственной жизни Союза. Это угрожало в близком будущем полным поражением развратившимся в политическом отношении республиканцам, и было именно поводом, побуждавшим последних онять политические права у Юга и поставить его под опеку. Голодные и жадные политики по призванию толпами устремились на Юг. С помощью всяких демагогических ухищрений, им удалось завладеть голосами невежественных негров, и в короткое время политическая и правительственная власть на Юге оказалась в руках подонков республиканской партии, хозяйничавших во всех отраслях управления и общественной жизни и с такой удивительной бессовестностыо распоряжавшихся общественными и союзными имуществами, что банкротство всех южных штатов вскоре стало совершившимся фактом.
Джонстон уже не был президентом, когда одержало победу это движение, получившее кличку «Carpet beggar‘ов», но радикалы ухитрились на его место поставить человека совершенно по своему вкусу. В истории Союза было замечено, что партии, выставлявшие кандидатуру победоносных генералов, ни разу не терпели поражения, а заслуги Гранта, при окончании междоусобной войны, были несомненно очевиднее, чем заслуги всех предшествовавших военных кандидитов. Но, как государственный человек, в особенности как администратор, Грант был, конечно, не менее неспособен, чем Джонсон и другие его предшественники. В 1869 году, Улисс Симпсон Грант вступил в должность президента, в качестве открытого ставленника той партии, которая желала прежде всего пожать плоды победы над Югом, и доиустил не только в южных штатах, но и в управлении всего Союза такое бесстыдное хищничество, что скандальные процессы касались даже лиц, непосредственно окружавших президента. Республиканская партия теперь руководилась принципом, что государство существует только для обогащения господствующей партии. Была введена покровительственная система высоких таможенных пошлин, имевшая повидимому целью лишь удовлетворение значительно усилившихся за время войны финансовых потребностей государства, но на деле служившая тому, чтобы открыть различным коммерческим синдикатам и обществам возможность самых необузданных спекуляций, в которых депутаты и государственные чиновники открыто и бесстыдно обогащались.
Все эти злоупотребления уже в первое президентство Гранта достигли таких размеров, что вызывали во многих местах живое неудовольствие; однако, внутренняя связь республиканской партии была еще настолько сильна, что, при помощи совершенно беспринципных единомышленников, управлявших южными штатами, в 1872 г. вторичное избрание Гранта состоялось без особых усилий. Но в течение этого второго президентства Гранта (1873֪–1877) республиканская партия распалась. В ней составилась, преимущественно из числа американских немцев, которые и раньше играли большую роль (ср. выше, стр. 539) при самом образовании партии, особая фракция так называемых либеральных республиканцев, прежде всего требовавшая честного управления. Влияние ее не было достаточно сильно, чтоб предложить собственного кандидата с какими-либо шансами на успех, но, с другой стороны, и старые республиканцы, и вновь выступившие весьма энергично демократы не могли обойтись без ее голосов, а потому и должны были держаться таких кандидатов на президентство, которые представляли гарантию нравственного очищения правительства.
Со вступлением в должность президента Рутерфорда Бирчарда Гейза 5 марта 1877 г. окончилась революционная эпоха Северо-Американских Штатов. Спекулятивное хищничество, с которым северными радикалами велось управление Югом во время президентства Гранта, было немногим менее противозаконно, чем даже самое восстание южан, и на долго задержало восстановление порядка и спокойствия на Юге. В материальном отношении Союз со времени войны оправился весьма быстро; это обнаружилось блестящим образом в отчетах финансового управления. Но искушения, какие в ближайшее время представлялись нечестным людям, были бесконечно больше прежних. Вследствие высоких таможенных пошлин и увеличенных за время войны внутренних налогов в государственном казначействе образовался постоянно возраставший избыток. Союзный долг, после войны равнявшийся 2800 миллионам долларов, за двадцать лет был наполовину выплачен, а процент остального долга понижен с 6% до 3%. Внутренние налоги могли быть значительно уменьшены, а также сбавлены и таможенные тарифы, – но отказаться от покровительственной системы мешали факторы гораздо более политического, нежели финансового характера. От Гейза принял президентство в 1881 году Джемс Абрагам Гарфильд, от которого ожидали решительных шагов на пути нравственного обновления, но пуля убийцы (2 поля 1881 г.) вновь значительно отодвинула это дело назад. 21-й (по счету) президент Честер Оллэн Арчер (1881–1885) вновь возвратился к политике наживы. Если порядки внутреннего управления в его президентство и стояли несколько выше, нежели при Гранте, то во всяком случае доверие к правительственному возражению было сильно поколеблено. Республиканская партия окончательно утратила свое влияние и власть над умами. Демократы выступили с программой чисто финансовой таможенной политики, честного и бескорыстного управления финансами и полного устранения партийности при назначении административных лиц, и впервые после гражданской войны добились в 1884 году большинства в пользу своего кандидата в президенты Гровера Кливлэнда. Таким образом, между партиями восстановилось прежнее устойчивое равновесие.
С 1884 года демократические и республиканские президенты довольно правильно сменяли друг друга. Такое восстановившееся равновесие партий много способствовало тому, чтобы сделать невозможным повторение явлений, происходивших в течение президентства Гранта. Союз вступил в новый фазис своего развития. Усиление центральной власти, последовавшее за поражением во время гражданской войны приверженцев прав отдельных штатов, не осталось без влияния на весь дух американской политики. Внимание правительства все еще главнейшим образом устремляется на внутренние дела Союза, и они являются настолько крупными и своеобразными, что вполне оправдывают такое внимание. Во многих отношениях преувеличенное покровительство республиканской таможенной политике повлекло за собою такое развитие сев.-американской промышленности, которое ставит Соединенные Штаты в этом отношении едва ли не во главе всех наций в мире. Ни в одной стране так быстро и в таком обширном масштабе не применяются все новейшие технические изобретения и усовершенствования, как в Америке. Пар и электричество господствуют не только в собственно фабрично-заводской промышленности, но применяются и к земледелию. Почти неистощимые естественные богатства страны разрабатываются с железной энергией, и нигде борьба за существование не обострилась так сильно, как в Соединенных Штатах. Духовные стороны человеческой природы при этом, разумеется, сильно страдают. Несмотря на страсть к роскоши и блеску, порожденную почти сказочными богатствами американской «денежной аристократии», изящные искусства не нашли для себя истинной почвы в Союзе, развитие науки, ради которого делаются, с какой-то не совсем симпатичною хвастливостью, огромные затраты, не достигло того же уровня, как в Старом Свете, за исключением тех отраслей ее, которые преимущественно служат практическим целям. Воспитание мужской половины юношества, односторонне направленное в сторону, способствующую приобретению заработка, понижает общее развитие его. Это отразилось в замечательной степени в социальных отношениях.
Северо-американцы унаследовали от своих предков англичан особое положение, предоставляемое женскому полу, но социальные условия Америки придали этому положению своеобразное развитие. Американская женщина в материальном отношении более независима, чем где-либо, но именно поэтому ей более, нежели женщинам других стран, недоставало поля деятельности. Оставаясь в стороне от борьбы за существование и добывание средств, американская женщина могла сделать для своего образования более, чем мужская молодежь страны: отсюда возникло замечательное явление, что вообще женщина в Америке стоит умственно выше мужчины. При таком положении женщина не могла долго и прочно ограничиться в своей деятельности теми предметами, которые оставлялись мужчинами в пренебрежении, т. е. литературой, искусством и наукой. Естественно женщина, сознавая себя равносильной мужчине, если не стоящей выше его, стала стремиться получить участие и в трудах, и в правах мужчин. Таким образом, в американском обществе и в жизни эмансипационное женское движение обнаружилось раньше, нежели где-либо.
Но американская женщина не остановилась на этом. Чем более она фактически выступала равноправной сотрудницей мужчины, тем более она стремилась к равному с ним положению в новых и новых областях. Социальные условия, все сильнее и сильнее выдвигавшие на первый план материальную сторону жизни, повели к ограничению браков или скорее к установлению такой формы брака, в которой женщина не столько становилась хранительницею домашнего очага, сколько сотрудницей мужа: таким образом, ей открывалось само собою множество профессий. Вследствие ее большого образования, она получала возможность занимать те или другие должности, сначала общинные, а затем и государственные. Так возник особый класс живущих своим заработком женщин, которые, не без основания, заявили требование, чтобы и их голос принимался во внимание в общественных делах, как и голос мужчин. Своеобразность американской конституции, предоставляющей право избрания вполне на волю отдельных штатов, значительно облегчила женщинам достижения успеха в этом отношении. Уже в 1886 г. в штате Вермонте они получили активные избирательные права, и пример этот с тех пор встретил самое широкое подражание. В настоящее время женщины пользуются почти во всех штатах Союза политическою равноправностью с мужчинами по всем вопросам жизни штатов. Однако, ожидание, что это будет иметь последствием совершенное изменение политической жизни, подтвердилось в Америке так же мало, как и в Австралии, и вряд ли можно сомневаться, что и в Америке эмансипационное движение постепенно пойдет на убыль. Оно будет иметь то благотворное действие, что сделает более полным уравнение прав полов между собою, более подготовленное образованием в Америке, чем в большинстве других стран; но американские общественные условия вряд ли изменят тот факт, что женщина, в конце концов, вступлением во все области экономического заработка скорее может проиграть, чем выиграть.
Достигнут ли когда-нибудь Соединенные Штаты полного оздоровления своих экономических отношений – трудно предвидеть. Опасность социализма, доставляющая там много работы правительствам Старого Света, не оказывалось таковою же в Америке. Ей противодействовали сглажение всех сословных границ, республиканское равенство всех граждан и не уничтоженная до последнего времени возможность путем умелости и энергии подняться в самое короткое время из самых скромных условий в ряды всемогущих денежных тузов. Но возможность эта естественно уменьшается вместе с увеличением плотности населения (см. таблицу «Три ступени роста Сан-Франциско»). Хотя по отношению к пространственному расширению в Соединенных Штатах еще не может быть речи о перенаселении, но они давно уже вышли из того состояния, когда в каждой паре сильных рук видели желанный прирост национального богатства. В Союзе есть теперь свой безработный пролетариат, как и во всяком другом государстве.
Отражение этих условий на вопросе об иммиграции обнаружилось уже давно. За периодом от 1830 до 1880 года, когда Америка всеми силами способствовала приливу иноземных переселенцев и особенно благоприятно относилась ко мпогим миллионам переселившихся в нее немцев, наступил другой период, когда эта страна начала замыкаться от посторонних элементов. Прежде всего это движение совершенно справедливо обратилось против китайцев. Негры и индейцы в Соединенных Штатах составляют уже два чуждых элемента населения, переработка и поглощение которых ставили государству трудные и дорого стоившие задачи. Поэтому оно основательно не хотело себя обременять другим, совершенно чуждым по своей своеобразности и не поддающимся ассимиляции посторонним телом. Но Союз начинает замыкаться и от европейской иммиграции. Понятным образом, оно не прибегает для этого к способу know nothings (см. выше, стр. 539), затруднявшему приобретение гражданских прав. В настоящее время, когда социальные условия уже не таковы, что одной физической силы может быть достаточно для обеспечения существования, оно прежде всего ограждает себя от таких людей, которые по их физическому и умственному складу позволяют предположить, что они не могут служить на пользу стране, а скорее будут ей в тягость.
В Соединенных Штатах еще более, чем в других республиках, республиканское равенство всех граждан представляет несбывшуюся мечту. Сила денег и роковое влияние их на государственную власть, несмотря на все стремления к реформам, все еще представляют одну из самих серьезных опасностей для республики. Ни в одной стране капитал не обладает таким могуществом, как в Соединенных Штатах. Его трестами и домогательствам не один раз удавалось создавать монополию не только для Нового Света, но угрожать ею и Старому Свету. Ни таможенная, ни финансовая политика Союза не свободны от упрека в злоупотреблениях ради деловых целей больших торговых синдикатов. Как симптом, наводящий на размышление, можно указать способ, каким Америка, в интересах небольшого числа богатых владельцев серебряных рудников, давно уже противится признанию изменившихся ценностей благородных металлов и вытекающей отсюда необходимости золотой валюты.
Однако, этой стране нельзя отказать в могучей способности развития громадных естественных богатств. Усиливающееся сознание ее повело к тому, что Соединенные Штаты в конце XIX века начали придерживаться совершенно иной иностранной политики. Может показаться, что политика, какой следовали Монрое (см. выше, стр. 486 и 510) в 1825 г., и теперь еще руководит американскими государственными людьми. Но дух, придаваемый декларациям Монрое, совершенно иной, чем тот, какой был во время их появления. Монрое высказал тогда, что Соединенные Штаты должны принять для себя основным положением невмешательство в дела других наций. Поэтому он отклонил поддержку провинций Южной Америки, когда они восстали против Испании; по той же причине он воспротивился посылке депутатов на панамериканский конгресс, созванный Боливаром в Панаме. Заявление, что вмешательство европейской державы с целью восстановления испанского владычества в Средней и Южной Америке будет принято за враждебное действие против Соединенных Штатов, было обращено, в связи с английской политикой, преимущественно против Священного союза, который, при поддержке России, хотел вступиться за Фердинанда VII. Союз не один раз относился к попыткам испанцев вновь завоевать свои колонии только как к внутренним делам провинций, до которых это касалось.
Проявление доктрины Монрое в дипломатической сфере обнаружилось, когда предпринято было прорытие Панамского канала. Северо-американцы давно уже старались подчинить своему контролю экономические условия перешейка и были возмущены тем, что это предприятие готовилось осуществиться без их содействия. Впрочем, они, вероятно, были лучше осведомлены об его шансах, чем Европа, обманутая биржевыми отчетами. Во всяком случае, они занимались без перерыва планом канала через Никарагуа; но обе линии не могли развиваться, конкурируя между собой. В настоящее время только последний проект имеет шансы на осуществление, в особенности потому, что союзное правительство готово ассигновать на него значительные средства.
Соединенные Штаты пытались и другим путем утвердиться в южных соседних провинциях. Когда Юкатан в 1848 г. был еще раз отторгнут от мексиканской республики, но сам не мог справиться с постоянно возмущавшимися индейцами, он обратился за помощью к Соединенным Штатам и предложил за это признать их верховную власть. Но предложение его было отвергнуто. В половине пятидесятых годов обсуждался затем план присоединения Никарагуа. Интересы северо-американских торговых обществ неоднократно вызывали там оживленные дипломатические переговоры; в конце концов, искатель приключений из Тенесси, Уильям Уокер попал в тамошние президенты. На него косо смотрели все местные уроженцы, и ему приходилось искать поддержки в своем отечестве; действительно, соотечественники его с Запада неоднократно поддерживали в нем надежду, что его приключения окончатся принятием Никарагуа в Союз. Но и тогда цель не была достигнута. Расширение союзной области было в третий раз заявлено Грантом в 1870 г. В республике Сан-Доминго, в восточной части острова, большая партия, в руках которой находилась президентская власть, добивалась присоединения к Соединенным Штатам. Уже в 1866 г. депутации направлялись в ту и другую сторону, но договор о присоединении состоялся лишь тогда, когда Грант принял живой интерес в этом деле. Но между тем, как народное голосование в Сан-Доминго дало обеспеченное большинство в пользу его, в Соединенных Штатах народное представительство держалось уклончивого положения; три раза Грант представлял план конгрессу и три раза должен был брать его назад, в виду обнаружившегося сопротивления.
Все эти неудачи имели одну общую причину. В Соединенных Штатах весьма распространено было воззрение, что область Союза достигла того расширения, какое нужно было государству для его развития, и что приобретение областей, лежащих вне уже замкнутых границ его, могло быть только опасно для Союза. Дальше этих взглядов первоначальной доктрины Монрое Соединенные Штаты пошли в последнем десятилетии XIX века, лишь благодаря своему экономическому развитию. Необычайный подъем промышленности привел к тому, что Союз не только вполне удовлетворяет своим собственным потребностям, но производит гораздо более того и должен искать чужеземных рынков. Взоры его при этом обращались, прежде всего, на другие государства Америки, которые, при своем меньшем экономическом развитии, все еще зависели в промышленном отношении от Европы. При этой комбинации было выработано новое, существенно дополненное издание доктрины Монрое. Как некогда на политическом, так теперь на экономическом поприще желательно было вытеснить европейские державы с Американского материка и сохранить «Америку для американцев».
С этою целью Соединенные штаты стремились создать более тесное сближение всех американских республик. Столетний юбилей независимости (4-го июля 1876 года) впервые возродил идею панамериканского союза, а 400-летний юбилей открытия (12-го октября 1892 года) способствовал ее дальнейшему развитию. На всемирной выставке в Чикаго (1893) многочисленные нити были скреплены между собой, и в виде Bureau of American Republics было создано панамериканское учреждение.
Однако, плодами его нельзя было воспользоваться непосредственно сообразно требованиям рабочего рынка. Для Соединенных Штатов так же, как и для стран Старого Света, оказывалась настоятельно необходимой политика покровительства национального труда. Охранительные пошлины существовали в Союзе уже давно. Но до тех пор отчасти они служили средством держать в порядке финансовое хозяйство всего государства, отчасти располагать постоянно возрастающей промышленностью. Только тарифы 1890 года, связанные с именем Мак-Кинлея, обозначают поворот в таможенной политике Союза; они должны были устранить иноземную конкуренцию и придать собственной промышленности возможность конкурировать на иностранных рынках. Это было оценено большинством граждан Союза: на выборах 1896 г. Уильям Мак-Кинлей избран в президенты на 1897–1901 год.
Но уже первый год этого президентства показал, что поворот в политике Союза не ограничивается экономической областью. Повторявшиеся восстания против испанского владычества на Кубе постоянно поддерживали в американцах стремление приобрести этот остров, ценный по своему географическому положению. Их отношение к восставшим всегда держалось у границ, допускаемым международным правом. Испания, в остатках своих некогда богатых колониальных владений, терпела бесстыдно дурное управление. Самые справедливые требования колоний частью оставались без внимания, частью успокаивались пустыми обещаниями; испанское правительство позволяло губернаторам обогащаться с помощью вымогательств, и государство извлекало лишь незначительные выгоды из своих колоний. Восстание на Кубе произошло уже в 1868 году, и испанцам стоило много крови и денег, прежде, чем им, после десятилетней борьбы, удалось привести остров к повиновению обещанием реформ. Когда эти последние остались невыполненными, произошло новое возмущение в 1896 году. В то время в дело вмешались Соединенные Штаты. Ни для кого не было тайной, что восставшие постоянно получали оттуда деньги и оружие. Испания, сознавая свою слабость, ограничилась одними дипломатическими протестами. Это придало больше смелости американскому правительству. Прежде всего, оно потребовало в «интересах человечности» прекращения военного положения на Кубе. Под этим давлением Испания должна была решиться предоставить острову самоуправление. Но это не удовлетворило ни возмутившихся, ни американцев. Последние ставили в самой резкой форме все новые и новые требования и, наконец, воспользовались замедлением в ответе на них, чтобы 28-го апреля 1898 года объявить войну Испании.
Если Соединенные Штаты не имели ни сухопутного войска, ни военного флота, которые могли бы равняться тому и другому в Испании, то они превосходили эту страну в сто раз средствами создать себе армию и флот. Кроме того, естественный театр войны лежал у их дверей. Дурное управление испанцев простиралось столько же на их родину, сколько на их колонии; оно оказывалось совершенно не в силах доставлять своевременно нужные подкрепления на театр войны. Когда испанские корабли приняли, наконец, участие в войне, они, вследствие несовершенства своего снаряжения, потерпели жалкое поражение от американских кораблей, которые лишь несколько недель тому назад превращены были в военные суда, но за то были снабжены всеми новейшими средствами борьбы. После уничтожения испанского флота перед Сант-Яго, островное население не только Кубы, но и Пуэрторико перешло на сторону американцев. Испания вынуждена была купить мир на тяжелых условиях: она должна была признать независимость Кубы, которая могла быть лишь переходом к полному присоединению к Соединенным Штатам, и непосредственно уступить им Пуэрторико.
Но и этим внезапно пробудившаяся в Союзе жажда новых земель не была удовлетворена. Уже многие годы обращал он свое внимание на самый дальний запад, в развитии которого, вследствие взаимного положения берегов по обеим сторонам Тихого океана, он обнаруживал более интереса, чем страны Старого Света. В 1877 г. Союз должен был отказаться от Самоа, в виду почти общей коалиции европейских колониальных держав. Но форма, в какой в 1897 г. он сумел осуществить присоединение Гавайи, доказывает, что он упорно преследует цель прочно укрепиться в Тихом океане. И здесь испанская война оказала пользу стремлениям союзной политики. При заключении мира 10-го декабря 1898 года, Америка выторговала у испанцев и Филиппинские острова.
Как отразятся эти поразительные перемены на будущности Соединенных Штатов, теперь предвидеть еще нельзя. Приобретения служат ярким выражением потребности к расширению их экономической территории. В переворотах, к каким повела китайско-японская война в 1894 году в восточной Азии, Америка впервые должна вступить в открытую конкуренцию с европейскими странами, ведущими вывозную торговлю. Благодаря событиям испанской войны, это происходит для нее при крайне благоприятных условиях. Но колонии подготовляют Союзу еще многие затруднения; в пределах нынешней конституции, которая почти не дает возможности принять меры к созданию учреждений для охраны колоний извне и для их внутреннего спокойствия, для них вовсе не оказывается места. Могут ли быть созданы все эти изменения без потрясения старого здания – покажет будущее. Во всяком случае, Соединенные Штаты в 1898 г. совершенно порвали с принципами своего прошлого. Они не только выступают в качестве нового члена мировой политики, но и сами для себя представляют нечто новое.
