Основание веры. Опыт русского православного миссионера из Америки
Посвящается Ксении.
Содержание
Предисловие Основания веры? Итак, разумное основание? А как же все иные мировоззрения? Зачем я живу? А иные религии? Бог в авраамических религиях Так ведь это когда было-то? Другие древние документы? Количество сохранившихся копий древних текстов Параллельные места в Евангелиях Как быть с апокрифами? Где вещественные доказательства? В Ветхом Завете? В Новом Завете? Христос – Бог? Или – не Бог? Религиозные предрассудки? На веру? Лично, свободно, ответственно и осведомлённо? Доказательство 1-е (Фома Аквинский, классическое): движение Доказательство 2-е (Фома Аквинский, классическое): причинно-следственное Доказательство 3-е (Фома Аквинский, классическое): независимое бытие Доказательство 4-е (Фома Аквинский, классическое): совершенство Доказательство 5-е (Фома Аквинский, классическое): телеологическое Доказательство 6-е (Иммануил Кант): нравственное Доказательство 7-е (Августин, Кальвин): врождённая идея Доказательство 8-е (Апостол Павел): мистическое Доказательство 9-е (Августин): истина Доказательство 10-е (Ансельм): онтологическое Доказательство 11-е (Аристотель): от конечности Доказательство 12-е (Августин): от безутешности Доказательство 13-е (Беркли): от восприятия Доказательство 14-е: экзистенциальное Доказательство 15-е: чудесное Доказательство 16-е: интеллектуальное Доказательство 17-е (К.С. Льюис): от объекта Доказательство 18-е (о. Павел Флоренский): эстетическое Доказательство 19-е: религиозное Доказательство 20-е (Секст Эмпирик): общественное Доказательство 21-е: ставка Паскаля Доказательство 22-е: научно-историческое Доказательство 23-е: сотериологическое Доказательство 24-е: личная встреча Доказательство 25-е (Перри Маршал): кибернетическое Доказательство 26-е: информационная матрица Доказательство 27-е (Вольтер): образованность Доказательство 28-е (С.Л. Франк): субъектное Доказательство 29-е (Венедикт Ерофеев): от икоты Доказательство 30-е (Р. Клаузиус): термодинамика Доказательство 31-е (Майкл. Дж. Бихи): креационистское Доказательство 32-е: от гениальности Доказательство 33-е: от святости Доказательство 34-е: гуманистическое Доказательство 35-е (Дж. Тур): нанобиологическое Доказательство 36-е (Калям): от бесконечности Доказательство 37-е: от личного доверия Доказательство 38-е: от сакрального текста Доказательство 39-е: модальная логика Доказательство 40-е: от красоты природы Доказательство 41-е: от мучеников Доказательство 42-е: антропный принцип Доказательство 43-е: кумулятивное Доказательство 44-е (Д. Кларк): от атеизма Доказательство 45-е: политическое Доказательство 46-е: прагматическое Доказательство 47-е (М.А. Булгаков): творческое Доказательство 48-е: церковное Доказательство 49-е: терапевтическое Доказательство 50-е, предрассудочное: от магии Доказательство 51-е (Тертуллиан): от абсурдности Доказательство 52-е: астрономическое Доказательство 53-е: за неимением лучшего Доказательство 54-е: пророческое Доказательство 55-е: молитвенное Доказательство 56-е (Ч. Колсон): теория заговора Доказательство 57-е: от случайности Доказательство 58-е: квантовое Доказательство 59-е: от свободы воли Доказательство 60-е: сверхъестественные законы природы Доказательство 61-е: промыслительное Доказательство 62-е: палеонтологическое Доказательство 63-е: детское Доказательство 64-е: юридическое Доказательство 65-е: от Туринской плащаницы Доказательство 66-е (Дионисий Ареопагит): апофатическое Доказательство 67-е: Христос Воскрес! Доказательство 68-е: любовь Доказательство 69-е: лингвистическое Доказательство 70-е: нигилистическое Доказательство 71-е: агностическое Доказательство 72-е: от недоказуемости Доказательство 73-е: от очевидности Доказательство 74-е (М. Эпштейн): от субъектности Доказательство 75-е (М. Эпштейн): технотеистическое Доказательство 76-е (М. Бубер): от 2-го лица Доказательство 77-е (Палама): от божественного света: Доказательство 78-е: от сновидений Доказательство 79-е (Клайв Льюис): от раскаяния Доказательство 80-е (Лейбниц): теодицея Доказательство 81-е (Ириней Лионский): теозис
Предисловие
У вас в руках – две книги. Одну из них, вышедшую дважды в 2020 и в 2021 годах в серии «Пасхальная весть», развезли по храмам в канун этого Праздника Праздников для бесплатной раздачи в самую Пасхальную ночь в качестве подарка всем тем, кто и в церкви-то бывает всего раз-два в году. Для этого её пришлось облегчить на весь справочно-ссылочный аппарат, а её содержание и объём сократить почти вдвое. Данное издание представляет из себя полный текст задуманной автором и вдохновлённой побуждениями друзей книги, кроме того, пересмотренный, обновлённый и снабжённый ссылками и сносками на печатные и сетевые источники. В этой «большой» книге, помимо собственно апологетического материала, собрана и осмыслена часть того духовно-просветительского и миссионерского1 труда, которому автор посвятил около тридцати лет жизни (эта часть текста выделена отступом и ***). Все события, упомянутые в книге, происходили на самом деле с совершенно реальными людьми. Графические материалы используются с любезного позволения издательства «Никея».
С Богом!
* * *
У неё было совершенно ангельское личико, с чуть косящими глазами, как их рисуют на русских средневековых иконах, но крылышко у неё было только одно, и не за спиной, а на лацкане небесного цвета PanAm’овской униформы. И, как и подобает ангелу, первыми её словами были: «Do not be affraid!», то есть, «Не бойтесь!». Не знаю, что именно на меня подействовало – её ли уверенный голос или, что вероятнее, осознанный мною вдруг и уже навсегда особый, профетический смысл некоторых легко произносимых слов и летучих впечатлений – но только в ответ я обречённо протянул ей руку с зажатым в ней ворохом документов и бланков. Единственное, что в ответ ей смог сформировать мой присохший к нёбу язык, было «Ай эм сорри» с каким-то неприличным чмоком посредине и неуместным ударением на втором слоге.
Так уж получилось, что ещё в самолёте, на протяжении всего бесконечно длившегося рейса от Москвы до Нью-Йорка, с двумя удвоившими эту бесконечность посадками в Ирландии и Ньюфаундленде, наша двухсполовинойгодовалая дочь совершенно очаровала своим херувимским ликом и совершенно загоняла эту самую бортпроводницу удовлетворением своих вполне земных, но совершенно непререкаемых нужд и требований. И вот, наконец, мы уже никуда не летим, а, наоборот, едва стоим на нетвёрдых от долгого бездействия ногах в очереди за получением магической штампульки в наших паспортах, необходимой для превращения нас из просто авиапассажиров в самых настоящих, полнокровных и полноправных временных жителей Нового Света. Что-то, однако, в этой магии не сработало, и чудо категорически отказывалось совершиться: внимательный до недружелюбия офицер паспортного контроля непременно желал знать, по какому адресу будет проживать семья студента-иностранца во время его обучения в Джорданвильской Духовной Семинарии. Но ни на одном документе, включая официальное письмо о принятии меня на учёбу на бланке этого уважаемого учебного заведения, ничего, кроме номера почтового ящика, указано не было. Развеять недружелюбие офицера кратким экскурсом в историю русского православия, согласно которой семинарии обыкновенно основывались при монастырях, а монастыри строились там, где не токмо что улиц и домов, а и дорог-то зачастую не бывало, мне, при всём моём старании, не удалось. Не интересовался офицер историей русской монастырской традиции и с тем же профессиональным несочувствием подозвал к окошечку следующего из очереди.
Вот тут-то я и возопил к небесам о помощи! Ну откуда ещё я ему вот прямо тут, между сходнями самолёта и жёлтой чертой, прочерченной на ковре, произведу полный почтовый адрес Джорданвильского монастыря, живописно раскинувшего свои немалые владения посреди кукурузных полей, всхолмий и перелесков северо-западной округи славного штата Нью-Йорк?! Первый ответ на это безмолвное вопрошание пришёл практически мгновенно: Ростропович! Его имение Галино, помнилось мне, граничит с монастырским. Конечно, можно было бы попытаться тут же раздобыть «Жёлтые страницы» (телефонную книгу) штата Нью-Йорк и по ним как-нибудь разыскать адрес усадьбы великого музыканта. Заодно, мельком подумалось мне, будет и повод познакомиться. Впрочем, это только на бумаге подобные мысли занимают уйму места, а в моём усталом мозгу, вся эта мысль, включая её категорическое отвержение, не заняла и долее того мгновения, которое требуется ангелу для взмаха его чудесного крыла.
Вот в это именно мгновение отчаянный взгляд мой, проделав дугу от растерянных лиц моей жены и дочки – горѐ и вновь долу – пересёкся с сияющей искринкой во взоре уже знакомого нам небесного существа, вместе с остальными членами экипажа направлявшегося к тем особым вратам в непреступной твердыне паспортного контроля, куда простому смертному ход заказан. Нет, я не кинулся им вдогонку и не огласил замершую, как мне казалось, в ожидании небольшого, но шумного скандала залу воплем о помощи. Всего этого и не потребовалось, ибо, отделившись от стаи, наш ангел вдруг оказался прямо перед нами во всей своей неброской красе и мощи, наводившей, помнится, ужас равно и на ветхозаветных царей, и на Вифлеемских пастухов. Видимо, мы тоже не производили впечатление особенных храбрецов, чему послужило запоздалым подтверждением то сакраментальное «Не бойтесь!», от которого не только у царей и пастухов, но, как оказалось, и у простых авиапассажиров подкашиваются ноги. Проведя уже, наверное, в пятисотый раз за последние двенадцать часов своими лёгкими, как сон, перстами по дочкиным кудряшкам и, похоже, абсолютно не слушая моих ламентаций на том изощрённом английском, на котором говаривают только что сошедшие с борта самолёта Москва − Нью-Йорк бывшие выпускники советских спецшкол, она одним движением скопировала в зияющую графу «адрес проживания» первую попавшуюся надпись на первом попавшемся конверте, выдернутом ею из вороха моих документов. Вот так, спустя, впрочем, несколько лет, ушедших на попытки устроить свою жизнь согласно нашим собственным замыслам и представлениям, мы, в конце концов, и оказались именно в Сент-Поле, штат Миннесота.
Там я закончил магистратуру по богословию, там родился наш младший сын, оттуда я теперь и прилетаю в Москву уже в качестве миссионера – русского православного миссионера из Америки. Через каждые шесть недель подготовки и планирования в Миннесоте я на три недели прибываю на историческую родину и занимаюсь тем, что называется духовно-просветительской деятельностью. А именно, веду уроки в школах, читаю лекции в университетах и семинариях, провожу презентации в церквях и открытых аудиториях (библиотеках, домах культуры и т.д.) на самые различные темы – богословские, педагогические, культурологические. При этом самым востребованным, в какой бы уголок страны или сопредельных русскоязычных территорий я ни направлял свои стопы, неизменно остаётся семинар на тему «Разумное, научно-историческое основание христианской веры», посвящённый свидетельству исторических наук – археологии, текстологии, палеографии и т.д. – лежащему в основании христианской веры.
Основания веры?
Но, разве может быть разумное основание веры в Бога? Должно ли оно быть? А, с другой стороны, не является ли разумное основание веры показателем как раз её отсутствия или ущербности? И не вредит ли вере в Бога стремление найти ей рациональное и научное обоснование? И даже – не предаём ли мы веру наших дедов, вполне, кажется, обходившихся без какой-либо научной аргументации? Мне приходится слышать немало таких и подобных им вопросов, как только речь заходит о вере в наш просвещённый и просветлённый век – век разума.
Так ведь, и в самом деле, люди приходят к вере и живут с Богом, руководствуясь отнюдь не всегда и отнюдь не только доводами строгого научного знания, так что и основания веры у разных людей могут быть очень разными. Почти у каждого найдутся, например, глубоко личные основания, то есть те, которые касаются только его одного, его совершенно уникальных и порой интимных, никого более не касающихся обстоятельств, переживаний и опыта. Лёгкое, едва заметное, почти паническое выражение подчас пробегает по лицу человека, когда его спрашивают о, казалось бы, самом простом и уже, наверное, не раз и тщательно обдуманном: «Как вы уверовали в Бога?» Для многих, оказывается, этот вопрос связан с настолько личным и настолько сокровенным опытом, что и простой этот вопрос воспринимается ими как нечто навязчивое и почти неприличное со стороны малознакомых людей и, тем более, если он задан публично. Может быть, это связано с тем, что неотъемлемой частью такого опыта является глубокое сердечное покаяние, навсегда остающееся тайной личных взаимоотношений между человеком и Богом.
Для кого-то часть этого личного опыта оказалась совершенно мистической, и настоящее чудо, происшедшее в жизни человека – живая встреча с живым Богом – легло в основание веры в Него. Этим чудом, однако, поделиться тоже оказывается довольно трудно ввиду самой природы чуда, которое, во-первых, также бывает глубоко личным переживанием, и, во-вторых, едва ли во всей его полноте поддаётся описанию и выражению человеческим словом. Тут требуется либо особый поэтический талант, либо – надежда на способность в слушающем найти ту необыкновенную восприимчивость к чуду, которая бы позволила за, может быть, вполне обыденным или, наоборот, совершенно невероятным событием увидеть признаки мистического присутствия, пережитого верующим. Один мой знакомый свою встречу с Богом описывает именно так: «Будучи в очередной командировке в незнакомом городе, возвращаюсь я однажды в номер своей гостиницы, а там – Христос». И, сколько бы я ни расспрашивал его о подробностях этой встречи, каких бы я ни требовал от него свидетельств и доказательств того, что это был точно Христос, мой знакомый (в настоящее время – иеромонах), продолжает уверять меня: в гостинице был Христос, и, если бы я оказался там, то и у меня в этом не было бы никаких сомнений.
Чудо, впрочем, может происходить и не столь драматично. Например, в моей жизни произошла целая череда крайне маловероятных событий, каждое из которых при известном усилии и богатстве воображения можно было бы назвать случайностью и редким совпадением, но которые неизменно приводили меня к осознанию участия в моей судьбе некоей могущественной и доброжелательной Силы, наиболее полное и непротиворечивое объяснение и описание которой я находил в Евангелии и учении Церкви.
Восприимчивость к чуду, вмешательству Божественного в обыденное, к сожалению, многими людьми теряется с возрастом и жизненным опытом. Четвероклассники, для которых мне иногда доводится проводить открытые уроки по «Основам православной культуры», не перестают радовать меня как раз этой своей способностью к живому и непосредственному восприятию мистического. Один может в красках описывать недавно происшедшее с ним чудо, другой тут же последовательно и толково объясняет, почему и как это чудо произошло, но ни для того, ни для другого оно от этого не перестаёт быть чудом – свидетельством неисчерпаемости бытия его видимым и осязаемым аспектом.
Кто-то приходит к вере на основании философских размышлений и умозаключений. Изучив и сравнив различные философские и религиозно-философские системы, такой человек приходит к выводу о том, что одна из них обладает наибольшей объяснительной силой, то есть способностью внутренне непротиворечиво описать наибольшее количество явлений, фактов и процессов, известных науке при наименьшем числе исходных аксиом и допущений. Известно, например, что многие американцы, не имеющие в своих родословных никаких славянских, греческих или других традиционно ассоциирующихся с православием корней, принимают его в последние десятилетия именно так: во вполне взрослом и зрелом возрасте, обратившись от по преимуществу кино- и телевизионной современной американской культуры к чтению книжек, они буквально «дочитываются до православия» (read themselves into Orthodoxy). Иначе говоря, для этого вовсе не обязательно быть профессиональным философом, хотя строгость и логичность в ходе размышлений над жизненными наблюдениями и знакомство с уже накопленным опытом человечества в осмыслении бытия, безусловно, помогает человеку выработать или обнаружить ту мировоззренческую позицию, с которой он оказывается в состоянии ответить на самые свои важные и основополагающие вопросы: 1) происхождения (как я появился на свет?), 2) предназначения (зачем я живу?) и 3) сущности (как я должен жить?) жизни. Многие приходят к вере в Бога на основании того религиозно-философского учения, которое позволяет им осмыслить своё прошлое, настоящее и будущее наиболее полным и удовлетворяющим требованиям логики и здравого смысла образом. Бывает, правда, и как раз наоборот, когда именно подробное и многостороннее знакомство с долгим и зачастую мучительным путём духовных исканий человечества становится камнем преткновения на собственном пути человека к Богу. «Религиоведческие факультеты, на самом деле, готовят высококвалифицированных профессиональных атеистов», – этим, как некоей тайной, доступной лишь узкому кругу посвящённых, поделился со мною однажды выпускник одного из таких факультетов. И, действительно, как ни разувериться в Боге, рассмотрев и проанализировав одну за другой все известные человечеству богословские доктрины, последовательно выявляя и доказывая себе при этом неизменную слабость или даже ошибочность каждой из них!
В духовных учебных заведениях, кроме философского, изучается также собственно богословское основание веры – корпус накопленного и систематизированного знания и опыта взаимоотношений Бога и человека в истории. Едва ли множество людей приходило к Богу на этом основании, но для огромного большинства вступивших на путь веры оно оказывается совершенно необходимым для роста, углубления и обогащения своей духовной жизни и, конечно, для более эффективного несения того служения, к которому призван каждый верующий, и известного как «великое поручение» (Мф. 28:19–20). Некоторые разделы богословия и содержащийся в них опыт Богообщения и Богооткровения каждая христианская конфессия выделяет в качестве наиболее важных и даже основополагающих. Так, например, баптисты получили своё название по тому особому значению в своём богословии, которое они приписывают крещению (греч. βυθίζω – погружать в воду, топить; старосл. креститися – тонуть, умываться), а, например, адвентисты особенно подчёркивают исполнение, по некоторым подсчётам, до 450 предсказаний ветхозаветных пророков, живших и писавших за столетия до земной жизни Христа, осуществившихся в истории Его, по обыденным понятиям, довольно короткой жизни среди людей. Это профетическое основание многих привело к вере в Бога, ибо как же иначе можно объяснить себе такое статистически значимое число, не говоря уже о содержательной части этих «совпадений»!2
С другой стороны, и, как это ни покажется странным, довольно часто встречаются люди, вполне и глубоко знакомые и с христианским богословием, и с многочисленными свидетельствами истинности христианской веры, но во Христа не верующие. Бывает, что человек изучает богословие3 в духовном учебном заведении или на религиоведческом факультете университета, но встреча с Богом в его жизни ещё долго или даже вовсе никогда так и не происходит. Среди моих ближайших друзей есть люди, которым я свидетельствую о Христе уже многие годы и с которыми мы ведём долгие и вполне богословские по содержанию диспуты, так что о Нём они на настоящий момент знают, наверное, не хуже второкурсника (и, пожалуй, второгодника) духовного училища или даже семинарии. Однако какого-то иного основания им недостаёт, чтобы согласиться с истинностью моих доводов.
Таким основанием может оказаться культура, в которой родился и вырос человек. Вот водили бы его сызмальства за ручку в церковь, да впитай он, что называется, с молоком матери и красоту, и богатство, и глубину христианского богослужения, то, может, это одно уже стало бы достаточным основанием для выстраивания им своих отношений с Богом. Вероятно, таким путём приходило к вере огромное большинство наших дедов-прадедов, живших в окружении по преимуществу православной образности, обрядовости и уклада, служившем культурным основанием их веры по мере их взросления дополнявшимся и обогащавшимся другими. Ввиду известных исторических событий в нашей стране этот уклад был нарушен, да и практически разрушен тремя поколениями массированного богоборчества, когда ребёнка не просто не водили в церковь и не приобщали к церковной культуре, но настойчиво и последовательно хулили при нём всё церковное и религиозное. Не мудрено поэтому, что и изживать последствия столь длительного и столь масштабного ущерба, нанесённого религиозному сознанию и религиозной культуре целого народа, приходится с немалыми усилием и усердием, запасшись великой долей терпения. Несколько лет назад в школах России была введена новая дисциплина «Основы религиозной культуры и светской этики»4, призванная хоть отчасти компенсировать нанесённый урон, но ждать даже от этого важного и значительного шага сколько-нибудь заметных результатов уже в настоящем поколении учащихся было бы, конечно, наивно. Современная культура – язык, искусство, семейные и народные традиции – ещё сохраняют великое множество образов и символов, за которыми угадываются христианские ценности и смыслы, но для их раскрытия от современного человека уже требуется целенаправленное усилие, а также немалое время для его практического усвоения.
* * *
У меня самого это заняло почти три десятка лет, и это при том, что вырос я в семье и окружении людей, основательно знавших и высоко чтящих православную культуру, историю и традицию. Да и фамилия у меня, почти как в классицистических пьесах, – «значимая».
В дореволюционной России только что закончившим духовную семинарию, принимающим священнический сан и отправляющимся на свой первый приход молодым людям позволялось, если их собственная фамилия была… неблагозвучна, принимать новую – по названию своего первого прихода. Видимо, и кого-то из моих далёких предков по отцовской линии когда-то определили священником в церковь Воскресения Христова. Мне же самому она доставляла в детстве немало самых тяжких испытаний и переживаний. Учась в школе, обычной советской школе, я, помнится, ужасно стеснялся своей фамилии – так легко было с ней стать предметом насмешек и поддразнивания, а, поскольку в школьные годы я был хлюпиком, то не шпынял меня только ленивый. Перейдя, кажется, в четвёртом классе в новую школу, я был тут же «награждён» обидным и унизительным прозвищем, зачастую доводившим меня до слёз. Представьте себе школьный коридор во время перемены, и какой-то задира и драчун окликает меня:
− Воскрес Христос – сопливый нос!
А я делаю вид, что не слышу и что меня это не касается, а он кричит всё громче:
− Воскрес Христос!
И вот уже весь класс смотрит на меня и ждёт, как я на это отреагирую. А я – с горящими ушами и потными ладонями – готов сквозь землю провалиться, лишь бы кончилась эта мука, эта обида, это позорище.
− За что мне это проклятие? – думал я про себя. – У других фамилии как фамилии, а меня вот уж наградили родители!
Про фамилию меня и сейчас нередко спрашивают. Жаль только, что никому не приходит в голову даже в шутку «обозвать» меня тем святым и великим именем, которого я некогда так стыдился. Не без содрогания читаю я теперь слова Евангелия: «Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца и святых Ангелов» (Лук. 9:26). И уши горят и ладони потеют у меня при этом не от стыда за Него, а от стыда перед Ним. Совсем иначе я теперь отношусь к своей фамилии, с радостью и готовностью произнося её при каждом удобном случае. Конечно, не в том дело, чтобы я хоть сколько-нибудь кичился ею: мне лично она не придаёт ни на йоту достоинства или чести – ведь я её не заслуживал в состязании, не зарабатывал тяжким трудом, не вымучивал лишениями и страданиями и даже не выигрывал в лотерею. Она мне досталась от родителей в память о них и в назидание: чтобы помнил я своего деда протоиерея Александра Воскресенского, расстрелянного НКВД за его веру во Христа в урочище Липовчик на окраине города Ливны Орловской области5; чтобы помнил я отца своего, через всю свою тяжелейшую жизнь «члена семьи врага народа» пронесшего сокровенно и трепетно в своём сердце веру в Бога, заронённую дедом; чтобы помнил я маму, родившуюся в первые послереволюционные годы и в их честь названную Марсельезой, но откликнувшейся на Божий призыв и крестившейся незадолго до своей кончины под именем Мария.
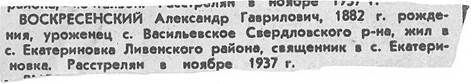
Казалось бы, у меня, что называется, на роду было написано и православие исповедовать с младых ногтей, и благочестивые традиции предков соблюдать неукоснительно – и то и другое высоко чтилось в нашей семье. Однако в моём случае культурной традиции хватило лишь на то, чтобы с глубоким интересом заняться изучением русской литературы, архитектуры и истории, а также всякого рода философскими идеями и учениями. Только встретившись с реальным, живым и прекрасным воплощением Христа в конкретном человеке и в конкретной христианской общине, мне удалось связать одно с другим и осмыслить православную культуру в контексте вполне определённого образа жизни, а не в отрыве от него. Что-то подобное, наверное, описывает в одном из своих «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенев: «Вдруг какой-то человек подошёл сзади и стал со мною рядом. Я не обернулся к нему – но тотчас почувствовал, что этот человек – Христос».6 Мне, конечно, пришлось в дальнейшем и, признаюсь, не без труда, преодолевать и перебарывать в себе многие другие «культуры», к которым я к тому времени успел приобщиться. То, что заложено в детстве, порой погребается в человеке многими наслоениями опыта и знания, которые ему потом приходится разгребать подобно завалам, оставшимся на дороге после урагана.
* * *
Одним словом, культурное основание в нашей стране далеко не всегда и, может быть, всё реже становится решающим в вопросе о вере в Бога, хотя именно оно, как правило, определяет дальнейшую конфессиональную ориентацию верующего. Воспитанный на классической и традиционной православной культуре человек, например, чаще всего не ищет и не находит в протестантстве или в католичестве чего-то, не достававшего ему в православии, и, наоборот, выросший вне православной традиции зачастую претыкается о не знакомые ему с детства вероисповедальные формулы, символику и образность. Другие основания в таком случае оказываются более важными и решающими.
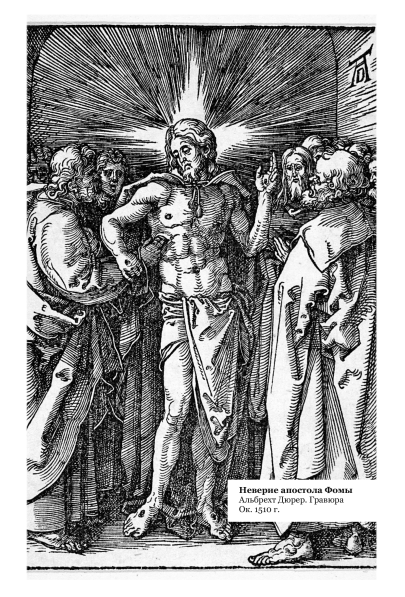
Итак, разумное основание?
Разумным и научным основаниям веры в этом ряду отводится своя, не исключительная, но очень важная роль – представления и рассмотрения свидетельств, с одной стороны, внутренней логической непротиворечивости религиозного взгляда на мир и человека и, с другой, соответствия религиозного знания (того, что человечество знает о Боге) самым современным научным представлениям и открытиям. Понятно, что доказывать бытие Божие подобно теореме Пифагора невозможно и бессмысленно, но, с другой стороны, совершать свой жизненный выбор, посвящая всего себя Богу или отвергая Его, не потрудившись ознакомиться с накопленным наукой знанием о Нём – ещё более неразумно и неосмотрительно. К сожалению, слишком часто приходится иметь дело именно с таким, вполне предрассудочным, представлением о вере, о душе и, вообще, о духовном мире, как о чём-то либо сугубо личном и интуитивном, либо заведомо алогичном и бесформенном. И это – несмотря на то, что множество деятелей науки, которых трудно заподозрить в нелогичности и необъективности, на протяжении всей истории человечества оставляли и оставляют по себе ярчайшие и подробнейшие свидетельства своей веры. Значительная часть сочинений сэра Исаака Ньютона, например, состоит из богословских (78 текстов) наряду с естественно-научными (86 текстов), алхимическими (70 текстов) и математическими (94 текста) трудами7. Очевидно, научный и математический склад ума нисколько не мешал великому учёному подвергать исследованию и свой собственный религиозный опыт, и накопленное человечеством богатство богословского знания. «Чёткое разделение между наукой и религией не было характерно для XVII–XVIII вв. Собственно, для Ньютона эти две сферы исследования были двумя частями единого взгляда на мир, и, в частности, изучение Священного Писания было разновидностью научного постижения законов природы, а также событий будущего», – пишет М. Леви-Рубин, сотрудник Национальной библиотеки Израиля, куда были переданы богословские труды Ньютона8.
Некоторые из учёных, собственно, и пришли к вере в Бога этим вполне рациональным путём, однажды составив себе труд ознакомиться с естественно-научными и научно-историческими свидетельствами и подвергнув их при этом всему тому спектру исследовательских методов, которыми они с успехом пользовались в своей научной деятельности. Не без удивления некоторые из них при этом обнаружили, что таковые свидетельства, во-первых, на самом деле существуют; во-вторых, существуют в великом множестве; в-третьих, нисколько не противоречат ни друг другу, ни всему остальному их научному опыту и, наконец, что их собственное неверие зиждилось не столько на знакомстве с этими аргументами, сколько на заведомом и вполне предрассудочном их отвержении. Не случайно, свидетельства, по крайней мере, двух из них, историка литературы Клайва Льюиса и доктора биологических наук Дона Байерли, прошедших именно этим путём от скептического отношения к вере в Бога к принятию Его всем своим сердцем, умом и волей, носят схожее и довольно характерное название: «Настигнут радостью» у К. Льюиса и «Настигнут верой» у Д. Байерли9 или, соответственно, “Surprised by Joy” и “Surprised by Faith” по-английски. Вот как описывает К. Льюис тот «сюрприз», который преподнесло ему усердное изучение свидетельств в пользу достоверности Евангельской истории: «И вот ночь за ночью я сижу у себя, в колледже Магдалины. Стоит мне хоть на миг отвлечься от работы, как я чувствую, что постепенно, неотвратимо приближается Тот, встречи с Кем я так хотел избежать. И все-таки то, чего я так страшился, наконец, свершилось. В Троицын семестр 1929 года я сдался и признал, что Господь есть Бог, опустился на колени и произнёс молитву. В ту ночь, верно, я был самым упрямым и угрюмым из всех неофитов Англии».10 Профессор средневековой литературы Оксфордского Университета, как честный человек и джентльмен, был вынужден признать, что из года в год он учил своих студентов по источникам, бесконечно менее надёжным, чем Евангелие, которое он отвергал из-за его, якобы, «исторической несостоятельности». Клайву Льюису это признание далось непросто, но честный учёный должен оставаться учёным, даже если это подчас неудобно и неприятно, и даже если это вызывает неловкость в общении с родственниками, друзьями или коллегами.
Весь спектр современных представлений о месте разумного основания веры в Божественное и сверхъестественное можно было бы представить в виде некоей протяжённости, континуума, в одной оконечности которой находится вполне расхожее мнение о том, что религиозная вера является ни чем иным, как формой безумия.

Вот, говорят, когда у человека в силу каких-то случившихся с ним внешних потрясений или внутренних переживаний, совсем отказывают мозги, тогда и начинает ему всюду мерещиться чудесное, духовное и сверхъестественное. Это, понятно – крайнее, но, увы, весьма распространённое в наш рационалистический век представление, отказывающее верующему человеку вообще в какой-либо способности адекватно воспринимать и осмысливать происходящее с ним и в мире вокруг него.
Следующим на нашей протяжённости окажется суеверие – представление о том, что что-то такое непонятное и необъяснимое в мире присутствует и действует, но никакого сколько-нибудь адекватного знания об этой, по определению, загадочной силе человек обрести не может. Всё, что мы в состоянии сделать, – это приспособиться к ней. Вот, допустим, перебежала нам дорогу чёрная кошка, и дальше этим путём идти уже нельзя. Почему? Не известно. Да и не важно. Главное – не идти. Или, чтобы затеянное нами предприятие, наоборот, развивалось в благоприятном направлении, надо всего-навсего постучать по деревянному. Почему по деревянному? Фольклористы и этнографы нам с удовольствием предложат самые различные и более или менее правдоподобные версии происхождения этого поверия, но ведь дело как раз в том, что это неважно – лишь бы «сработало».
Далее по континууму следует представление о таинстве, о таи́нственности, мистичности мира внутреннего и мира, нас окружающего. Оно исходит из допущения, что не всё в нашем опыте непременно подлежит анализу и осмыслению, и какая-то его часть по самой своей природе таинственна и непознаваема. Сколько бы мы ни изучали, ни испытывали, ни анализировали и ни обобщали некоторые события нашей жизни, переживания и впечатления, самое важное в них так и останется неразгаданным. Изучать, испытывать, анализировать и обобщать его мы, впрочем, вполне можем и к своей, и ко всеобщей пользе, ибо приобщение к этому мистическому опыту не только обогащает наше собственное бытие этим важнейшим её аспектом, но и позволяет нам более полно и осмысленно участвовать в жизни не мистической, а вполне физической11.
С этим представлением, вполне естественно, граничит и убеждение не только в возможности, но и в необходимости разумного отношения к миру сверхразумного и сверхъестественного. Мощным мыслительным аппаратом мы были награждены Богом-Творцом именно для того, чтобы наша духовная жизнь, наши отношения с Ним и наш опыт общения с Ним были полноценными и вполне удовлетворяли и Его, и нас самих. Вопреки расхожему представлению о том, что, приступая к молитве, входя в церковь или приобщаясь к церковными таинствам, надо по возможности отключить сознание и вообще угасить в себе всякое движение мысли (так иногда и понимается «всякое ныне житейское отложим попечение» из Херувимской песни на Божественной Литургии), разумное представление о вере требует как раз прямо противоположного: наивысшей концентрации всего нашего внимания на том, что именно происходит в «момент чуда». Эмоциональное, интуитивное и собственно мистическое восприятие Божественного, таким образом, не умаляется, но исполняется и совершается в осмысленном приобщении к таинству.12
* * *
К великому сожалению, в современной литургической практике русской православной церкви принят по большей части невразумительный для современного носителя русского языка церковнославянский, весьма затрудняющий полноценное участие верующего в богослужении. Иллюзия его понятности, возникающая вследствие исторической родственности этих языков, только усугубляет путаницу и приводит к порой смехотворным, но преимущественно печальным недоразумениям. Характерные и часто встречающиеся примеры такого псевдопонимания приводит филолог и поэт О. Седакова: «…”двойные” слова, входящие и в русский, и в церковнославянский, чаще всего и затрудняют понимание церковнославянских текстов. Здесь человек уверен, что ему всё понятно: ведь это слово – скажем, “губительный” – он прекрасно знает! Слово “гобзует” он посмотрит в словаре – но зачем узнавать там значение “губительства”? А слово это означает эпидемию, заразный недуг».13 Богослужение и молитва на родном, понятном и вразумительном языке раскрывают перед их участником смысл и содержание таинства, подлежащие и доступные осмыслению.
Для меня лично, признаюсь, старославянский язык богослужений долго оставался камнем преткновения. По разным поводам и случаям я довольно часто захаживал в православные храмы – профессия экскурсовода по московскому Кремлю, по Москве, Владимиру и Суздалю, которой я отдал счастливейшие годы своей молодости, практически обязывала меня к этому. Приглядываясь и прислушиваясь к происходящему во время богослужений, я, однако, никак не мог взять в толк, почему и зачем их тексты читаются и поются в русских храмах… на иностранном языке. О том, что это язык, с одной стороны, родственный, а, с другой − всё-таки совершенно самостоятельный, я отлично помнил по учёбе на филфаке, где несколько семестров были целиком посвящены его изучению: лексике, морфологии, синтаксису, стилистике и т.д. Неужели, думалось мне, все эти милые бабуленьки – сплошь филологи и лингвисты, колющие, как орехи, причудливые парадигмы старославянских склонений и спряжений, на заучивание которых я потратил столько бессонных ночей? Беглый выборочный опрос прихожан, впрочем, довольно скоро рассеивал эти мои опасения – большинство из них понятия не имело о прямом и даже символическом смысле только что прочтённого, услышанного или пропетого. Меньшинство по ключевым словам догадывалось о значении отдельных фраз, но и они к моему интересу относились в лучшем случае неодобрительно, а в худшем – подозревали во мне провокатора-протестанта или агента КГБ, о чём мне когда-то прямо сказал один сельский батюшка, к которому я обратился за разъяснениями: «Я же вас не знаю, а вдруг вы – подосланный, и потом мне же за вас достанется за религиозную пропаганду». Эти страхи, хочется верить, отошли в прошлое, но ни времени, ни места для подробного, систематического и толкового разъяснения прихожанам звучащего в храме по-прежнему не находится. Исключение, насколько мне известно, во всей стране представляют собой лишь несколько православных общин, перешедших на русскоязычное богослужение. Волею всеблагого Провидения я однажды оказался в одной из них и именно в тот момент, когда академик С.С. Аверинцев (для меня, филолога, фигура, принадлежащая скорее Пантеону, чем подмосковной церквушке) читал там за богослужением, если мне не изменяет память, Псалмы в своём собственном переводе на русский. Этот опыт вразумительного чтения и пения, понятно, обусловил возможность задавать вполне конкретные вопросы, касающиеся смысла и содержания веры, богослужения и благочестия по окончании службы или в специально отведённое для этого время. Ни таинственности, ни мистичности, ни благоговейности церковной службы от этого не убавилось, и даже напротив: чем больше я узнавал о вере, тем яснее понимал, насколько глубока Божественная тайна, уже не путая с ней ни свою собственную неосведомлённость, ни чьё-то невнятное пение или слишком поспешное чтение богослужебное текстов.
* * *
Злоупотребление разумом (следующее деление на нашей протяжённости), называемое рационализмом, исходит из того, что всякую мистичность и таинственность нашего опыта следует развеять усердным его исследованием. То, что нам сегодня представляется чудесным, развитие научного знания рано или поздно развенчает и, следовательно, называть его надлежит не «чудесным», а всего лишь неизвестным или малоизученным. На этом же представлении в основе своей покоится, между прочим, и классический дарвинизм, исходящий из того, что «переходные формы», необходимые для доказательства верности этой теории, рано или поздно обнаружит наука, и совершенно необъяснимое на сегодняшний день без участия Творца происхождение видов непременно будет, таким образом, разъяснено.14
Это крайне рационалистическое представление в своей конечной форме вовсе отрицает способность человека к осмыслению мира (как физического, так и метафизического), ибо и она, в конце концов, сводится к сложнейшему, но со временем вполне подлежащему научному описанию комплексу био- и электрохимических процессов, происходящих, как любят говорить школьники, в пространстве между двумя ушами. Весь религиозный и мистический опыт человечества, согласно этому «натуралистическому детерминизму», рассматривается лишь как некая причудливая «функция головного мозга». Это нейроны у человека в голове выстреливают, а ему при этом лишь кажется, что он испытывает какие-то чувства, любит, страдает, размышляет и т.д. Впрочем, и то, что это человеку кажется, ему, на самом-то деле, тоже лишь кажется. Другими словами, это, по сути дела, то же безумие – отказ в способности человека к осмыслению мира – которое уже было рассмотрено нами в самом начале нашей протяжённости. Эти крайности, как и большинство из них в жизни, оказываются не полезными и не продуктивными, и мы прибегнем к более взвешенному представлению о вере – как о таинстве, данном человеку, и, в меру его интеллектуальной способности, доступном его разумному освоению и применению к своему житию-бытию. Но будем помнить, что разумное основание веры ни в коем случае не является ни единственным, ни даже самым важным, ибо и разум сам по себе – без опыта, эмоционального и духовного переживания – может увести пытливый ум весьма далеко от истины.15
И, наконец, самый яркий и наглядный пример разумного основания веры – это, безусловно, история одного из первоапостолов по имени Фома, которого народная традиция совершенно несправедливо окрестила Фомой Неверующим. Ну, почему же? Вполне верующий и в Бога Творца, и во Иисуса Христа был человек, однако ему, в силу его особо пытливого склада ума и характера (как мы бы теперь сказали, аналитического, левополушарного мышления) рассказов других апостолов о том, что Христос, дескать, воскрес из мёртвых, оказалось недостаточно. Мало ли, что люди рассказывают! Ему, чтобы поверить в то, что перед ним – тот самый Христос, Которого он несколькими днями ранее своими глазами видел распятым на кресте, понадобились свидетельства, факты, и, так сказать, вещественные доказательства. Как мы помним из рассказа об этом событии, приведённом в Ин. 20:26–29, Спаситель благословил его на это, позволив вложить перст свой в раны на руках и руку – в рёбра Его. Евангелист, правда, умалчивает о том, воспользовался ли апостол Фома этим благословением, но важно уже и то, что он его получил. Представленное ему свидетельство стало решающим в жизни апостола, провозгласившего на его основании Христа своим Господом и Богом! Нам, живущим два тысячелетия спустя, не увидеть этих ран и не вложить в них своего перста. К нам обращены слова Спасителя: «Ты [Фома] поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие». Всё, что мы можем сделать, чтобы убедиться в истинности Христова Воскресения, − это ознакомиться со свидетельством достоверности тех «носителей», в которых оно описано, то есть, во-первых, убедиться в том, что события описаны правдиво и без упущений, и, во-вторых, что эта описание дошло до нас без искажений и потерь. Не случайно в православной традиции это событие прославляется как «доброе неверие Фомино», ибо, следуя его примеру, «сердца верных приводятся в познание» Бога.16
А как же все иные мировоззрения?
Но почему же непременно Фома, Евангелие и Христос? Разве иные религии чем-то хуже? Ведь есть и подревнее, есть и, наоборот, посовременнее, чем христианство? Да и вообще, разве так уж необходимо верить хоть в какого-то одного из богов? На этот последний вопрос, наверное, ответить проще всего: да, кого-то или что-то человек неизбежно делает своим божеством, то есть тем первоисточником, в котором он находит ответы на самые главные вопросы своей жизни – о её происхождении, предназначении, смысле и содержании. Кто-то своим богом − центром вселенной и мерилом добра и зла − полагает самого себя. Понятно, что и сам такой человек довольно скоро обнаруживает себя в полном одиночестве, и окружающим от него оказывается несладко, ибо сколько-нибудь удовлетворительного ответа на вопрос о ценности и предназначении человеческой жизни такая позиция может дать лишь очень ограниченному уму и лишь на очень ограниченное время. Да, конечно, из классической пьесы М. Горького «На дне» мы помним, что «человек – это звучит гордо», но не следует забывать и о том, чем кончается эта самая гордость человеческая «в отдельно взятой стране», где жизни десятков миллионов этих самых человеков обессмысливались, обесценивались и уничтожались во имя… человека. Да и сам автор этого гордого заявления в другие времена пел совсем другие песни.17
Для кого-то таким Божественным началом становится «Матушка-природа», которой при этом последовательно приписываются вполне божественные качества − всемогущество (всё происходит по воле природы), всеведение (всё происходит по законам природы, которые, следовательно, ей известны), вездесущесть (всё в нас и вокруг нас – природные явления) − за исключением разве что всеблагости и милости, которой, как известно, от природы ждать не приходится18. В этой картине мира, порождённого Матушкой-природой и Дедушкой-Биг-Бэнгом 13,7 миллиардов лет тому назад и с тех пор стремительно разлетающегося во все стороны, жизнь отдельного человека представляется микроскопической песчинкой, никакого особенного смысла, ценности и значения, очевидно, не имеющей.19
Кто-то впадает в «науковерие» (иначе, сайентизм), находя в современном и, согласимся, весьма впечатляющем развитии естественнонаучного знания и технологии потенциал как для объяснения прошлого и настоящего, так и для удовлетворения будущих чаяний человечества. В этом увлечении, впрочем, нет ничего нового, ибо около трёхсот лет назад западная цивилизация уже испытала подобный всплеск энтузиазма по поводу науки, технологии и всеобщего «просвещения», апогеем которого стала Французская революция, плавно, но закономерно, перетёкшая в эпоху жесточайших репрессий. Жизнь человеческая, подчинённая прогрессу, всеобщему равенству и братству или каким угодно ещё привлекательным идеям и лозунгам, неминуемо оказывается той разменной монетой, которой щедро оплачивается стремление к их достижению. Современное науковерие, низводя человеческое мышление, наши чувства и переживания к случайно возникшей и спонтанно развившейся биохимии и биоэлектронике мозга, впрочем, и не обещает человеку сколько-нибудь счастливого настоящего и, тем более, будущего. «Ни предназначения, ни смысла, ни зла, ни добра, ничего, кроме слепого и безжалостного безразличия», – подводит итог извечным исканиям человечества оксфордский профессор этологии (подраздел биологии, изучающий поведение животных) и апологет безбожия доктор Ричард Докинз.20

Пушкин А. С.
В. Матэ. Гравюра
1899 г.
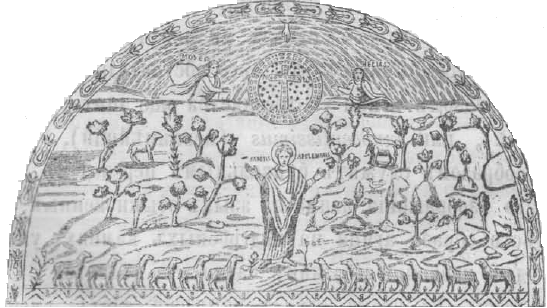
Митрополит Филарет.
И. П. Пожалостин. Гравюра
1883 г.
Зачем я живу?
Впрочем, и наш собственный, великий русский писатель и мыслитель, граф Лев Николаевич Толстой, в пятидесятилетнем возрасте задавшись вопросом о смысле и предназначении своей жизни и не найдя на него удовлетворительного ответа, оказался на грани самоубийства: «Вопрос мой – тот, который в пятьдесят лет привёл меня к самоубийству, был самый простой вопрос, лежащий в душе каждого человека, от глупого ребёнка до мудрейшего старца, – тот вопрос, без которого жизнь невозможна, как я и испытал это на деле. Вопрос состоит в том: «Что выйдет из того, что я делаю нынче, что буду делать завтра, – что выйдет из всей моей жизни?» Иначе выраженный, вопрос будет такой: «Зачем же мне жить, зачем чего-нибудь желать, зачем что-нибудь делать?» Ещё иначе выразить вопрос можно так: «Есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью?»21 Не только простые смертные, но, как мы видим, и величайшие умы человечества задаются этим же вопросом – о предназначении своей жизни – и при этом оказываются не в состоянии сколь-нибудь удовлетворительно на него самим себе ответить в пределах чисто материалистического представления о человеческой личности. Человеку трудно жить, если он не видит смысла жизни. Причём, не только «гуманитариям» – философам, писателям и психологам – свойственно задаваться этими вопросами. Основоположник космонавтики, К.Э. Циолковский, вполне технического ума человек, свои космические технологии разрабатывал, однако, движимый всё тем же вопросом – о смысле человеческого бытия: «Как только вы зададите себе вопрос такого рода, значит, вы вырвались из традиционных тисков и взмыли в бесконечные выси: зачем всё это – зачем существуют материя, растения, животные, человек и его мозг – тоже материя, – требующий ответа на вопрос: зачем всё это? Зачем существует мир, Вселенная, Космос? Зачем?»22
Понятно, что каждый день мы этот вопрос себе не ставим, ибо жизнь щедро снабжает нас на каждый-то день вопросами помельче. Однако в кризисные минуты нашей жизни (от греч. κρίση – суд, решение, выбор), когда от нашего выбора многое зависит – наше благополучие или жизнь близкого нам человека – этот вопрос становится, что называется, ребром: чего ради я хлопочу и переживаю, чего-то опасаюсь и чему-то радуюсь, если всем моим хлопотам, переживаниям, опасениям и радостям рано или поздно придёт конец? То есть, если каждое моё отдельное решение преследует определённую цель (простейшие примеры: заработать деньги, чтобы отдохнуть с семьёй на море, или выпить таблетку, чтобы прошла головная боль), то ради какой цели я, вообще, живу на свете? Мой однокашник, автор «Книги о счастье», психолог и антрополог, основатель и ректор Института христианской психологии священник Андрей Лоргус напрямую связывает способность и желание человека радоваться жизни с осознанием её, во-первых, вечности и, во-вторых, смысла. «Я не знаю, что такое счастье, но я знаю счастливых людей. И я знаю, что каждый человек может быть счастлив. Это в его власти. Это в его воле. Конечно, тут важно условие, но главное условие это – победа над смертью. Если он уверен в том, что смерти нет, он может быть счастлив. Это освобождает его от страха. Но есть ещё одно условие счастья. Для человека это очень важно. Человек – это существо, уязвлённое смыслом. Если человек не видит смысла в своей жизни, ему трудно быть счастливым».23
В день своего рождения – тоже, своего рода, «кризисная минута» – А.С. Пушкин написал следующие горькие строки, размышляя о смысле своей жизни:
Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной
Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.24
Может быть, однако, не всё так печально и безнадёжно, если вспомнить, что это пушкинское стихотворение не осталось без ответа. Ему ответил его современник митрополит Московский Филарет (Дроздов)25 и тоже стихотворением, но которое, к сожалению, гораздо реже цитируется:
Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога мне дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум –
И созиждится Тобою
Сердце чисто, светел ум!26
То есть не всё так беспросветно и грустно, если вспомнить, что, помимо этого конечного мира и вне его, существует бесконечный Бог, Который и этот мир, и каждого в этом мире человека сотворил по Своему особому, индивидуальному, совершенному, Божественному замыслу. Смысл и предназначение своей жизни человек, следовательно, обретает в исполнении этого Божественного замысла, а в приведении своей воли в соответствие с Божественной волей – средства к достижению этой цели.27 Ведь, если жизнь человека не «случайность», а реализация уже имеющегося и притом совершенного плана, то ведь и ресурсов, и средств на его реализацию должно оказаться в Божественном замысле вполне достаточно. Итальянцы так и говорят: «Когда Бог создавал время, Он создал его достаточно». Стало быть, если и когда нам не хватает времени, это – верный признак того, что мы тратим его на что-то не вполне соответствующее Божией воле, поскольку на следование ей Он создал его …в самый раз. И, с другой стороны, если, как это весьма часто приходится слышать, человек не вполне уверен, в чём, собственно, состоит Божественный замысел в отношении некоего конкретного этапа, шага или решения в его жизни, то стоит ему повнимательнее присмотреться, на что он тратит своё время и на что его в итоге не хватает, и становится, как Божий день, очевидным, где его собственные приоритеты расходятся с Божественными.
* * *
«Стоп, стоп, стоп! − скажут при этом скептики. − А не принимаем ли мы желаемое за действительное? Ведь может же быть, что это нам только хочется, чтобы наша жизнь обладала предназначением – вот мы и воображаем себе некоего Бога, Который бы придал ей хоть какой-то смысл». Д-р Энтони Флю, долгое время носивший, как ему казалось, почётное звание «самого яростного атеиста планеты» и преподававший философию религии в Редингском университете Англии, рассказывал по этому поводу притчу о неких двух исследователях, вышедших однажды из лесу на полянку и обнаруживших на ней красивейший и тщательно ухоженный садик – грядки, клумбочки, тропинки. Один из них тут же радостно воскликнул:
– Если есть садик, значит, должен же быть и садовник, который его насадил, и который за ним ухаживает!
Стали звать садовника, искать садовника – не появляется садовник и даже не откликается.
– Ну и где же твой «садовник»? – усомнился другой, не верующий в садовника, учёный.
– А это… невидимый садовник, по ночам приходящий в свой сад и ухаживающий за ним, – тут же нашёлся верующий в садовника.
Тогда неверующий в садовника учёный обнёс садик забором, провёл электричество, сигнализацию и даже установил камеры наблюдения, чтобы обнаружить хоть какие-то следы загадочного садовника. Увы, никаких свидетельств его присутствия так и не было зарегистрировано самой совершенной и чувствительной аппаратурой.
– Так ведь это же – невидимый, неслышимый, неощутимый и нечувствительный к электричеству садовник, – оправдывался верующий в садовника, но, понятно, тут уже скептик не выдержал:
– Что же осталось от твоего садовника? И чем этот твой невидимый, неощутимый, абсолютно неуловимый для восприятия садовник отличается от садовника воображаемого, и, следовательно, от садовника, не существующего вовсе?
То есть, по мнению учёного, если Садовник, насадивший этот замечательный сад и поселивший нас в этом саду, не оставил по Себе никаких следов Своего бытия и Своего участия в жизни мира, то чем Он, вообще говоря, отличается от садовника воображаемого?
Надо сказать, что сам доктор Флю, будучи учёным честным и последовательным, в конце своей жизни всё же пришёл к вере в Бога28, так что с ним, по большому счёту, всё в порядке, но в бытность свою богоборцем он любил рассказывать эту притчу. Ведь и в самом деле, коли своим происхождением и самим своим существованием этот мир обязан Богу Творцу, то должны же отразиться и сохраниться в человеческом историческом опыте хоть какие-то следы бытия и участия в его бытии Великого Садовника? Поиску и рассмотрению некоторых из этих свидетельств и будет посвящена большая часть этой книги.
* * *
Если мы что-то или кого-то ищем, то хорошо бы нам по возможности ясно себе представлять, кого именно мы ищем. Должны же быть какие-то его качества и признаки, по которым мы его узнаем, если встретим. Статистически, почти 90% населения планеты верит в Бога29, то есть, так или иначе представляет себе некую «высшую силу», «превосходящую субстанцию» или «верховное божественное», словом, верит в нечто, отвечающее на вопрос о смысле жизни. Надо сказать, что Россия в этом смысле далеко не на первом месте. Согласно проведённому 2011 году Левада Центром опросу россиян на предмет их религиозной принадлежности, 84% из них на тот момент полагали себя людьми православными, но вот на вопрос о вере в Бога (даже не во Христа, но хоть в какого-нибудь бога) положительно ответили лишь 39%. Интересное у нас в стране сложилось православие – наполовину без веры в Бога. Однако «в среднем по планете» картина складывается гораздо более благополучная, хотя, как мы видим из многообразия существующих на Земле вероучений, мнения о том, какими свойствами вышеупомянутое «божественное» может обладать, разнятся весьма значительно. Это и понятно, поскольку таковых свойств, качеств и черт характера у искомого нами Бога, и в самом деле, может быть множество, однако двумя свойствами Бог обладать должен, ибо они так и называются – «необходимыми свойствами». Конечно, «должен» не в том смысле, что кому-то из нас Он что-то должен, а в том, что эти Его свойства нам самим необходимы, чтобы признать Его Божеством. Их сформулировал в середине ХХ века американский философ и богослов Фрэнсис Шеффер как (1) «бесконечность» и (2) «личность»30, а примерно за полстолетия до него – наш русский философ и богослов Владимир Соловьёв, писавший: «Итак, разум истории по самому её фактическому ходу заставляет нас признать в Иисусе Христе не последнее слово царства человечества, а первое и всеединое Слово Царства Божия – не человекобога, а Богочеловека, или (1) безусловную (2) индивидуальность».31
В общении с человеком неверующим это бывает особенно важно – помочь ему найти и сформулировать для себя самого те условия, на которых он согласился бы с бытием Божиим. Спора и взаимного неприятия, возникающих зачастую при столкновении различных и, тем более, противоположных точек зрения на этот предмет, как правило, удаётся избежать, если изначально не ставить себя и, соответственно, других участников общения в отношения противников и антагонистов, которые почти инстинктивно вызывают у большинства людей настороженность и отчуждение. Предложение же им совместного поиска пути к разрешению интересующего нас вопроса способно, во-первых, снять лишнее напряжение и, во-вторых, принципиально поменять расстановку сил: не один – против другого, но оба вместе – против предмета противоречий и раздора. Вместо спора о бытии или небытии Бога, неверу предлагается заняться гораздо более продуктивной задачей: сформулировать такой аргумент или такое свидетельство, которые, если бы они нашлись, смогли бы его переубедить. «Диалогическая апологетика» – так назвал свою книгу один из моих семинарских профессоров д-р Давид Кларк, посвятив её динамике живого общения на тему веры и неверия. Согласно его многолетнему опыту и исследованиям, «защита веры обычно происходит посреди реальных жизненных обстоятельств, а не на официальных форумах, и <…> христианская апологетика может быть интегрирована в живую личную беседу».32
* * *
Именно так, в оживлённом обсуждении, помнится, одного из эпизодов «Преступления и наказания» на уроке по литературе передо мной вдруг встал как-то совершенно по-новому и «по-настоящему» вопрос о бытии Божием. Не думаю, что Герман Наумович, наш совершенно гениальный учитель и, кроме того, известный специалист по творчеству Л.Н. Толстого33, а в дальнейшем – видный общественный деятель русского зарубежья «и прочая, и прочая», прямо ставил перед собой эту апологетическую задачу. Даже, скорее, напротив, бытие Божие в контексте изучаемых нами в 9-м классе средней школы произведений русской классики подразумевалось им как само собой разумеющееся, и сомнение в Его бытии и Его живом и деятельном участии в поступках, мыслях и словах героев рассматривалось на его уроках неразрывно с другими реалиями – и физическими, и духовными. Я помню, как захватило у меня дух, когда я впервые это услышал, и как весь мир вдруг перевернулся вверх дном, когда я поставил себя на место героя, верующего в реального живого Бога и живущего с Ним в сердце. Не мифологического бога, не сказочного, не умозрительного и не символического, а вполне реального и даже – это себе представить было всего труднее – живого. Однако в том-то оказался и фокус, что без Него все герои русской классики оказываются совершенно «пластмассовыми», то есть искусственно (не путать с «искусно») собранными из внутренне несовместимых деталей куклами, совершающими совершенно ничем не оправданные поступки, произносящими совершенно бессмысленные речи и испытывающими насквозь фальшивые чувства. Самих этих слов никто в классе, конечно, не произнёс вслух, но этого и не требовалось (да за это и нашего любимого учителя моментально сняли бы с работы) – просто, между нами, учителем и учениками, вдруг завелась только нам одним известная маленькая тайна: на наших уроках литературы Бог есть. Для себя я тогда же решил, что вот этим открытием, этим представлением и опытом я теперь буду дорожить и по возможности искать его развития, осмысления и обогащения.
Несколькими годами позже, уже увлёкшись филологией и лингвистикой и с удовольствием копаясь в различных словарях, глоссариях и тезаурусах, я к великому своему восторгу напал в одном из них на статью, посвящённую слову «религия». И тут-то выяснилось, что это, тогда ещё полузапрещённое, слово происходит от латинского глагола religare, означавшего – восстанавливать связь или воссоединять. То есть, путём религии человек призван восстанавливать ту непосредственную связь, те живые отношения с Богом, которые были им утеряны в грехопадении. Эту ветхозаветную историю про Адама, Еву и запретный плод я, конечно, уже знал, но применить её к себе, то есть в себе самом обнаружить и признать те же самые, что и у них, черты и свойства, а также весьма сходные слова и поступки мне помогло именно это слово. Так вот, оказывается, почему мне так трудно даётся этот чудесный опыт, впервые испытанный мною на уроке литературы – связь и живые, личные отношения с Богом нарушены и постоянно нарушаются мною же, а, как их восстанавливать, знают, как выяснилось, только религиозные люди, которых я в своём тогдашнем окружении не находил, а точнее, ещё не научился различать.
А иные религии?
Итак, чтобы Бог был Богом, способным ответить на наш вопрос о смысле человеческой жизни, Ему необходимо обладать, как минимум, этими двумя качествами: Он должен быть бесконечен/безначален, и Он должен быть личностью. Первое из этих двух свойств, также называется свойством «независимого бытия», то есть в Своём бытии Он должен быть независим от времени, пространства, физики, химии, нашего желания или нежелания и т.д. Если Он так же конечен, как и мы, то и проблем у Него – с происхождением, предназначением и т.д. – должно быть не меньше, чем у наc. Вспомним в этой связи многочисленных древнегреческих, а также древнескандинавских, древнерусских и многих других богов и богинь, которые, во-первых, тем в основном и занимаются, что пытаются положить друг другу конец и, во-вторых в большинстве своём происходят от конечных же богов или подразумевающих некоторое происхождение природных явлений. То есть проблем у них оказывается гораздо больше, чем у нас, а потому, очевидно, они с удовольствием и делятся ими с человечеством, откуда происходят в нашей жизни все беды, катастрофы и катаклизмы. С другой стороны, «великое и верховное божественное» древних восточных религий – индуизма (большинства его классических школ) и буддизма34 – напротив, совершенно беспредельно. Будда равен миру, причём в капле воды столько же Будды, сколько во всём океане. Однако беда в том, что эти их «верховные божественные» по большей части безличностны, и человек, обладающий свойством личности, не может войти в общение с таким божеством, не переставая быть самим собой. При входе в буддистский храм можно, например, встретить такую надпись: «Оставь своё самосознание вместе со своими сандалиями за порогом храма». Йога, многим знакомая как физкультура и терапия, была призвана помочь в решении этой задачи – отключения всего, что человек представляет из себя как личность: сознания, чувств, памяти, внимания, взаимоотношений и т.д. – для вхождения в общение с безличностным божеством. Но, хочется спросить, кто же тогда общается с божеством в этом состоянии? И, если по окончании такого богообщения я всё-таки должен прийти в себя, то откуда я знаю, что там со мной происходило, и, главное, какое отношение этот опыт будет иметь ко мне и к моей личной жизни?
Авраамические религии – иудаизм, христианство и ислам – восходящие к праотцу Аврааму, знают и, каждая по-своему, славят Бога, обладающего обоими необходимыми свойствами: бесконечности и личности. Одного и того же Бога? Если мы вспомним, откуда иудаизм и ислам знают о том Боге, Которого они славят, то окажется, что бóльшую и важнейшую часть о Нём знают из священных книг, составленных великими пророками, соответственно, Моисеем и Мухаммедом То есть великие пророки услышали откровение Божие о Себе в словесной форме, а их потомки записали это откровение в священных книгах, соответственно, Танахе («еврейской Библии») и Коране. Но тогда неминуемо встаёт вопрос: почему же эти откровения получились у них такими разными? Иногда же прямо противоположное в них говорится… об одном и том же Боге? Значит, всё-таки разные это были боги? Или Он одному одно о Себе говорил, а другому – прямо противоположное? Или они слушали невнимательно? Или записывали неточно? Или мы читаем как-то неправильно? На эти вопросы каждое из названных вероучений предлагает целые тома истолкований, содержащихся, соответственно, в Мидраше с Талмудом35 и тафсирах с хадисами, датируемым, впрочем, гораздо более поздними эпохами, чем сами откровения.
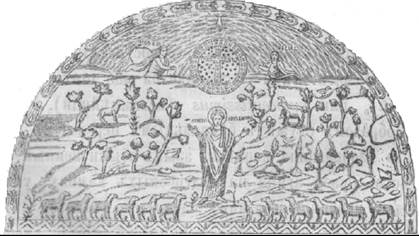
Бог в авраамических религиях
Чем же христианство принципиально отличается от этих религий? Христиане верят в то, что мы можем знать о бытии Божием и Его деятельном участии в жизни мира не только через пророков, пророчества и священные книги, а – от Него самого, непосредственно, благодаря тому удивительному, уникальному и чудесному событию, которое произошло в человеческой истории две тысячи лет тому назад: Бог стал человеком, вступил в человеческую историю и жил на земле как человек по имени Иисус Христос. Две тысячи лет тому назад «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его».36 «Садовник» из притчи Энтони Флю явился в Свой сад. С Ним можно было поговорить, задать Ему вопросы, выслушать Его ответы, путешествовать, разделить с Ним трапезу – то есть произошло это не в каком-то особом «духовном» состоянии или измерении, не на другой планете и не в параллельной реальности. Это событие – часть нашей человеческой истории. А, следовательно, христианство – исторично, ибо оно покоится на историческом факте Богоявления. Французский историк Марк Блок в своей книге «Апология истории» так описывает отличие христианского вероучения от всего сонма религий, существующих на свете: «Христианство – религия историков. Другие религиозные системы основывали свои верования и ритуалы на мифологии, почти неподвластной человеческому времени. У христиан священными книгами являются книги исторические, а их литургии отмечают – наряду с эпизодами земной жизни Бога – события из истории церкви и святых».37
Пророки, ритуалы, священные книги и сооружения есть ведь и у других религий (хотя у нас, конечно, лучше всех), но христианство покоится не на них, а на историческом факте Боговоплощения. Поэтому, между прочим, христиане и поздравляют друг друга с самым важным и самым радостным своим праздником, Пасхой Христовой, именно так: «Христос Воскресе!», то есть, констатируя факт, а в ответ подтверждают его: «Воистину воскресе!». Исповедание веры христианина, таким образом, заключается в простой (впрочем, ещё, конечно, и радостной и благодарной) констатации факта, причём факта уже свершившегося, а не ожидаемого в будущем. Многие ещё помнят, как долго нас призывали к тому, чтобы пролетарии всех стран соединились с тем, чтобы это будущее событие всё и всем, наконец, сделало ясным и понятным. Христиане не говорят: «Да воскреснет Христос… и да продлятся дни Его», − уповая на некое грядущее событие. Мы утверждаем, что Христос уже воскрес две тысячи лет тому назад. Интересно отметить, что в церковнославянском языке сохранилась аористная форма глагола «воскресе», описывающая действие, закончившееся в прошлом, то есть подчёркивающая, что речь идёт о событии, уже совершившемся и давно прошедшем, с которым поэтому уже ничего не поделаешь. Профессор и священник Георгий Кочетков так формулирует самую суть христианства: «Именно вера в Боговоплощение, в это удивительное кенотическое чудо, когда Бог как бы отказывается от Себя и Своего, чтобы стать своим людям и миру, – это откровение и составляет сущность нашей веры во Христа».38 Причём ничего нового или «более позднего» в этом осмыслении происшедшего две тысячи лет назад нет, ибо ещё апостолу Павлу, современнику событий, было ясно, что «если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша, <…> если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах ваших».39 Вера христиан, таким образом, не тщетна, ибо (или «если») она покоится на реальном событии истории.
А как же быть со всеми остальными религиями? Все остальные религии – это устремления людей, как правило, лучших и достойнейших из людей (тоже, впрочем, не всегда) к Богу. Христиане верят в то, что это Бог сделал шаг навстречу людям, стал одним из нас, то есть подошёл к нам, что называется, ближе некуда. «Его приход в мир – высшая точка диалога между Богом и людьми, встреча, которая стала непреходящей реальностью, ибо путь к ней открыт для каждого»40, – писал протоиерей Александр Мень. Диалог этот начался задолго до этого и продолжается до сих пор, но высшей его точкой стало явление Бога человеку в наибольшей полноте, в которой только одна личность может явиться другой – Он стал одним из нас, стал Человеком. И именно в этом содержится ответ на вопрос многих скептиков, который они любят формулировать в виде известной притчи о трёх слепцах. Слепцов подвели к слону и попросили его описать. Один подошёл сзади и, подёргав слона за хвост, подумал, что он похож на змею или верёвку. Другой, подошедши сбоку, обнял слона за ногу и предположил, что он подобен дереву или целому лесу. Третий, подойдя спереди и взявшись за бивень, с уверенностью заявил, что слон – это камень, скала. И ведь, заметим, ни один из слепцов слона-то в какой-нибудь полноте не описал! Как же может ограниченный человек постичь безграничного Бога? Представим себе что подвели слепцов не к слону, а к такому же, как они, человеку. Да, мы поражены и отчасти ослеплены грехом, но другого, подобного нам, человека, мы всё-таки оказываемся способны – на слух, на ощупь – воспринять настолько, насколько мы, вообще, способны воспринять другую личность. Митрополит Антоний Сурожский в своём слове после Рождества сказал: «Бог вошёл в историю. Сам Бог стал Человеком, Бог облёкся в плоть, и всё видимое, то, что по нашей слепоте представляется нам мёртвой, инертной материей, может узнать себя прославленным в Его собственном теле. Случилось нечто небывалое, и мир уже не тот, что прежде».41
Следовательно, христианство – это не вероучение такое, не догма (греч. δόγμα – учение) и не идеология такая, хотя, конечно, и христианское вероучение, и христианская догматика, и даже христианская идеология существуют на свете. Иногда приходится слышать, что вот, дескать, господствовала у нас в стране в течение трёх поколений одна идеология, а теперь ей на смену приходит иная. «Христианство – не система «идей» и, уж во всяком случае, не идеология. Оно есть опыт и свидетельство об этом опыте, непрестанно подаваемом Церковью», – писал по этому поводу протопресвитер Александр Шмеман.42 Вот ислам – это типичная идеология, то есть вероучение, зиждущееся на авторитете пророка. Как он проповедовал, так оно и есть – даже если реальность (например, историческая реальность) прямо тому противоречит. Как многие из нас ещё помнят, территория четырёх пятых земной реальности не соответствовала той идеологии, которая царила в СССР, так что же? Идеология преспокойно продолжала господствовать, а эта неудобная часть реальности либо запрещалась, либо скрывалась, либо отвергалась, либо высмеивалась, как нечто недостойное, и потому уже будто бы и не реальное, и не существующее.
Христианство – это не предание такое, хотя, ещё раз оговоримся, богатейшее православное Предание безусловно существует, и, по-видимому, большинство жителей нашей страны его-то и принимают за собственно христианскую веру, и его-то и исповедуют в житейском укладе, соблюдении праздников и других милых проявлениях православного благочестия. В отличие от христианства, типичным примером предания является современный иудаизм, покоящийся на богатейшей раввинистической традиции, без и вне которой даже свидетельство о Боге ветхозаветных пророков оказывается неполным и недостаточным.
И христианство – не одна из философий, которые покоятся на постулатах и аксиомах, принимаемых a priori и закладывающихся в основание той или иной философской системы.43 Буддизм в его классических формах можно вполне отнести к роду религиозной философии, основанной на открывшихся основателю буддизма принцу Сиддхартхе Гаутаме Шакьямуни путём медитативных созерцаний собственного духа «Четырёх благородных истин», «Восьмеричного пути», признании кармы и сансары и т.д., принимаемых как данное и не требующих никаких доказательств.
И, конечно, когда в атеистической литературе встречается упоминание о «мифе об Иисусе Христе», необходимо помнить, что это – не что иное, как довольно грубый и откровенный пропагандистский ход, присущий всему этому жанру. Ни под какое сколь-нибудь строгое определение мифа история рождения, жизни, смерти и воскресения Христа никак не подходит. Надо при этом честно признаться, что мифов, как религиозных, так и светских, мы и на самом деле в своей жизни творим немало (чего стоит, например, добрая половина советской героики!), подавая малоискушённым в древней истории людям повод заподозрить и в случае с Евангельским благовестием какой-то скрытый подвох.44
* * *
В важности и актуальности именно исторического, основания веры я имел случай лично убедиться, когда сам попал, что называется, как кур во щип, в ситуацию самую критическую, а именно – на войну. Точнее, она началась ровно через день, после того как я прибыл со своими лекциями во Владикавказ, и шла полным ходом буквально в паре часов езды от него. Над головой время от времени пролетали в ту сторону МИГи и СУшки, а по обочинам дороги, ведущей на юг, стояла отказавшая во время ночного марша бронетехника. На улицах города, напротив выставленных в окна первых этажей телевизоров, гудели группы хмурых мужчин, обсуждавших происходящее и провожавших меня, явно не местного, тяжёлыми взглядами. А уже к концу этого дня в город хлынули беженцы. И так уж случилось, что следующая моя презентация была запланирована в одной из христианских благотворительных миссий, теперь занимавшихся их приёмом, размещением и т.д. Все помещения были переполнены людьми, только что прибывшими на автобусах из мест боевых действий, где они потеряли всё, что у них было, а некоторые – своих родных и близких. Какие там лекции, подумал я, и предложил свою посильную помощь – на кухне или на регистрационном пункте. «Спасибо, дорогой, но ты нам сегодня нужен именно как лектор», – провожая меня в конференц-зал, сказал Важа, один из организаторов встречи. − Сегодня, как никогда, этим людям важно услышать, на чём стоит наша вера – не на эмоциях и традициях, которые мы испытываем сейчас, а на том событии, которое уже произошло тысячи лет тому назад и которое неизменно». Это, наверное, была одна из самых трудных моих презентаций, когда в глазах своей аудитории – а во всём зале не было, что называется, сухого места – поначалу недоверчивых, заплаканных и усталых, я постепенно замечал искорки надежды и веры. Не мне, не вероучению, не уверениям и не оправданиями, а Богу.
* * *
Христианство – это событие. То есть христиане верят в то, что в наибольшей Своей и доступной нам полноте Богу было угодно явить Себя, прожив с нами целую человеческую жизнь – от рождения до смерти, воскресения из мёртвых и последующего, по вознесении, воссоединения с Богом Отцом. Замечательно при этом, что ударение в слове «событие» можно поставить несколько иначе и получится – со-бытиé, то есть во Христе человек со-бытийствует Богу, пребывая в том же самом бытии, что и Он. По словам академика С.С. Аверинцева, во Христе «Бог преодолевает онтологическую некоммуникабельность»45, или, иными словами, бытийственную несовместимость между человеком и Богом. Ведь, когда люди спорят о том, есть Бог или нет, не имеется же ввиду, что Он в том же самом смысле есть, в котором есть, например, я, другой человек или какой-то другой предмет. Он – само Бытие, Сущий (древнеевр. יהוה – Иегова46), Источник и Средоточие бытия. Во Христе Он из Своего бытия вступил в наше бытие, и произошло со-бытиé. А христиане, соответственно, призваны быть «со-видетелями», то есть свидетелями этого события. Все вместе христиане являются (точнее, призваны являться) очевидцами пребывания Бога в их жизни, в богослужении, в Церкви (Теле Христовом).47 В этом – исключительность христианства, и поэтому, строго говоря, только христианское богословие и является в настоящем смысле Бого-словием, то есть, знанием о Боге, а, при всём уважении, не пророко-словием, не предание-ведением, не фило-софией и не мифо-логией. Эту абсолютную исключительность христианской веры глубоко чувствовал и замечательно выразил о. Александр Мень: «Религии в мире есть часть культуры. Они вырастают вместе с порывом человеческого духа к вечности, к непреходящим ценностям. Здесь же поток идёт свыше, с неба, и поэтому один из теологов нашего столетия имел право сказать: «Христианство – это не одна из религий, а это кризис всех религий"».48 «Кризис», кроме всего прочего, ещё и в том смысле, что свидетельство о Боге во Христе ставит человека перед выбором, побуждает к принятию решения и даже заставляет произвести над собой суд. Если, например, Будда сам завещал своим последователям не принимать его учения лишь из уважения к нему49, то Христос ставит вопрос именно так: «Он говорит им [апостолам]: а вы за кого почитаете Меня?»50.
Бог сделал шаг навстречу, но при этом оставил за человеком полную свободу на эту встречу не явиться и эту встречу отвергнуть. Его свидетельство о Себе не проникает в человеческое сознание гипнотически и, помимо воли самого человека, не становится его мировоззренческой позицией и само собой разумеющимся убеждением. Он сделал всё, точнее, Он сделал достаточно для того, чтобы каждый из нас принял личное, ответственное и информированное решение, однако само решение по-прежнему – за человеком. Современная эпистемология, занимающаяся динамикой и закономерностями научного познания, позволяет более подробно рассмотреть этот процесс, известный богословской науке как «Богооткровение». Согласно современному эпистемологическому учению, инициатива познания всегда исходит от высшей формы организации в сторону низшей. Если, например, человек (учёный, исследователь), изучает предмет неживой материи (физика, химия, археология и т.д.), имеет дело с неживой материей, то вся инициатива познания принадлежит, естественно, человеку. Исследователь может делать с предметом своего познания всё, что захочет – травить кислотами, выкапывать, закапывать, взрывать и т.д. Если предмет познания чуть выше по уровню организации, например, живая материя (биология, медицина и т.д.), то часть инициативы учёному уже приходится делить со своим предметом – его ещё надо поймать в лесу, накормить и как-то побудить к желаемым реакциям. А он может не захотеть и может, например, убежать снова в лес, и учёный ничего о нём так и не узнает. Вовсе не считаться с волей своего живого предмета познания учёный уже не имеет права, поскольку объект его исследования может не выдержать и …превратиться в неживой предмет познания, то есть, попросту говоря, сдохнуть. В случае, если предмет познания равен познающему по уровню организации, то есть, если один человек познаёт другого (психология, педагогика и т.д.), то и инициативу познания приходится делить ровно пополам – о другом человеке как о человеке, обладающем сознанием и свободой воли, мы узнаем, только если он сам захочет о себе сообщить. А может и не захотеть или наврёт нам в три короба, и мы о нём так ничего толком не узнаем. Причём, если мы насильно заставим его реагировать нужным нам образом, лишив его свободы выбора, то и исследовать его в таком случае мы будем уже не как человека, равного себе, а как животное. И, наконец, если предметом и объектом (ни то, ни другое слово тут даже не слишком подходит) нашего исследования является бесконечно превосходящий нас «по уровню организации» Бог, то понятно, что и инициатива Его познания целиком принадлежит Ему, а от нас требуется лишь открытость и готовность Его откровение о Себе воспринять и осмыслить. Философ С.Л. Франк сформулировал это таким образом: «Искание Бога есть уже действие Бога в человеческой душе».51 Мы его познаём по Его инициативе и на Его условиях.
Что и произошло 2000 лет тому назад, когда Ему было угодно явить Себя миру человеком.
Так ведь это когда было-то?
«Так ведь это когда было-то?!» – воскликнут скептики. − Это же – история древнего мира! Откуда мы знаем, что именно и как именно происходило в те далёкие времена?» Ну, во-первых, немало чудесного происходит и в наши дни – надо лишь быть, как мы уже говорили раньше, открытыми и восприимчивыми к чуду, чтобы воспринять это свидетельство, что называется, своими глазами. Мимо большинства самых настоящих чудес большинство из нас проходит, их не замечая или находя им какое-то вполне тривиальное объяснение (будто чудо от этого почему-то сразу перестаёт быть чудом). Это конкретное чудо – Богоявление – действительно произошло две тысячи лет тому назад, а любой историк нам скажет, что бóльшую часть того, что науке известно о событиях двухтысячелетней давности, она почерпнула из исторических документов. Таковым историческим документом, подробно описывающим событие Богоявления, является книга под названием …«Книги». Именно так переводится с греческого множественное число от слова βιβλίο буквально и означающего «книга». Так вот, во второй части этой книги, то есть в Новом Завете, содержится подробнейшее документальное свидетельство современников о том, что и как именно в те далёкие времена происходило в одной из окраин обширной Римской империи – на земле Израиля.
Для тех, кто не любит или не умеет читать, существует, кроме того, «Евангелие для безграмотных», как иногда называют второй снизу ряд икон на традиционном православном иконостасе. Слева направо по нему можно «прочесть» об основных событиях новозаветной истории: Благовещении, Рождестве, Крещении, Воскресении, Вознесении и т.д. С людьми, владеющими языком иконописи и умеющими считывать её образы символы и смыслы, это происходит и в век всеобщей грамотности. Оказавшись в храме, человек погружается в библейский «зрительный ряд» и находит в нём то, что откликается его опыту, знанию и художественному вкусу.
* * *
Азия, как известно,− «дело тонкое», и христианское миссионерство в странах и культурах традиционно мусульманских бывает затруднено не только различиями мировоззрений и культур, но и прямыми административными ограничениями. Однако и в условиях, казалось бы, далеко не самых благоприятных, историческая правда находит и прокладывает путь к людям внимательным и готовым её услышать. Или увидеть! Так, например, священнику одного из православных храмов, восстановленных в Чечне по окончании войны, открыто проповедовать веру во Христа среди местного населения категорически запрещалось. Окружающая обстановка, надо сказать, в целом не слишком к этому располагала, и храм приходилось охранять буквально с оружием в руках. Совершенно неизгладимое впечатление произвёл на меня российский воин огромного роста и в полном боевом снаряжении, встречавший прихожан за калиткой церкви – настоящий Архангел Гавриил во всей его грозе и мощи! Беда только в том, пожаловался мне настоятель, что храм, тем не менее, разрушался вот уже несколько лет сам по себе. Строили его на скорую руку, гидроизоляцию не проложили, плесень уже съела часть росписей, и штукатурка отваливалась целыми пластами. Пришлось позвать местных мастеров-ремонтников. Так вот, работая над разборкой части стен и пола, они стали невольно обращать внимание и на те росписи, которыми покрыт весь храм изнутри. Знакомые с мусульманским учением, работяги без труда узнавали на фресках и иконах имена и сюжеты, общие Корану и Библии и, естественно, подступали к настоятелю с вопросами, касающимися того или иного персонажа или события. Открыто проповедовать Христа за пределами храма ему категорически запрещалось, но отвечать на вопросы пришедших в храм он чувствовал себя в полном праве. Сами стены храма – причём ценой своей жизни! – оказывается, способны нести Евангельскую весть там, где человеку это почему-то невозможно.
* * *
Людям грамотным предлагается ознакомиться с этой важнейшей страницей человеческой истории по книгам Нового Завета, в которых приведены события земной жизни Христа, Его собственные слова и множество исторических, культурных, политических и экономических подробностей, в контексте которых эти события имели место. Только вот ведь в чём вопрос: истинны ли эти евангельские повествования? Происходили ли эти события на самом деле? На этот счёт существуют самые разнообразные мнения.
Пройдясь однажды по улицам Москвы с микрофоном, я собрал некоторую по-своему замечательную коллекцию ответов на вопрос «Считаете ли вы Библию исторически достоверным документом?». Вот лишь некоторые из ответов, услышанных мною в тот день:
− Очень спорно. Это, я бы сказал, «политизированный» вопрос. С подвохом.
− Думаю, что нет. (Почему?) Не знаю даже. Не могу вам сказать.
− Я не силён в этом. Не могу этого сказать.
− У меня двоякое отношение к Библии, честно сказать. Но учить надо – для культуры не помешает.
− История – это субъективная вещь, и Библия тоже – это взгляд определённого слоя людей в конкретный временной период и их отношение к своему богу, к своей вере и к своим внутренним мироощущениям.
− Я как-то не задумывался над историческим значением Библии, но, скорее, нет. У меня, вообще, отношение к религии сложное, и на эту тему я, вы уж извините, не хотел бы разговаривать.
− Ну да, Новый Завет, Ветхий Завет – почему бы и нет?
− Я – мусульманин, но я и про Библию, и про… другую книгу знаю, что так оно и было про Иисуса. Мы тоже считаем, что Он наш пророк, и всегда Его чествуем.
К похвале москвичей и гостей столицы надо сказать, что подобных ответов было всё-таки менее половины, и большинство респондентов в моей небольшой подборке относились к достоверности библейского свидетельства более положительно и уважительно. Сам вопрос, однако, вызывал у многих немалое недоумение: как, вообще, можно говорить о Библии в качестве исторического источника? Разве она – об этом? Разве не достаточно признать её безусловный авторитет, чтобы в дальнейшем черпать из неё готовые ответы на все возможные вопросы, которые когда-либо возникнут в нашей жизни, подбирая поисковиком или по так называемой библейской Симфонии (собрании в алфавитном порядке всех встречающихся в Библии слов и выражений с указанием соответствующей книги, главы и стиха) подходящие по смыслу или контексту императивы? Дело в том, что Библия, являясь, как уже сказано, собранием книг, – очень многожанровое литературное произведение. В ней, и на самом деле, можно найти прямые и недвусмысленные требования и законы, подлежащие безоговорочному следованию и исполнению. Но ведь имеются в её составе и, напротив, глубоко лирические и даже романтические книги, главы и стихи, которые ни в коем случае не следует понимать буквально и принимать в качестве императива. Содержащийся в них опыт эмоционального, чувственного и эстетического приобщения к вере необыкновенно важен, но и восприниматься такой опыт должен, соответственно жанру, в котором он испытан, осмыслен и описан автором, то есть в жанре лирическом. С другой же стороны, никак не абстрактно-образно, а вполне конкретно-исторически следует относиться к тем реалиям прошлого, которые описаны в жанре исторической хроники, но также и не воспринимать их в качестве примера для непременного и неукоснительного подражания. Библия – очень честная книга, и в ней подчас описываются столь нелицеприятные страницы истории человечества, что учиться на некоторых из них мы могли бы разве что методом «от противного». Многих, впервые читающих Евангелие или Павловы Послания, не на шутку смущает то, что самые, казалось бы, «положительные герои» в них описываются в ситуациях, нисколько их не красящих и даже, Боже упаси, бросающих тень на их святость и авторитет как учителей и образчиков праведности и благочестия.
Вопрос о достоверности Библии, тем не менее, остаётся в наш «век информации» вполне насущным и актуальным: если вера христиан покоится на историческом событии, то насколько достоин доверия, то есть, буквально, достоверен тот источник информации, откуда они черпают сведения о нём? Состоит этот вопрос из трёх основных частей.
Во-первых, насколько он древен, на самом ли деле ему 2000 лет, и на самом ли деле этот документ составлен людьми компетентными, то есть знавшими, как происходило дело, современниками, участниками и свидетелями событий? Ведь существуют версии о том, что вся эта история, да заодно и вся Библия, была написана три с лишним столетия спустя, в эпоху императора Константина, причём по его же личному указанию. Несколько лет назад вышел побивший многие рекорды популярности детективный роман на эту тему под названием «Код Да Винчи», а впоследствии был снят и фильм по его сюжету. Речь в них, в частности, ведётся о том, что, поскольку со времени земной жизни Христа прошло уже целых три столетия и живых свидетелей в ту пору уже не было, то и писать можно было всё, что угодно… императору Константину. Бытует на бескрайних просторах интернета даже такая забавная версия из серии «теории всемирного заговора», что, на самом-то деле, вся эта история со скандальным романом и фильмом − это такой тонкий ход Ватикана. Мол, вбросим-ка мы в культурное пространство и общественное сознание этакую провокационную идею, чтобы задумались люди, наконец, во что именно они верят: в фантазии популярного британского новеллиста и голливудскую «клубничку» или – в документы и артефакты, имеющиеся в распоряжении исторической науки? Как бы то ни было, для миссионера, во всяком случае, разговор о «Коде Да Винчи» представляется благодатнейшим поводом обратиться именно к этому вопросу: насколько достоверны те источники, на которых покоится ваша вера… или ваше неверие? Ведь циркулируют по мутным потокам той же всемирной паутины и такие забавные версии, согласно которым Библия была составлена двумя русскими монахами в XVI веке… за один вечер. Грамотные были люди, подставили соответствующие ссылочки и цитаты и – готово! То есть первый вопрос – это вопрос о древности нашего источника.
Во-вторых, необходимо вспомнить, на чём писали в те далёкие времена. Современных цифровых носителей информации к тому времени ещё не изобрели – они появились несколькими столетиями позже. А в те времена носители информации – пергамент или папирус – были очень хрупкими и хранились совсем не долго. В открытом виде папирус, например, сохраняется всего 20−30 лет. Без доступа света, кислорода и влаги, то есть в герметичных сосудах, свиток может, конечно, пребывать в полной сохранности хоть две, хоть три тысячи лет. В Книге Пророка Иеремии как раз на этот случай содержится подробнейшая инструкция по хранению древних рукописей: «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: возьми сии записи, эту купчую запись, которая запечатана, и эту запись открытую, и положи их в глиняный сосуд, чтобы они оставались там многие дни».52 Беда, видимо, в том, что мы с вами зачастую инструкций не читаем и, полагаясь на собственную сообразительность, сначала всё безнадёжно ломаем и только потом открываем какие-либо «правила пользования». Может быть, поэтому из оригиналов древних рукописей до нашего времени не дожило ни одного: ни Нового, ни Ветхого Заветов, ни Аристотеля, ни Цезаря, ни Гомера. Дошли до нас лишь копии и копии копий, и наука текстология (совместно с палеографией) восстанавливает по ним текст оригинала. Вопросы, естественно возникающие при этом, обычно звучат так: «Откуда мы знаем, что сегодня мы читаем тот же самый текст, который был составлен авторами оригинала 2000 лет тому назад?» И, в самом деле, может же быть, что большая часть его содержания была утеряна или безнадёжно искажена при бесконечных переписываниях и переводах с языка на язык.
И, наконец, третий вопрос – о достоверности самого содержания текста: «Откуда мы знаем, что ещё тогда, 2000 лет тому назад, никто ничего не приукрасил, не добавил от себя, не перепутал и, в конце концов, просто не забыл?». Ведь если ещё первоначальные авторы описали событие неточно, неполно или неверно, от того, что оно копируется и повторяется из столетия в столетие множество раз, оно не становится сколько-нибудь достовернее. «Сколько ни повторяй “халва, халва”, во рту сладко не станет», – гласит древняя восточная пословица. Правда, современные психологи утверждают, что станет, но ведь самой-то халвы всё равно не получится. То есть, чтобы эти события для нас сегодня имели какой-то смысл и значение, надо, чтобы они ещё тогда были описаны именно так, как они происходили. Есть ли у нас сегодня достаточно оснований верить в достоверность фактов и событий, описанных в новозаветных текстах?
Все эти три вопроса почти два столетия тому назад ставил перед ищущим веры человеком замечательный русский православный миссионер, святитель Иннокентий, митрополит Московский и Иркутский, просветитель Аляски, переведший Евангелие на язык алеутов (и создавший ради этого алеутскую письменность): «Итак, прежде, нежели ты пойдёшь за Иисусом Христом, должен сделать следующее. Во-первых, внимательно испытать основание христианства, то есть те самыя книги Св. Писания, на коих основана наша православная вера: узнать, [1] откуда оне произошли, кто и когда их написал, [2] как они сохранились и перешли к нам, и [3] почему оне называются божественными и священными, и проч.»53 Само основание христианства видел он покоящимся на достоверности происхождения, сохранности и, собственно, содержания того исторического документа, из которого нам известно о Боге во Христе, и призывал ищущего веры к пытливому исследованию этого основания.
Само же исследование, чтобы быть продуктивным, должно проводиться в соответствии c требованиями соответствующего предмету познания научного метода, каковых на сегодня известно ровно два. Естественные науки – физика, химия, биология и т.д. – естественно, пользуются естественно-научным методом, который в данном случае оказывается совершенно не неприменим, ибо его требованиями являются наблюдаемость события, контролируемость среды, повторяемость и т.д. Он вообще не применим к уникальным историческим событиям, поскольку история отвечает на вопрос не «как бывает?», а «как было?», то есть имеет дело с событиями, не обязательно закономерными, а сплошь и рядом совершенно исключительными. К уникальным событиям истории применяется, соответственно, научно-исторический метод, заключающийся в приведении свидетельств, документов, артефактов («вещественных доказательств») и логических доводов в пользу некоего неповторимого исторического явления (не важно, двухнедельной или двухтысячелетней давности), необходимых и достаточных для компетентного и безучастного решения о том, насколько вероятным и достоверным оно является. Поскольку речь в новозаветном тексте идёт именно о таком уникальном событии истории, то к ним – и к тексту, и к самому событию – пытливый ум имеет полное право применить весь исследовательский аппарат исторической науки. Важно лишь не забывать при этом, что никакое количество представленных свидетельств не может «заставить» человека принять то или иное решение по поводу достоверности или ложности события, но лишь обеспечивает исследователя основанием для личного и ответственного ответа на поставленный вопрос. Так ведь и Исаак Ньютон не видел всех на свете падающих яблок, однако на основании наблюдения за всеми теми яблоками, которые он видел падающими, сделал вывод о законе всемирного тяготения. Какой-нибудь зануда-скептик ведь и в этом случае мог бы возмутиться: «Какое право сэр Ньютон имеет делать столь широкое обобщение на основе своего весьма ограниченного опыта?! А, может быть, все остальные яблоки, которых он не видел, как раз и не падают?!» Так, однако, наука не работает, и её самые общие выводы практически всегда покоятся на опыте, заведомо ограниченном и неполном. Обнаружить и исследовать все свидетельства и доказательства истинности каждой детали в каждом эпизоде новозаветной истории никому и никогда не удастся, но, например, сравнив их с числом и качеством свидетельств достоверности других исторических событий, в которых никому не приходит в голову сомневаться, всякий здравомыслящий человек в состоянии принять вполне личное, ответственное и информированное решение по этому вопросу.

Библия Гуттенберга
Факсимиле. 1454 г.
Другие древние документы?
Рассмотрим несколько, ставших уже отчасти хрестоматийными, примеров такого сравнения вполне заслуживающих доверия историков документов древней письменности с новозаветными источниками, применяя и к тем, и к другим исследовательские методики и критерии, выработанные текстологией – прикладной историко-филологической дисциплиной, как это следует из самого её названия, изучающей историю возникновения и судьбу различных текстов, а также собственно и восстанавливающей древние тексты. Одним из таких критериев, применяемых текстологией ко всем древним документам (политическим, поэтическим, экономическим и т.д., по разным причинам не дошедшим до нас в оригиналах) в целях выяснения их достоверности, является количество рукописных копий. Чем больше рукописей утерянного оригинала имеется в распоряжении учёных, с тем большей достоверностью они могут восстановить оригинал. Представим себе, что какой-то древний документ дошёл до нас в виде одного единственного манускрипта. Он может при этом быть насквозь фальшивым или самым, что ни на есть, подлинным. Мы никогда об этом не узнаем, ибо сравнивать-то нам его не с чем, и мы не в состоянии выявить тех ошибок, сокращений, добавлений и других искажений, которые могли возникнуть при его переписывании. И, наоборот, чем больше рукописных копий того или иного документа имеется в распоряжении учёных, тем больше вероятность («Гарантии – на небесах, на земле – вероятность», – гласит древняя мудрость) того, что учёным удастся восстановить первоначальный текст.
Возьмём для примера, ну конечно, Цезаря! Про его «Записки о Галльской войне» в любом учебнике истории и в любой энциклопедии пишется как о самом полном, самом достоверном и самом подтверждённом свидетельстве событиях и времени его правления – 50-х годах до Р.Х. Ведь и на самом деле, большую часть того, что известно учёным об этом периоде либо прямо происходит из этого источника, либо обнаружено, благодаря ему. И, что особенно важно, источник был написан вполне компетентным и во многих отношениях авторитетным автором – будущим римским императором Гаем Юлием Цезарем. Однако, как уже было отмечено выше, того самого первоначального, оригинального экземпляра, вышедшего из-под пера одного из Цезаревых писцов (не императорское это дело – касаться августейшими перстами таких низменных предметов, как перо и пишущие машинки), ловивших и запечатлевавших на папирусе каждое слово императора, до нас не дошло. По счастью, этот текст продолжал копироваться усердием переписчиков из столетия в столетие, и так – до середины XV века, пока никому дотоле не известный шлифовщик полудрагоценных камней и точильщик зеркал по имени Иоганн Гуттенберг не изобрёл в Германии первый печатный станок, и копии не стали более или менее одинаковыми. Почти сто лет спустя точно такой же станок изобрёл и Иван Фёдоров Москвитин, так что и в России тексты тоже стали более или менее стандартными. Понятно, что сравнивать печатные копии, вышедшие из-под одного и того же станка, большой нужды нет, но сколько же рукописных копий, манускриптов (от лат. manus – рука и scribo – пишу) различных документов древности, содержащих разночтения, ошибки, сокращения и дополнения переписчиков, имеется в распоряжении учёных?54
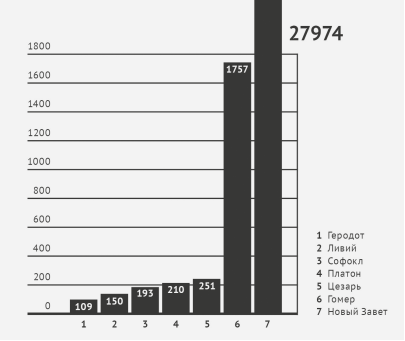
Количество сохранившихся копий древних текстов
Большую часть того, что историкам известно из периода правления Цезаря, по которому в университетах в основном и изучается История Древнего Рима, дошло до нас по 251 списку его «Галльских войн». Много это или мало? Если сравнить эту цифру с другими заслуживающими доверия историков источниками – философскими трудами Платона (210 копий), «Историей» Геродота (109 копий), «Историей от основания города» Тита Ливия (150 копий), «Царём Эдипом» Софокла (193 копий) – этот показатель окажется чуть выше среднего. То есть обо всей платоновской философии, по отношению к которой вся современная европейская философия представляет из себя «не более, чем ряд примечаний на полях Платона»55, науке известно по двумстам десяти более или менее объёмным отрывкам. От нескольких десятков до нескольких сот рукописей того или иного древнего документа принято считать вполне надёжным их числом, но, конечно, бывают и исключения, каковым является Гомерова «Илиада», дошедшая до нас в количестве 1757 копий. Но на то оно и исключение, чтобы подтверждать известное науке правило.
А теперь посчитаем, сколько новозаветных рукописей имеется в распоряжении учёных, то есть применим к жизнеописанию Христа те же самые критерии, которые применяются текстологами к другим документам древности. Если речь и в самом деле идёт об историческом событии и историческом документе, имеем на это полное право. «Как Слово стало плотью в определённом месте и в определённое время, так и текст Писания, да и всякое иное проявление веры, возникает и живёт внутри исторического процесса, а значит, его внешние, исторические формы могут быть изучаемы с помощью обычных научных методик», − пишет современный филолог-библеист Андрей Десницкий.56 Так вот, за тот же период рукописной передачи текста, то есть со времени создания оригинала до изобретения печатного пресса, до нас дошли 27974 более или менее полных новозаветных манускрипта, из которых 5795 – на языке оригинала (греческом), плюс латинский, коптский, арабский, славянские языки и т.д. Таким образом, мера достоверности евангельского текста согласно этому критерию превышает все другие древние тексты, в том числе совершенно исключительные, не намного и даже не во много раз, а на несколько порядков. С точки зрения человека, верующего в живого Бога и Его продолжающееся участие в бытии сотворённого Им мира в этом нет ничего ни невозможного, ни даже странного. И, даже напротив, нет ничего неожиданного в том, что Он, с одной стороны, позаботился о том, чтобы свидетельство о Его явлении миру сохранилось в достаточно достоверном виде и качестве, а с другой, оставил за человеком достаточно оснований для совершения выбора без принуждения и подавления его свободной воли. Перефразируя итальянскую пословицу, можно сказать, что, когда Бог оставлял по Себе свидетельство, Он оставил его достаточно. Не без иронии замечал по этому поводу просветитель и богослов протопресвитер Александр Мень: «Скудость источников обычно не мешает создавать жизнеописания великих людей, о которых сохранилось куда меньше достоверных данных [чем об Иисусе Христе – О.В.]».57
И, что замечательно, новозаветные копии эти относятся к различным столетиям и, когда скептики выражают подозрение в том, что в период рукописного копирования в текст, вероятно, проникли описки, разночтения и другие погрешности, то мы вправе спросить их: когда же это произошло? Почему же в таком случае, практически идентичные рукописные копии Нового Завета доходят до нас (естественно, в разном количестве и разной степени полноты и сохранности) из первого, второго, третьего, четвёртого и т.д. столетий вплоть до изобретения печатного пресса? Подозрения скептиков, впрочем, вполне понятны и оправданы, ибо самые ранние копии некоторых, например, античных авторов, и в самом деле дошли до нас в средневековых переводах на арабский, то есть с разрывом в несколько столетий (об этом мы подробнее ещё поговорим). То же, с их точки зрения, «должно было бы» произойти и с новозаветными текстами. Если, однако, мы будем иметь дело не с нашими собственными предположениями и фантазиями (в сослагательном, то есть нереальном наклонении), а со вполне реальными историческими фактами, то окажется, что и в этом отношении Новый Завет представляет собой замечательное исключение: преемственность в передаче его текста от поколения к поколению никогда не прерывалась, даже несмотря на периоды жесточайших гонений и преследований христианского учения и Христовой церкви.
Как уже говорилось, учение ислама покоится не на исторической достоверности событий, упоминаемых и описываемых в Коране, а на авторитете пророка, а потому и строго исторический подход к нему не вполне применим и оправдан. Однако уже и чисто количественное сравнение между признаваемыми христианами и мусульманами авторитетными рукописями соответственно Нового Завета и Корана обнаруживает колоссальную разницу между этими источниками. Согласно учению ислама вскоре после смерти Мухаммеда халифом Усманом были сведены воедино имевшие хождение в устном предании и потому отчасти различавшиеся версии Корана. Пять идентичных копий созданного таким образом документа были им разосланы в пять городов тогдашнего исламского мира, и только они признаются истинными и исключительно достоверными. Увы, современные исследования двух дошедших до нас «Усмановых» текстов показали, что эти манускрипты являются более поздними копиями, снятыми с неизвестных источников около двух с половиной столетий спустя. Что именно было написано в оригинальных документах, и насколько им соответствует канонизированный в 1989 году современный текст Корана, приходится принимать, что называется, «на веру», то есть без каких-либо историко-текстологических оснований и даже, как мы далее убедимся, вопреки им.
* * *
По моим наблюдениям, далеко не все мусульмане отдают себе в этом отчёт, точно так же, впрочем, как и многие христиане не особенно задумываются над тем историческим основанием своей веры, которое отличает её от всех без исключения религий на свете. Соображения такта и уважения к иным, традиционным для различных народов, верованиям, доведённые до своей почти уродливой крайности насаждением к месту и не к месту политкорректности и толерантности, чаще всего не позволяют миссионеру впрямую сравнивать религии по конкретным мерилам и критериям. Если же мне приходится выступать со своими презентациями, например, в учительских или других профессиональных аудиториях, то строгость научного подхода позволяет делать это без лишних церемоний и экивоков. Так, однажды я представлял только что рассмотренный нами материал на курсах повышения квалификации школьных учителей истории, по обыкновению, оставив добрых полчаса в конце встречи на вопросы и ответы. Едва ли ни первым прозвучал именно вопрос о политкорректности: не боюсь ли я оскорбить религиозные чувства кого-то из уважаемых коллег, если вдруг окажется, что в аудитории присутствуют, например, буддисты или мусульмане? Заранее извинившись, если это произошло, и заверив слушателей в том, что это никак не входило в мои намерения, я набрался смелости напрямую спросить зал: нет ли среди нас мусульман, которым мои сравнения письменных источников показались бы обидными. Молодая учительница подняла руку, встала и ответила, как мне показалось, не столько мне, сколько ревновавшему о её достоинстве коллеге-историку:
− Я нисколько не оскорблена ни как мусульманка, ни как историк, и даже, напротив, благодарна докладчику – мне только сегодня впервые пришло в голову, что я почему-то никогда не рассматривала свою веру как историк. У меня в связи с этим возникло множество вопросов.
− Ах, как чудно, – возрадовался я, – ведь у нас как раз и время сейчас для вопросов и ответов!
− Да, но вопросы у меня не к вам, – ответила учительница, – а к моему имаму.
В жизни каждого человека наступает такой момент, когда ему приходится посмотреть на свою веру (или своё неверие) с точки зрения строгого научного опыта и знания. А, может быть, полезно делать это с некоторой регулярностью и периодичностью, чтобы не закоснеть в привычных формулах и обрядах, когда-то однажды удостоверившись в их основательности. Научные сведения имеют свойство не только накапливаться, но и устаревать, и даже кардинально меняться. За последние двенадцать-пятнадцать лет мне, например, пришлось уже неоднократно обновлять некоторые данные моей презентации, приводя их в соответствие с современными научными исследованиями и открытиями. Особенно отрадно было при этом отмечать не только продолжающийся рост числа новозаветных манускриптов, обнаруживаемых при раскопках, но и устойчивое увеличение отрыва между ним и другими древними документами.
* * *
Вернёмся, однако, к самим этим текстам и к тому комплексу критериев, которыми учёные определяют достоверность древних документов. Причём, именно, комплексу, ибо, если один из них даёт один результат, а другой – прямо противоположный, то, естественно, что-то в исследовательском протоколе не так, или сами исследования проведены без достаточной строгости в следовании ему. Это, например, произошло со знаменитой Туринской плащаницей, когда в результате комплекса исследований её фрагментов учёными независимых лабораторий методом изотопной датировки были получены различные и взаимоисключающие результаты, так что учёным пришлось признать, что версий о её происхождении и датировке на тот момент всё ещё оставалось несколько. Более недавнее исследование плащаницы методом широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей позволило безоговорочно отнести её происхождение к первому столетию по Р.Х. именно потому, что включало в себя повторные и многочисленные измерения различных частей этого удивительного артефакта.58 Элементарные требования логики и здравого смысла требуют всестороннего изучения предмета, и вторым критерием, который мы применим к новозаветным текстам и другим древним документам, будет так называемый коэффициент искажения.
Большинство людей, вручную переписывая тексты, допускают ошибки. Если текст последовательно копируется несколько раз, то и эти ошибки, естественно, последовательно накапливаются в более поздних его копиях. Если же древний текст копировался от руки в течение столетий, то какова вероятность того, что мы сегодня читаем тот же самый текст, который был когда-то составлен первоначальным автором? На этот-то вопрос, задаваемый многими скептиками верующему человеку, и помогает ответить данный критерий. Подсчитывается коэффициент искажения по следующей формуле: количество строк или каких-то других значимых единиц (стихов, предложений), содержащих смысловые разночтения (не фонетика и морфология, а то, что сколько-нибудь значимо влияет на различение смысла), делится на общее количество этих же единиц в произведении и умножается на сто.
Брюс Метцгер59, автор многочисленных исследований и ставших классическими учебников по текстологии, сравнил три древних текста религиозного содержания: «Махабхарату» индуистов, «Илиаду» древних греков и Новый Завет христиан. Оказалось, что «Махабхарата» (250 тыс. строк) содержит 10,3% смысловых разночтений. То есть каждая десятая строка содержит смысловую ошибку, или, другими словами, мы не знаем, что нам, собственно, заповедует каждая десятая заповедь этого «учебника жизни», но нам доподлинно известно, что каждая десятая из них содержит в себе смысловую ошибку. Кто как, а я бы свою жизнь – ни земную, ни, тем более, вечную – на такой источник полагать не стал и другим не советую.
Гомерова «Илиада» (156 тыс. строк) на этом фоне выглядит совсем неплохо – в ней всего 4,9% разночтений. Мы знаем, следовательно, как на самом деле звучит каждый двадцатый стих «Илиады» только по восхитительному переводу Николая Ивановича Гнедича – он звучит изумительно! Только ведь это мы Гнедичем восхищаемся, а не Гомером.
На 20 тысяч стихов Нового Завета насчитывается всего 40 смысловых разночтений, то есть коэффициент искажения этого текста – 0,2%. Причём цифра эта постоянно сокращается с открытием всё новых и всё более древних рукописей, позволяющих уточнить одно за другим эти «трудные места». И, конечно, это никакая не тайна за семью печатями, хранимая от неискушённых верующих в непогрешимость Слова Божия. В современных изданиях эти строки сопровождаются сноской «не подтверждается большинством древних рукописей». И, что ещё важнее, так это, что большинству этих строк несложно найти пару в параллельных текстах, где они очень даже подтверждаются древнейшими рукописями. Не случайно же в новозаветный канон входят четыре Евангелия, во многом перекрывающие друг друга. Если в одном из них тот или иной стих вызывает сомнения учёных, его содержание, а иногда и точную копию можно найти в другом.
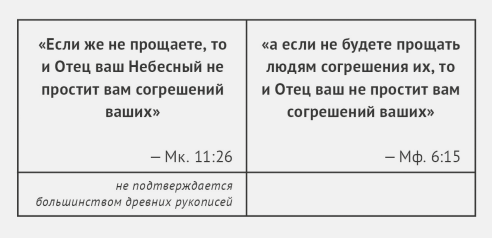
Параллельные места в Евангелиях
Если кто-то разбирается в древних рукописях, то это, конечно, бывший директор Британского музея выдающийся историк сэр Фредерик Кеньон. По вопросу о вариативности новозаветных текстов он пишет: «Количество рукописей Нового Завета, его ранних переводов и цитат из него в работах самых первых летописцев Церкви настолько велико, что истинный смысл каждого вариативного отрывка сохранился не у одного, так у иного автора, чего не скажешь ни об одной другой книге в мире».60 Стоит только представить себе, что «коэффициент достоверности» этого документа – 99,8%, и сравнить его с теми документами, которым большинство из нас привыкло доверять «на все сто», и всё становится на свои места. Ради интереса любой из нас может повнимательнее присмотреться к своим, например, паспортам или свидетельствам о рождении – большинство из нас при этом ждёт немало открытий. В моём, например, свидетельстве о рождении – две ошибки, правда, незначительные, но ведь это – на двух страничках, и этому документу не две тысячи лет!
А как насчёт Ветхого Завета? Ведь Евангелие относится к сравнительно недавней части библейской истории – всего 2000 лет тому назад – а какова мера достоверности ветхозаветных книг? Самый древний список Пятикнижия был обнаружен при раскопках сгоревшей ещё в 600 г. по Р.Х. синагоге в израильском городке Ейн-Геди. Точнее, археологи обнаружили основательно прогоревшее полено, которое при ближайшем рассмотрении оказалось свитком Торы середины II века по Р.Х., насквозь прогоревшим, да ещё и окаменевшим за четырнадцать столетий. Никакой физической возможности, развернуть его не представлялось, пока не изобретён был метод цифрового развёртывания. Свиток отсканировали рентгеном и загрузили в компьютер, а специальная программа уже развернула его в плоскость на экране монитора. Прочесть на сегодня удалось только девять слоёв, содержащих в себе строки из книги Левит. Так вот, строки эти оказались соответствующими тому тексту, который читается в Библии сегодня на 100%. Сто процентов, Карл! За семнадцать столетий текст этого документа не изменился буквально «ни на йоту» (י – от «йуд», самой маленькой буквы арамейского алфавита). Как такое вообще возможно?
Дело в том, что переписывали тексты в те времена совсем не так, как это мы делаем сегодня. Обычно мы прочитываем предложение и затем записываем предложение или, если слова незнакомые, прочитываем слово и затем записываем слово. В те времена, взяв страничку оригинала и чистый кусочек пергамента, переписчики переносили с одного носителя на другой букву за буквой, букву за буквой. То есть, именно так, как это делает компьютер, по одной единице информации – бит за битом. Это же – цифровая технология (только без компьютера)! Самые строгие школы копирования требовали, чтобы переписывание текста производилось задом наперёд, чтобы смысл слов не подсказывал переписчику каких-то его собственных идей. Он же не идеи копирует и даже не слова, а – буквы. Когда же страничка таким образом заполнялась, производился подсчёт знаков на оригинале и на копии. Если их количество расходится, значит, где-то допущена ошибка. А ведь точно так же компьютер сравнивает файлы, совершенно не понимая, что мы там написали или сфотографировали – по количеству бит в файле. Исправлять при этом разрешалось не более одной-двух ошибок на странице, поскольку, если их оказывалось три и более, следовательно, переписчик отвлекался или просто не владеет ремеслом в достаточной мере, чтобы поручать ему столь важное дело. Ошибка, допущенная переписчиком в имени Божьем или в имени одного из пророков, сразу дисквалифицировала его труд. В саму технологию копирования, таким образом, были включены и мотивация к исполнению этого труда со всем возможным тщанием, и механизм верификации текста. Весь содержащий недопустимое число ошибок текст смывался с пергамента водой и стирался песочком, кожа высушивалась, и вся страничка переписывалась заново. Учёные знают об этой практике не только потому, что она сохранилась в некоторых культурах до самых недавних пор, но и по многочисленным палимпсестам, дошедшим до нас из глубины веков. Палимпсесты – это такие рукописи, которые по только что описанной причине или ввиду, например, дороговизны писчего материала содержали сразу два (иногда даже более) текста – стёртый «нижний» и новый «верхний», которые современная технология, как правило, позволяет восстановить и прочитать. Так вот, на некоторых из них нижний отличался от верхнего всего на один-два знака. Эта же технология, естественно, была перенята и ранними христианами, хранителями и переписчиками новозаветных текстов, содержащих не только свидетельство о жизни Бога на земле, но и Его собственные слова! Хранились и передавались они с соблюдением всей возможной – практически стопроцентной – аккуратности и точности.
* * *
Казалось бы, кого не убедит подобная аргументация, да ещё подтверждённая статистическим анализом и впечатляющими графиками?! Мне, однако, в моей теперь уже многолетней миссионерской и духовно-просветительской практике приходилось встречаться с аудиториями, на которых доводы этого рода не производили особенного впечатления. Мне казалось, что я говорю со стеной − настолько неподвижными и непроницаемыми были почти три сотни глаз, устремлённых на меня в одном из пенитенциарных учреждений или, попросту говоря, тюрем города Брянска. А ведь как я молился, чтобы Господь усмотрел для меня какие-то, как я Его пытался уверить, более благодатные аудитории для моей презентации в этот день! Днём раньше я читал лекции в тамошнем университете, днём позже – на курсах повышения квалификации учителей, где я мог развернуть свою историческую аргументацию во всю ширь и мощь. Это было, конечно, далеко не «приглашение на казнь», но и приглашение в тюрьму, поступившее через местное миссионерское служение, звучало − и я честно признавался в этом Богу − не слишком привлекательно. Одно меня несколько успокоило и даже отчасти воодушевило – уверение человека, не первый год несшего служение в тюрьмах: «Там сейчас, может быть, сейчас собраны самые лучшие мозги страны, хотя, возможно, и самые извращённые тоже». Словом, готовился я серьёзно, выбирая только тот материал, который подействует наверняка, самые наглядные иллюстрации, самые очевидные свидетельства и факты, тщательно избегая статистических графиков, экскурсов в древнюю историю и т.д. И всё-таки проводить презентацию было неимоверно тяжело, видя перед собой ровный серый квадрат – пятнадцать рядов по пятнадцать мест – одинаково остриженных голов и без малейшей «обратной связи». Ни на мой юмор, ни на мои пламенные возгласы зал не реагировал вообще никак, хотя я старался и материал, и подачу сделать максимально доходчивыми изо всех моих сил, искренне веря, что, может, хоть для кого-то в этом полутёмном зале он окажется интересным и важным.
Однако отведённое мне время закончилось, серый квадрат по команде встал и рядами, по порядку, потянулся на выход. Ну вот, подумалось мне тогда, я честно «отработал» свой час и, на самом деле, трудился в полную силу, но – узнаю ли я когда-нибудь о том, насколько, вообще, это было кому-нибудь нужно и интересно? Каково же было моё удивление, когда ко мне вдруг подошёл один из офицеров и попросил, если возможно, продолжить презентацию. Конечно, согласился я, но – для кого? И тут оказалось, что в глубине зала, в таком же точно квадрате кресел, но не видном мне, сидит ещё человек пятьдесят в военной форме. Они быстренько перебрались на освободившиеся первые ряды, и мы с ними потом ещё целых, кажется, часа полтора, пока их не позвали на службу, занимались открытиями библейской археологии и свидетельством древних манускриптов со всеми графиками и со всей статистикой, какая у меня только была.
Господи, думал я при этом, почему же Ты мне сразу не дал знать про эту часть аудитории? А, впрочем, я не в претензии. Жёны-мироносицы ведь тоже не знали, кто отвалит для них камень, чтобы они могли совершить своё приношение.61 Наверное, и мне не обязательно всё знать наперёд, но обязательно быть, во-первых, там, куда я призван, и, во-вторых, быть готовым совершить тот труд, к которому я призван. Моё дело – принести миро, а не мучиться вопросом о том, кто и как будет отваливать камень в гробницу. Тем более что на ходу адаптировать свою презентацию к самым разным и порой совершенно неожиданным аудиториям, мне, по правде-то говоря, и самому очень нравится. Ведь при этом и сам начинаешь видеть и осмыслять некоторые, казалось бы, хорошо знакомые факты по-новому, глазами и восприятием иного знания, опыта или традиции.
* * *
Не менее увлекательным занятием оказывается применение наработанных методик и критериев достоверности древних текстов к иным вероучениям и религиозным традициям. Например, сравнение новозаветных текстов по коэффициенту искажения с Кораном, лежащим в основании вероучения ислама, выявляет его, ислама, совершенную неисторичность и даже, можно сказать, антиисторичность. Ведь, если, как утверждают мусульманские богословы, Коран содержит в себе подлинные изречения пророка Мухаммеда, то как, казалось бы, они должны были обрадоваться, когда в 1972 году в городе Сана (Йемен) при ремонте соборной мечети были обнаружены более 40 тысяч фрагментов отдельных списков раннего коранического текста. И, что особенно примечательно, – палимпсестов, в «нижнем» тексте содержащих его вариант на несколько десятилетий более древний, чем самый ранний манускрипт Корана, до сих пор имевшийся в распоряжении учёных. И эта вариативность не ограничивалась отдельными словоформами и диалектизмами. «Нижний» текст содержал более 1000 смысловых отклонений от более позднего («верхнего»), канонизированного столетия спустя. Казалось бы, самое время внести и в современный текст Корана, и в вероучения ислама соответствующие поправки, более точно отражающие слова великого пророка и основателя этой религии? Ничуть не бывало! Доступ историков и палеографов к манускрипту, мягко говоря, ограничили, а разногласия с каноническим Кораном объявили «несущественными». Точка. Коран, не подвергался и не мог подвергаться никаким изменениям. Почему? Да потому, что в этом заключается доктрина, вероучение ислама, даже если это противоречит свидетельству истории, элементарной логике и здравому смыслу. А между тем, коэффициент искажения, если предположить, что та тысяча смысловых разночтений, которые были обнаружены в тексте, распределены по тексту более или менее равномерно, окажется равен 15%.62 Это, однако, с точки зрения вероучения ислама – несущественно. Отлично известно, например, что сам калиф Усман, по приказу и под надзором которого многочисленные версии Корана, устные и письменные, были впервые сведены в канон, признаётся в замене требования побивания камнями за супружескую неверность, содержавшегося «среди прочего, что передавал Аллах», на бичевание.63 То есть замена смертной казни на не смертную – на тяжкое и позорное телесное наказание – не существенна? Думается, что для побиваемого она представляется весьма и весьма существенной. Известно также и личное признание любимой жены (одной из 11-ти или 13-ти) Мохаммеда Айши в том, что по смерти супруга она заменила десять сур о запрете кормления грудью на пять других сур, очевидно, более соответствующих её личному опыту и компетенции в данном вопросе.64 «Мы знаем об этих изменениях, но не признаём их искажениями», − обычно отвечают на это мусульмане.
* * *
Может быть, кстати, этим же объясняется и относительно невысокий интерес к теме историчности веры вообще среди традиционно мусульманских народов. Не раз и не два бывал я со своими лекциями в аудиториях по преимуществу мусульманских (скорее, конечно, в культурно-этнографическом, чем в религиозном смысле), например, в Чечне или Татарстане, и каждый раз поражался, как далеки были задаваемые участниками встреч вопросы от того, на что я особенно упирал, – вопросов исторической достоверности. Слушали, правда, всегда с огромным вниманием и почтениям к моему опыту, учёности и возрасту, но и спрашивали чаще всего о моём личном духовном и, особенно, мистическом опыте, о вере моих родителей или о конкретных «выгодах» веры христиан, по сравнению с их представлением об исламе. Забавно и то, что первые несколько вопросов на этих встречах были всегда почти идентичными, а потом вдруг круг интересующих проблем у моих слушателей резко расширялся, и они становились более личными и разнообразными. Только зайдя в одну из Владикавказских мечетей и потолкавшись в её притворе некоторое время в ожидании имама, который согласился со мной пообщаться, я обнаружил на её стенах плакатики и брошюрки с теми самыми пятью-шестью уже до боли знакомыми мне вопросами. Очевидно, мои слушатели считали своим долгом перед культурой и общественностью сначала «отстреляться» по требованиям инструкции, а потом, даже, кажется, не обращая особенного внимания на мои ответы, переходили к тому, что их интересовало на самом деле. Не без удивления я впоследствии стал и в православных храмах обнаруживать подобные брошюрки, построенные по принципу «как посадить в галошу мусульманина, буддиста или мормона». Интересно, кто у кого эту методику позаимствовал?
* * *
Кстати, о буддистах. Сравнение новозаветного свидетельства по этому же критерию – коэффициенту искажения – с основополагающими текстами Буддизма, так называемой Трипитакой (от санскр. «три корзины»), мягко говоря, «зашкаливает», ибо в состав её «корзин» разные буддистские конфессии включили от 55 до 230 томов этого текста. Заметим, не слов, не строк, не глав, а – томов. Причём, известно, что только первые две «корзины» исключительно устного предания были утверждены буддистским собором через три месяца после смерти принца Сиддхратха Гаутамы в качестве его духовного наследия, а третью добавил Четвёртый собор, состоявшийся 250 лет спустя, также в виде и качестве устного предания. Буддисты, впрочем, и не настаивают на непогрешимости своих текстов, ибо в самих текстах содержится вполне саморазоблачительная заповедь – не верить в то, что в них написано исключительно потому, что это в них написано. Однако, если и эта заповедь о неверии заповеди содержится в тексте, то и ей не следует верить? Но тогда… Уж очень это напоминает один из классических логических парадоксов: «Все критяне лжецы», − сказал один критянин.
И, наконец, третий параметр, применяемый к древним текстам для решения вопроса о мере их достоверности – насколько ранними являются дошедшие до нас рукописи? Понятно, что, чем ýже временной зазор между временем создания оригинала и самыми ранними дошедшими до нас копиями, тем меньше вероятность проникновения в них ошибок и разночтений, то есть, тем ближе они к оригиналу. Одно из самых распространённых обвинений, предъявляемых христианству начиная с XIX века, заключалось в том, что дошедшие до нас копии, якобы, отстоят от времени первоначального написания Евангелия на сотни и даже тысячи лет. Откуда и как могло вдруг сложиться подобное мнение? Очевидно, по аналогии с огромным большинством древних текстов, ибо это совершенно справедливо в отношении практически всех, например, античных авторов: Юлия Цезаря («Записки о Галльской войне» – 850 лет), Аристотеля («Поэтика» – 1450 лет) или Гомера («Илиада» – 500 лет). Однако этот метод «по аналогии» просуществовал недолго и постепенно уступает более научным подходам к документам древности, называемым палеографией и текстологией. И опять новозаветные рукописи, согласно самым современным научным открытиям, оказываются на один, на два и даже на три порядка ближе к своему оригиналу. Особого внимания, безусловно, заслуживает открытие, совершённое в 1996 году историком К. П. Тьедом в музее Колледжа Магдален (библиотека рукописей Оксфордского университета), – 100 лет пролежавший под спудом фрагмент Евангелия от Матфея с ошибочной более поздней датировкой, а, на самом деле, относящийся к 60-м годам первого столетия. То есть в распоряжении науки имеется фрагментарная копия новозаветного текста, созданная, вероятно, ещё при жизни автора оригинала. Как мы радуемся, когда удаётся обнаружить прижизненное издание «Евгения Онегина»! Оказывается, наука располагает «прижизненным изданием» библейского текста. И это не единственная рукопись, хотя и исключительная, а потому вызывающая среди учёных вполне законные споры.65 Гораздо более известен и уже не вызывает никаких споров манускрипт из библиотеки Джона Райлендза – фрагмент Евангелия от Иоанна, относящийся к первой четверти второго столетия, а следовательно, отстоящий от оригинала, написанного в последнее десятилетие первого века, всего на 20−30 лет. «Первым ударом, который был нанесён критикам подлинности 4-го Евангелия, явилась находка в 1935 фрагмента кодекса Ин (Папирус Райлендза № 457), относящегося к 125−130 годам по Р.Х.», – писал об этом открытии протоиерей Александр Мень.66

Египетская погребальная маска II в. н. э.
Одним из самых недавних открытий и даже, собственно, ещё происходящих на наших глазах, стала публикация в 2012 году исследования67 четырёх погребальных масок, обнаруженных археологами в Египте. Такие маски отошедшим в лучший из миров правителям изготавливали перед помещением их останков в саркофаг, однако эти конкретные, видимо, принадлежали не слишком уважаемым должностным лицам, ибо найдены были на раскопках городской помойки. Правителям посолиднее такие маски изготавливались из драгоценных металлов, серебра или золота, а правителям попроще их делали из папье-маше: клейкими листочками облеплялась форма, подсыхала, снималась и потом раскрашивалась красками. Так вот, когда одну из этих масок просвечивали рентгеном, то на листочках, из которых она была склеена, стал просматриваться текст. По фрагментам его, которые удалось восстановить, выяснилось, что это текст Евангелия от Марка (Мк 7:6–9, 17–18). Первоначальная датировка серединой-концом первого столетия совсем недавно была уточнена, и по состоянию на сегодня исследователи полагают, что, вероятно, это всё-таки середина второго века или даже несколько позже. В любом случае перед нами – список, отстоящий от оригинала на несколько десятков (не сотен и не тысяч!) лет. Возникает вполне законный вопрос: как же текст Евангелия угодил в эту маску? Дело в том, что бумаги в то время ещё не было (в Китае её изобрели, но не завезли на Ближний Восток), и папье-маше изготовлялось из очень дорогостоящего материала – папируса. Естественно, чистые листочки папируса рвать на кусочки для этого дела было жалко, и потому чаще всего использовались для изготовления форм те рукописи, которые так и так подлежали уничтожению. Если же вспомнить, какие именно рукописи в те годы «подлежали уничтожению» – а это время жесточайшего преследования христианства – то нетрудно понять, почему и Евангелию от Марка была уготована эта участь. Эту рукопись хотели уничтожить, но тем самым её сохранили! Похоже, без Божия участия тут не обошлось – Он и в самом деле способен обращать самое зло человеческое людям же во благо. «Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей».68
Как часто приходится слышать от скептиков, что вот, мол, такое число и такое качество дошедших до нас новозаветных рукописей объясняется тем, что христианство восторжествовало (по крайней мере, в Европе) и были созданы особо благоприятные условия для сохранения и распространения текстов. При этом как-то совершенно забывается, что далеко не всегда оно торжествовало, и как раз первые несколько столетий, когда рукописей были единицы, условия были далеко не благоприятными, а чаще и прямо христианству враждебными. И, тем не менее, более трети всего новозаветного текста – и эта цифра неуклонно увеличивается – дошло до нас в рукописях первого и второго столетий. Другими словами, дошёл этот текст до нас – такой древности, такого качества и в таком количестве, как ни один другой документ древности – не «благодаря» каким-то особенно благоприятным условиям, а как раз вопреки всем усилиям, приложенным к его совершенному уничтожению. Статистически Новый Завет до нас вообще мог не дойти, ни в каком виде, и поэтому, когда речь заходит о Богодухновенности Священного Писания, то не следует себе представлять, будто оно закончилось в тот момент, когда последний автор поставил последнюю точку в тексте. Тот же самый Дух Божий позаботился и о том, чтобы созданный таким образом документ дошёл до нас, причём – в убедительной форме.
* * *
Цифры, впрочем, впечатляют далеко не всех, и поэтому я всегда стараюсь представить эти сухие количественные данные, кроме того, ещё и в каком-то «графическом» формате – в виде таблиц, диаграмм или графиков, которые многими и воспринимаются легче, и запоминаются прочнее. Никогда невозможно и предугадать, какой именно факт или какая именно цифра сегодня вдруг «выстрелит», то есть произведёт именно на эту аудиторию, именно в этот день и именно в каком-то сегодняшнем уникальном контексте – событий, времени дня и года, географии и демографии, а также погоды, и даже освящения – наибольший эффект. Я под этим словом, конечно, подразумеваю не взрыв аплодисментов и не всплеск восторженного согласия с содержанием моей лекции или семинара. Скорее, это – то едва уловимое изменение, почти зримое дрожание в воздухе между аудиторией и мной, с которого и я, и аудитория, как бы оказываемся по одну и ту же сторону происходящего, становясь свидетелями захватывающего действия, разворачивающегося перед нами в истории – явления Бога людям, Богоявления. С этого момента и далее уже не я информирую своих слушателей о некоем событии, а мы вместе идём ему навстречу и приобщаемся ему.
В курсе науки общения, иногда называемой коммуникологией, магистерский курс которой я когда-то закончил (более всего из чистого любопытства к отчасти экзотитчному, до недавних пор отсутствовавшему в российской академической номенклатуре предмету), этот феномен иллюстрировался сообщающимися сосудами, наполненными жидкостью. Так вот, самый простой случай − это когда общение с аудиторией происходит по принципу переливания, что называется, из пустого в порожнее, то есть при соединении сосудов жидкость перетекает из одного (делающегося при этом всё более «пустым») в другой (делающийся всё менее «порожним»). Иными словами, от такого общения приобретает одна сторона за счёт другой: мне, миссионеру, приходится тратить своё время, преодолевать иногда немалые расстояния и затрачивать другие ресурсы, средства и усилия, чтобы от этого приобрела некоторые знания и навыки моя аудитория. Представим себе, однако, что сосудов не два, а три, и этот третий поистине безмерен и неисчерпаем по объёму, ибо свидетельство по Себе в истории человечества Господь оставил весьма щедрое и богатейшее. Тогда, моя задача как «магистра коммуникологии» совершенно меняется – я должен всего лишь обеспечить по возможности бесперебойное подключение своей аудитории к тому же бездонному источнику Божия откровения о Себе, которым питается и моя вера. Впрочем, это «всего лишь» тоже дорогого стоит, ибо пропускать-то такой поток приходится всё-таки через себя и – не механически, не долдоня одно и то же с утра до вечера, а так, чтобы и самому при этом продолжать напитываться из этого же источника.

Сообщающиеся сосуды
По этому поводу в мою бурсацкую бытность ходил среди семинаристов анекдот про профессора, жалующегося коллеге на то, какие ему сегодня попались бестолковые студенты: «Объясняю им догмат о Святой Троице раз – не понимают, два – не понимают, три – не понимают. Я уже и сам, наконец, понял, а до них никак не доходит!» Вот именно так – чтобы и до меня самого каждый раз «доходило» что-то новое по мере того, как я знакомлю своих слушателей с тем, что мне, казалось бы, отлично знакомо – я и стараюсь выстраивать свои презентации для каждой отдельной аудитории. А их в течение одного и того же дня у меня подчас складывается сразу несколько, причём очень и очень разных по составу, по числу, по возрасту, по мере заинтересованности и подготовленности.
Один из таких дней начался ещё затемно, когда по бодрящему раннему морозцу я, помнится, добежал от места своего постоя до школы, где у меня были два подряд открытых урока в 4-м классе по «Основам православной культуры». Будучи соавтором одного из школьных учебников по этому предмету69, должен же я уметь и проводить по нему уроки, причём показательные! А ведь уже многие годы я, что называется, «не практикующий» учитель, и адаптировать мой исторический материал под столь юную аудиторию, которая ещё не знакома ни с курсом истории Древнего Мира, ни с концепцией линейности времени и смены цивилизаций, представляло для меня задачу далеко не из лёгких. Саму тему достоверности Библии детки в этом возрасте воспринимают с огромным интересом и даже с какой-то жадностью: им, оказывается, чрезвычайно важно научиться отличать то, чего не было, от того, что было на самом деле и, в свою очередь, от того, что, возможно, и чего не бывает вовсе. С азартом накидываются они на примеры различных древних документов, применяя к ним полученный от меня «текстологический инструментарий», естественно, адаптированный мною для восприятия их возрастной группы: число манускриптов, древность рукописей и, конечно, свидетельства археологии, о которых речь в этой книге пойдёт чуть позже. Уже на перемене, за завтраком в школьном буфете, я отвечаю на их вопросы, теша и лелея в себе то забытое сладкое чувство, которое испытывает после трудного, но интересного урока не только учащийся, но и учитель.
Рассиживаться, однако, мне было некогда, и вот уже мчусь я, подхватив, что называется, подрясник (умозрительный, ибо в церковный сан я, по грехам моим, не рукоположен), с двумя пересадками в другой конец города на лекцию, которую имею честь представить вниманию слушателей высшего учебного заведения военно-медицинского профиля. Раскрыв в троллейбусе, буквально на коленке, свой ноутбук (потому он и называется – «лэптоп»), сменяю утреннюю школьную презентацию на более взрослую и обстоятельную, а также с примерами и иллюстрациями, по возможности, близкими моей предстоящей аудитории – из военной истории и медицины – над поиском и отбором которых посидел пару предыдущих вечеров. И вот я, слегка запыхавшись, вношусь в лекционную аудиторию и, уже настраиваясь и подключаясь к проектору и динамикам и внутренне усердно молясь и о себе, и о своих слушателях – чтобы техника сработала, чтобы впопыхах ничего не забыть, и чтобы они тоже «подключились и настроились» – слышу краем уха слова их профессора, отдавшего мне свою пару: «Пожалуйста, сегодняшнего лектора слушайте особенно внимательно, ибо то, что он вам сегодня расскажет, вам понадобится тогда, когда всё остальное, чему вас здесь учат, уже будет не нужно и не важно». Вот это да! Значит, мне надо будет как-то так эту лекцию сейчас прочитать, чтобы она не просто была внятна и содержательна, но и чтобы вспомнилась потом – в последнюю минуту жизни этих ребят или, может быть, тех, кого им придётся перевязывать, оперировать или вытаскивать с поля боя. Я-то думал, что самая трудная для меня на сегодня задача уже была решена мною с утра пораньше, а университетских аудиторий я в своей жизни повидал немало и уж тут-то никаких неожиданностей для себя никак не ожидал.
Не раз и не два в своей жизни давал я себе зарок не «прогнозировать» своих слушателей, ибо каждая группа, да и каждая отдельная душа и судьба человеческая совершенно уникальны и абсолютно непредсказуемы. Ещё в бытность свою консультантом по размещению и трудоустройству беженцев в миннесотской христианской благотворительной организации, которой я посвятил почти десять лет своей жизни, я должен был бы выучить этот простой, казалось бы, урок – каждую прибывающую семью встречать и с каждой из них знакомиться лично, прежде чем решать за них их дальнейшую судьбу. Бывало, едва ознакомившись с их документами, я уже решал для себя, что папу мы устроим туда-то водителем, а мамочку – сиделкой по присмотру за старушками, а деток – в такую-то школу и т.д. И вдруг, при первой же встрече с ними в аэропорту, выясняется, что как раз мамочка обладает очень востребованной специальностью; а папочка, наоборот, у них, что называется, − домохозяин, обожает кухарить и воспитывает их многочисленных деток; а бабушка, которую я и вовсе списал со счетов, – доктор наук, знает шесть языков и буквально «рвётся в бой» по академической стезе. Все мои планы и расчёты летят в тартарары, а сам я не могу нарадоваться на то, как ещё раз Господь смирил меня-всезнайку, а заодно и благословил знакомством с такими уникальными людьми и возможностью участия в их жизни.
Мои военные медики, правда, оказались в тот раз первокурсниками, мотивацией к учёбе не отличавшимися – впереди ведь ещё годы и годы лекций, семинаров, ординатур и экзаменов – а потому слушавшими меня вполуха и оживлявшимися только на тех тщательно подобранных мною иллюстрациях и шуточках, на которые я, впрочем, и рассчитывал. Никаких цифр и графиков они, понятно, не запомнят, а вот юмором и живыми примерами из сегодняшней презентации они, может, ещё и с другими при случае поделятся, а значит, и в памяти они потом задержатся надолго, и вспомнятся как-нибудь кстати.
А я тем временем вновь пересекаю уже чуть сумеречный город на задорно позванивающем трамвайчике, спеша на свою следующую презентацию – для епархиальных миссионеров и катехизаторов. В тот раз я нарезал своё расписание слишком тонко, и три столь разные и в разных концах города презентации в один день это скорее исключение, чем правило. Однако не отказываться же мне от такой благословенной возможности служения только потому, что она ну никак иначе не влезает в мой лекционный график! Тем более что последняя моя аудитория – самая лёгкая: это люди, посвятившие себя труду благовестия и пришедшие на встречу после работы или учёбы по собственному своему желанию и внутреннему побуждению. Никаких поэтому особенных вводных слов и долгих введений от меня не требуется, и мы сразу приступаем, что называется, «к мясному блюду» – фактам и свидетельствам исторической науки. Довольно скоро выясняется, что народ в группе подобрался грамотный, и большая часть материала, по крайней мере, десятилетней и более давности им хорошо известна по книжкам и публикациям на сети. Пройдясь по наиболее недавним открытиям и обновлениям в статистических данных, мы с ними переходим к вопросам практического применения всего этого багажа и инструментария. Тут мне приходится, во-первых, опять на ходу перестраиваться и, во-вторых, собирать всё своё внимание и весь свой опыт вокруг очень конкретных вопросов, стоящих перед моей аудитории именно в их городе, именно в это время, именно в той культурной, этнической, возрастной и т.д. среде, в которой каждому из них выпало нести служение учителя воскресной школы, ведущего огласительных встреч или миссионера. При этом выясняется, что какого-то одного, готового и универсального ответа у меня не имеется и что этот конкретный ответ на этот конкретный вопрос искать нам приходится вместе, собирая, аккумулируя наш опыт, осмысляя его и находя ему применение в каждом отдельно рассматриваемом распределении сил, ресурсов, обстоятельств, личностей и судеб. А ведь это огромный труд и колоссальная ответственность. Вот где мне приходится особенно туго, и где все остальные сегодняшние мои презентации уже представляются лишь подготовкой к тому, что я смогу хоть сколько-нибудь вразумительно сформулировать в конце этого бесконечно долгого дня. Мысленно воззвав о помощи к Небесам, я немедленно получаю на свои молитвы и ответ в образе ночного сторожа, безоговорочно прекратившего наше задолившееся обсуждение и выдворившего всю компанию под звёзды. Благодаренье Богу, что у кого-то из моих слушателей оказалась машина, и они, тоже по счастливому совпадению, обитали примерно в той же части города, где и я на этот раз нашёл себе пристанище в пустующей квартире друзей. Доброхотов и охотников продолжить обсуждение на ходу, правда, ожидало горькое разочарование, ибо как только они завели двигатель, у меня немедленно сработал за много лет выработанный рефлекс миссионера – спать в любом положении и в любых обстоятельствах – и я мгновенно выключился на заднем сидении в обнимку со своим рюкзачком. «Мы как раз собирались спросить у вас...» – последнее, что я слышу, уже отбывая в царство Морфея в предвкушении того недоеденного второпях, да так и задвинутого в холодильник завтрака, который собственно станет для меня и обедом, и ужином. Если не считать школьного творожка с жиденьким чайком, во рту моём, начиная с рассвета и до исхода дня, не было ни маковой росинки.
Зная, как много – как минимум, десять раз в год – мне приходится пересекать Атлантику в моих миссионерских поездках, не считая перелётов вдоль и поперёк одиннадцати часовых поясов нашей необъятной державы, меня часто спрашивают, как я борюсь с джетлагом (переменой часовых поясов после долгих перелётов). Ответ очень прост: как только я прикасаюсь к сидению самолёта, и пока бортпроводники ещё рассаживают пассажиров, я уже сплю сном праведника, а просыпаюсь порой, когда экипаж уже выходит из самолёта и вдруг замечает одного из пассажиров, мирно посапывающего у окошечка. Спать, как космонавт, по приказу, где и сколько придётся, а также есть всегда и всё, что оказывается перед тобой на тарелке, – вот два важнейших миссионерских навыка, которым, к сожалению, нас не учили в семинарии. Никогда не знаешь, как сложится твой день.
Как быть с апокрифами?
И это ещё хорошо, когда аудитории попадаются благожелательные и расположенные, по крайней мере, выслушать докладчика, не перебивая или не выражая как-то ещё своё заведомое неприятие и его самого, и чего бы он там ни говорил и ни показывал на экране! Правда, оригинальности в вопросах и разнообразия в поводах к неприятию исторического свидетельства о Христе я с опытом замечаю всё реже. Вопросы скептиков зачастую оказываются настолько хрестоматийными, что ответы на них можно было найти на страницах уже самого Нового Завета. Правда, отсылка к ним лишь поднимает следующий пласт проблем, как им кажется, абсолютно неразрешимых, как то, например: на каком основании те или иные древние церковные тексты относятся к новозаветному канону, а иные отвергаются и называются «апокрифическими»? Ну, во-первых, само это слово, буквально означающее «древне-скрытое» (от греч. ἀπό-κρῠφος), лишь отчасти отражает суть явления, поскольку уже давно они не «скрываются», а, наоборот, широко публикуются; и, во-вторых, исторически они тоже никогда особенно ни от кого не прятались, но существовали как параллельная письменная традиция, из которой церковная культура из века в век черпала известную долю мудрости и вдохновения. Вовсе не следует думать, что эти апокрифы были каким-то образом «утеряны»70 и вдруг в недавние времена обнаружены или раскрыты к вящему восторгу современных скептиков и торжеству истины. Согласно исследованиям одного из ведущих историков христианства Ф. Дженкинза из Бейлорского университета, «распространённое мнение о церковной истории, приписывающее исчезновение конкурирующих произведений христианской литературы изначальным гонениям на них “официального” православия, является совершенно мифическим. Напротив, многие из них находились в обращении до времён Средневековья и даже позднее, зачастую оказывая влияние на в остальном вполне православных христиан».71 И, наконец, те критерии, по которым они относятся как раз к тому, что позже было названо апокрифами и не было включено ранней Церковью в состав новозаветного канона, состоящего из свидетельств современников и свидетелей событий, были теми же самыми, на которых основано и отнесение их к этой категории современными учёными текстологами. А именно:
− множество чаще всего не оправданных ни смыслом происходящего, ни контекстом, но подробнейшим образом описанных чудес. Например, в «Евангелии Петра»72 – крест (относительно поздний христианский символ), выходящий из гробницы вместе с воскресшим Христом. Чудесные явления и события были, по мнению более поздних авторов, призваны убедить читателя в сверхъестественности Христа, в то время как для Его современников и свидетелей Его земной жизни бывало порой труднее поверить как раз в Его человечность (то за духа принимали, то за привидение), а потому чудесам в канонических Евангелиях отводится гораздо более скромное место и вполне определённая контекстом роль;
− в описание событий вводятся обстоятельства, поясняющие или оправдывающие слова и поступки участников событий (например, представителей Римской власти или самих апостолов), в то время как первоначальные тексты описывают их зачастую нелицеприятно, а порой и беспощадно. Понятно, что написанные авторами, жившими уже в тот период, когда Римская империя стала христианской, тексты и не могли содержать прямой критики власть предержащих, а официальная Церковь зорко следила за тем, чтобы первоапостолы представлялись в появляющихся на свет литературных источниках в самом лучшем свете;
− заметно ослаблена связь новозаветных событий с ветхозаветными пророчествами, историческими сюжетами и богословием. Для современников-иудеев она была гораздо более очевидна, чем для авторов апокрифов, не имевших еврейских корней или живших после разрушения Иерусалима римлянами в 70 г. по Р.Х. в рассеянии, в зачастую весьма отдалённых провинциях империи. Ветхозаветные мотивы порой дополняются какими-то местными колоритными фольклорными деталями, темами и сюжетами;
− в апокрифах, как правило, либо полностью отсутствуют, либо значительно ослаблены апокалиптические мотивы, в то время как авторы-современники земной жизни Христа ожидали Его скорого второго пришествия и, соответственно, скорого конца света. Однако проходили годы и десятилетия, поколение сменялось поколением, Страшный Суд над всем творением всё никак не наступал, а, следовательно, наставало время задуматься на темы личного спасения каждого в отдельности, осмысления и накопления общецерковного опыт, который будет необходимо передать и следующим поколениям. Мотивы конца света в более поздних текстах уступают место тематике индивидуальной и общинной сотериологии;
− современные учёные, кроме того, отмечают, что греческий язык апокрифов, заметно отличается грамматически от «койне» первого столетия, на котором написаны новозаветные тексты, и относится скорее к «святоотеческому периоду». Для того, впрочем, чтобы отличить язык своего времени от позапрошлого века или какой-то отдалённой территории, и лингвистом быть не обязательно – большинству из нас не составит особенного труда отличить современный текст от, скажем, дореволюционного (с ерями» и ятями) или иммигрантскую газету (со множеством варваризмов) от российской. Вполне под силу это было и учёным мужам второго и третьего столетий, когда складывался новозаветный канон.73 Без особого труда могли они различать и датировать документы, кроме того, и по материалу, на котором они писались, и по особенностям графики точно так же, как мы с лёгкостью отличаем, скажем, журнал «Работница» за 1975 год от современного нам гламурного журнала с точностью до года, а модницы – до сезона!
Нагляднее же всего эта разница видна при сравнении тех же или схожих событий, описанных в каноническом тексте и в апокрифе. Возьмём для примера сцену Вознесения Христова, которая описывается в Новом Завете одним и тем же автором, евангелистом Лукой, дважды, и оба раза – чрезвычайно кратко, меньше стиха: «И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо» и «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их».74 Так событие описано в хронике, а вот как выглядит Вознесение Богородицы в апокрифе V века: «С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины пресвятую душу Богоматери, на руках Господа грядущую в горние обители. Святые апостолы, удостоившиеся видения, умиленными очами провожали Матерь Божию, как некогда Господа, возносившегося с Елеонской горы; они долго стояли, испытывая ужас и как бы находясь в забытьи. Придя в себя, ученики Христовы поклонились Господу, со славой вознесшему на небо душу своей матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лицо преблагословенной Девы Марии сияло, как солнце, и от пречистого тела Ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь, на земле, невозможно и найти. Все верующие, благоговейно почитая пречистое тело, лобызали его со страхом; от честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех прикасавшихся к нему. Болящие же получали исцеление: слепые прозревали, у глухих отверзался слух, хромые выпрямлялись, бесы изгонялись, всякая болезнь совершенно исчезала от одного только прикосновения к одру Божией Матери»75. Это, при всём уважении, уже – лирика. Безусловно, и то, и другое важно, интересно и ценно, но давайте не будем, как говорят, путать Божий дар с яичницей.
* * *
О готовности человека по достоинству оценить представленное ему свидетельство, отделив его от возникающих по ходу дела личных (зачастую предрассудочных) ассоциаций и скорых интуитивных предположений, мы, как правило, заранее не знаем, но в какой-то момент она, что называется, «срабатывает». Самому мне не часто доводится знать о мере этой готовности среди моих слушателей, но бывают и исключения. Так, однажды, по окончании презентации для школьных учителей-историков в одном дальневосточном городе, ко мне подошёл молодой человек и довольно, как мне показалось, настоятельно и даже бескомпромиссно предложил прямо сейчас провести ещё одну – для, как он выразился, крайне заинтересованной аудитории. От столь заманчивого предложения я, конечно, отказаться не мог, и поинтересовался лишь, сколько времени у меня есть на подготовку. Оказалось, аудитория уже собрана, уже ждёт и не разойдётся, пока я не приеду. Слегка оторопев от такого счастливого стечения обстоятельств – обычно на то, чтобы собрать аудиторию организаторам требуется несколько дней – я был тут же посвящён и в его разгадку: молодой человек приглашал меня в городской нарко-реабилитационный центр. Ходьбы до него − то вверх, то вниз, по едва различимым после вчерашнего бурана тротуарам этого трёхмерного, зажатого между сопок, города − было минут двадцать. Этого времени мне как раз хватило, чтобы услышать самое главное – почему мне непременно надо провести встречу нынешним вечером: «Мы вас не торопим. Скажите всё, что у вас есть, потому что у некоторых из ваших нынешних слушателей может не достать мотивации дожить до завтрашнего утра, если вы не убедите их сегодня». Ни много, ни мало: этих совершенно незнакомых людей мне, совершенно незнакомому им человеку, нынче же вечером требуется уговорить довериться Богу, чтобы кто-то из них сегодня же ночью не покончил с собой. Я всегда понимал, что вопрос о вере это, по сути, вопрос о жизни и смерти, но никогда не вставал он передо мною столь зримо и бескомпромиссно. Почему-то устроители этой поздней вечерней встречи решили, что не пламенные проповеди и не слёзные увещевания нужны этой полутора дюжине мужчин и женщин, а сухие научные данные, сведения и цифры, взывающие к их сознанию, образованию, опыту, как мне казалось, изрядно заброшенным и давно не востребованным. Признаюсь, я поначалу сам слабо верил в действенность того, во что ввязался, почти час старательно просверливая в толще первоначального скепсиса и равнодушия хотя бы мельчайшее отверстие для доверия и надежды. Труды мои, однако, постепенно начинали оправдываться, вероятно, по вере и молитве всё тех же милейших организаторов памятного для меня вечера. Вот уже кто-то из слушателей улыбается моим шуткам, кто-то одобрительно кивает на узнаваемые по какому-то прежнему опыту образы и исторические факты, а кто-то уже и толкает в бок зазевавшегося соседа – смотри, мол, на экран, а не в потолок. И вот, я уже развёртываю свою презентацию в полную мощь, привлекая, кроме исторического, ещё и церковный опыт, и собственное своё свидетельство, и примеры из классической литературы. При этом оказывается, что это я не вполне был готов к такой встрече, а аудитория моя только того и ждала, чтобы тот Бог, о Котором они уже так много слышали в этом христианском «ребцентре», оправдал их чаяния – оказался вполне реальным, то есть, пребывающим и действующим в той же самой реальности, в которой живут они, я, их город, страна и всё земное человечество. Уже далеко за полночь, добравшись по сугробам и метели до своего ночного пристанища, судорожно вспоминая, не забыл ли я сказать сегодня что-то самое важное, и, пытаясь оценить, насколько я оправдал ожидания устроителей этой встречи, я, конечно, уже горько корил себя за несобранность и забывчивость: и этот факт я не упомянул, и этот довод нужно было привести более доходчиво и убедительно, и эти акценты для лучшего запоминания расставить иначе. Одна надежда и одно упование позволили мне отойти ко сну, если не с лёгкой душой, то, по крайней мере, с сознанием не вполне проваленной миссии – Господь «и намерения целует».76
Наверное, никогда в своей земной жизни я не узнаю о судьбе тех своих ночных слушателей, как почти никогда мне не достаётся радости оказаться свидетелем преображающего действия истины на конкретные судьбы людей, которым мои лекции и семинары хоть отчасти помогли в её поиске. На это уходит, как правило, гораздо больше времени, чем длится моя презентация, а на одном месте я задерживаюсь ненадолго. Мои американские коллеги-миссионеры однажды, правда, спровоцировали меня на применение распространённой у них методики – анкетирования слушателей по окончании презентации – в моей российской аудитории. Как сейчас помню, проводил я её тогда в одном из приходов, и собрался на неё народ самый разный: и постоянные прихожане, и приглашённые ими родственники, и случайные «захожане», клюнувшие на соблазн бесплатного обеда после службы и заморского лектора на объявлении при входе в храм. Презентацию я, соответственно, построил таким образом, чтобы и верующим было не скучно, полезно и интересно, и неверующих она как-то побудила бы к решающему шагу. С благословения настоятеля, тоже, кстати, заинтересовавшегося лекцией, я по окончании встречи раздал участникам стандартную – с множественным выбором – миссионерскую анкетку с просьбой отметить галочкой один из предложенных вариантов:
− лекция вам не понравилась и показалась неубедительной;
− лекция показалась вам довольно любопытной, но вы ещё не готовы уверовать в Бога;
− лекция подвела вас к принятию решения о вере в Бога, и вы впервые помолились Ему.
Каково же было моё удивление, когда практически все участники встречи, отметили последний вариант ответа. Включая настоятеля. Вполне закономерно, что на свой формальный вопрос я получил и столь же формальный ответ, впрочем, вполне положительный. Мне, по-видимому, не следует непременно и немедленно ждать какого-то зримого результата и ощутимого плода своего труда. Он – лишь часть, и, может быть, не самая существенная, того порой сложного и долгого пути, который проходит человек в своей жизни навстречу Богу и который я удостоен чести и радости разделить с ним.
* * *
Очень может случиться, что даже и эта малая часть будет заключаться не столько в направлении и устремлении человека в нужном направлении, сколько всего-навсего в ограждении его от ошибочных и непродуктивных шагов, уже кем-то однажды пройденных. Православие ведь, в частности, замечательно и отличительно от некоторых других христианских традиций как раз тем, что оно кумулятивно, то есть ценит не только тот немедленный и непосредственный опыт Богообщения и Богооткровения, который испытывает человек сегодня во время молитвы, чтения Писания или участия в богослужении, но, в особенности, то, как он вписывается в весь предыдущий опыт многих поколений людей, собранный, осмысленный, сформулированный и бережно сохранённый церковным преданием. Этот опыт, отражённый в документах, оставленных нам отцами церкви первых веков христианства – философами, историками, священниками и богословами – оказывается совершенно необходимым и для развенчания некоторых весьма распространённых представлений о, якобы, позднем происхождении новозаветных текстов. Как, например, быть с тем фактом, что уже в документах конца первого и начала второго столетия обильно цитируется Новый Завет? «Кроме текстологического свидетельства греческих рукописей Нового Завета и ранних манускриптов, в распоряжении исследователя имеются бесчисленные цитаты в составе комментариев, проповедей и других трудов ранних отцов Церкви. На самом деле, эти цитаты настолько обширны, что даже если бы всё остальное наше знание о новозаветном тексте оказалось уничтоженным, их одних было бы достаточно, чтобы восстановить практически весь Новый Завет», – свидетельствует текстолог Брюс Мецгер.77 Из 20 тысяч стихов Нового Завета только 11 не встречаются у святых отцов, и вот лишь несколько примеров того, насколько ранним и насколько частым оказывается это цитирование:
– 110 по Р.Х. – Поликарп, епископ Смирнский, цитирует и ссылается на 18 новозаветных писаний, в том числе все четыре Евангелия;
– 108 по Р.Х. – Игнатий Богоносец, епископ Антиохийский, цитирует и ссылается на 24 новозаветных писаний, в том числе все четыре Евангелия;
– 96 по Р.Х. – Климент, папа Римский, цитирует и ссылается на 11 новозаветных писаний, в том числе Евангелия от Матфея, Марка и Луки (Евангелие от Иоанна ещё находилось в процессе написания).
Из 27 новозаветных книг 25 имели хождение в Церкви уже к 95 году по Р.Х., а, если они цитировались, значит, во-первых, они были известны (не имеет смысла цитировать никому не известный источник), и, во-вторых, они пользовались авторитетом (не имеет смысла цитировать то, чему никто не верит). И, согласимся, крайне трудно было бы цитировать то, что будет написано лишь 350 лет спустя.
Причём, эти цитаты накладываются на период жизни современников, участников и очевидцев и Христовой жизни, Его деяний и Его учения, и, по крайней мере, на полстолетия, то есть на поколение отстоят от периода, типичного для начала формирования легенд и мифов (два-три поколения). Самые же ранние новозаветные рукописи датируются временами, когда большинство очевидцев и участников событий были ещё очень даже живы, а, стало быть, евангельские повествования, если бы они были ложными, были бы легко опровергнуты, а авторы их осмеяны. Никому и в голову не пришло бы ни переписывать, ни распространять их – подчас с риском для жизни – ни, тем более, ссылаться на них в качестве авторитетных и достоверных источников. Во всяком случае, разрыв между самыми ранними дошедшими до нас новозаветными текстами и временем создания оригиналов абсолютно ничтожен и несравним ни с одним другим из источников древней письменности, нам знакомых. Ближайший по этому параметру источник – Вергилий – уступает Новому Завету в 20 раз. С известной долей пристрастия поэтому мы должны относиться к утверждениям, порой встречающимся даже в академической литературе (правда, ещё 70-х годов) и содержащим, например, такое научное мнение: «Написанию христианских сочинений (курсив мой – О.В.) предшествовала длительная устная традиция. Примерно около полувека христианство распространялось, прежде всего, благодаря устным проповедям и рассказам».78 Если, как мы только что убедились, в распоряжении науки имеются копии, датированные серединой и концом первого столетия и отстоящие от времени написания оригинала на 20−25 лет, то о каких «полувеках» ведёт речь автор этого вполне солидного научного издания? Объяснение этому арифметическому казусу следует искать не только в том, что некоторые манускрипты были обнаружены и датированы лишь в последние десятилетия, но и в том, что на мнение учёного оказывалось немалое давление той безбожной идеологии, которая царила во времена «расцвета застоя». По счастью, большинство историков не «творили» историю, а, как им и подобает, исследовали её, однако помнить о том, что даже солидные с виду публикации могут содержать продиктованные веянием времени заключения, безусловно, стоит.
* * *
Моя встреча со школьными учителями-историками лет пять тому назад может, мне кажется, послужить тому вполне показательным примером. Началась она, правда, с некоторого недоразумения: учителей пригласили на час раньше, чем лектора, как мне потом объяснили, потому что «они всё равно всегда собираются с опозданием», и организаторам было бы неловко, если бы мою презентацию пришлось из-за них задерживать. Но ведь и я, будучи человеком по большей части пунктуальным, явился на час раньше, чтобы оглядеться, отдышаться, подключиться, да заодно почаёвничать и поближе познакомиться с организаторами лекции, которых знал только по переписке. То-то мне показалось несколько странным, когда, войдя в актовый зал, я обнаружил его уже почти полным, но, подумал я, мало ли что у них тут ещё происходит, помимо моей лекции. Расставив и настроив свою аппаратуру – ноутбук, проектор и динамики – я со спокойной душой отправился в учительскую, пообщался там со школьной администрацией, любезно предоставившей нам место, погонял с ними кофейку с булочками под всегдашние учительские разговоры о том, о сём. Не шатко, не валко подтянулся я, таким образом, ровно час спустя снова к актовому залу и, ничтоже сумняшеся, поздоровавшись и представившись, бойко начал свою презентацию. Теперь-то я отлично себе представляю, как выглядел этот заморский хам в глазах нескольких десятков учителей, заставивший их битый час ждать себя и даже не соизволивший попросить за это прощения. И после этого он ещё чему-то собирался их учить, называя свои лекции (вы только подумайте!) духовно- просветительскими! На протяжении последующих двух часов я испытывал почти физическое неприятие всего, что и как я говорил или показывал, да и, похоже, самого моего присутствия. Как я ни старался, и как я внутренне ни молился, чтобы пусть не я сам, но чтобы хоть мои материалы и доводы каким-то образом преодолели тот барьер, которым от меня отгородилась моя аудитория. Дело шло крайне туго. В таких случаях (а они по разным, и отчасти так мною и не разгаданным, причинам случались со мной и раньше) я уже не паникую, как прежде, а ищу в своей аудитории хоть одну или хоть несколько пар глаз, которые смотрят на меня, по крайней мере, с меньшим неприятием, чем все остальные. Переводя свой взор с одного лица на другое по ходу изложения того или иного довода, я всегда возвращаюсь к этим глазам, когда подхожу к выводу или заключению. В нормальном случае таких лиц оказывается большинство, и, наоборот, всего одно или лишь несколько глаз так и остаются «непроницаемыми». Но на этот раз от меня потребовалось просто невероятное терпение и настойчивость, чтобы, несмотря на очевидное сопротивление аудитории, «выдавать на-гора» сто или даже сто двадцать процентов и материала, и убедительности. Строчка из песни В. Высоцкого мне всегда приходит в таких случаях на память и очень помогает собраться, когда мне почему-то кажется, что что-то не так с моей аудиторией или со мной самим: как бы то ни было, «пусть я честно выпеваю ноты!»79
Мои старания постепенно начинают приносить плоды, и вопросы, которые я прошу задавать мне по окончании презентации, звучат, хоть и всё ещё с явным вызовом, но уже, по крайней мере, конструктивно, например: «Вот вы, уважаемый коллега, нам тут приводили свидетельства текстологии и библейской археологии. Но ведь мы же учились на исторических факультетах вполне солидных педагогических университетов, но почему-то же наши профессора нам ни про какую такую “библейскую” археологию никогда ничего не рассказывали?» Приходится мне со всей возможной деликатностью и тактичностью напомнить уважаемой коллеге, что, поскольку мы с ней примерно одного возраста, то и учились, следовательно, в те заповедные времена, когда за таковое преподавание наш профессор немедленно потерял бы, если не голову, то, вполне вероятно, возможность ею в дальнейшем продуктивно пользоваться на благо отечественного просвещения. Однако с тех пор, во-первых, благодаря большей открытости мира и современным цифровым технологиям стало доступно великое множество накопленных исторической наукой свидетельств и открытий; во-вторых, с каждым годом самих этих артефактов появляется на свет всё больше и больше. Школьный учитель уже просто не имеет права заканчивать своё образование университетом и потом, наработав в течение двух-трёх лет даже, может быть, очень хорошие и вполне эффективные методики, до самой пенсии повторять их из года в год и из класса в класс. Воззвав к профессионализму и учительской гордости своих коллег, я, как это сразу всем стало понятно, встал на их сторону. Мы дружно пообсуждали с ними радости и тяготы учительской доли, а заодно прояснили и то досадное недоразумение, которое их изначально настроило непримиримо, а меня, в свою очередь, боевито. В конце концов, именно благодаря ему я сегодня был вынужден особенно выкладываться. Посыпав голову пеплом и нижайше испросив у них прощения, я, тем не менее, чувствовал, что изначально возникшее между нами напряжение никак не проходило (как говорят, «ложки нашлись, но осадочек остался»), и, устремляясь к дверям, почти никто не остановился, чтобы взять со стола дополнительные материалы или сказать спасибо за лекцию. Я уже сворачивал провода и упаковывал в рюкзачок свои пожитки, когда вдруг услышал у себя за спиной негромкий голос направлявшейся к выходу учительницы: «Вы сегодня здесь были ради меня». Это было настолько неожиданно, что я даже не сообразил оглянуться и посмотреть, кто это сказал, и элементарно поблагодарить за эту, столь нужную мне в этот момент, поддержку. Вот таких ангелов80 посылает нам Господь, когда знает, что она нам абсолютно необходима, чтобы спокойно и радостно продолжать тот труд, к которому Он нас призвал.
* * *
Кстати, о призвании. Оно для верующего человека сформулировано в Новом Завете императивом, вполне определённым и недвусмысленным: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчёта (греч. – απολογία) в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением».81 То есть не за уши человека призваны мы тащить в церковь и не заставлять его поверить, насилуя его волю, в то, во что верим мы, а представить свидетельства: своей собственной жизни, исторической науки, опыта Церкви, гениальных прозрений учёных и художников, – чтобы это самое важное в своей жизни решение человек принял лично, ответственно и осведомлённо. Люди, конечно, приходят к вере в Бога и совершенно иными путями: под влиянием вдруг охвативших их чувств, под давлением обстоятельств, да и просто – за компанию. Только вот и эмоции, и обстоятельства и, уж конечно, компании имеют свойства крайней изменчивости и преходящести. Если же вера человека, пришедшего к Богу пусть даже совсем не логическим и не интеллектуальным путём, зиждется всё-таки на фактах, то стоять в своей вере он будет твёрже и делиться ею с другими станет охотнее. Бывают ситуации, когда эти факты вовсе не нужны, – так и оставьте их в покое, никуда они не денутся. Когда же они вдруг снова занадобятся, то обнаружить их можно будет на том же самом месте, где вы их оставили в последний раз. Да их ещё и больше стало за это время.
Где вещественные доказательства?
Итак, свидетельства о земной жизни Христа дошли до нас, как мы установили, в документах, с точки зрения качества исторических текстов, не имеющих себе равных, и то, что было написано в оригинале, дошло до нас в сохранности, которой не может похвастаться ни одно другое повествование на свете. Если историки о каких-то событиях древности вообще что-то знают, то о событиях новозаветной истории они знают из источников самых многочисленных, самых древних и самых достоверных. Но, заметит скептик, говорят ли правду эти источники? До сих пор нами рассматривались лишь «внутренние» свидетельства – древний текст сам давал показания о своей достоверности: количеством имеющихся в распоряжении учёных копий, их сохранностью и древностью. Так ведь это и понятно – о самом-то себе всякий свидетельствует! А нет ли свидетельств «внешних», независимых, так сказать, «вещдоков»? Самим фактом своего долгого и неприкосновенного существования Евангелие ещё не доказывает своей истинности. Откуда мы знаем, что Новый Завет описывает события, имевшие место в действительности и происходившие именно так, как они описаны: именно там, именно тогда и именно таким образом? Как, вообще, проверяется историческая состоятельность, правдивость того или иного письменного источника? И, соответственно, можем ли мы подвергнуть Новый Завет подобному анализу? На эти вопросы вот уже около двух с половиной столетий буквально лопатой из-под земли выкапывает ответы относительно молодая наука под названием «древневедение» или по-гречески – археология.
Начинают археологи, как правило, с древних текстов, изучают их и производят раскопки на месте описываемых событий, и добытые при этом находки (артефакты) либо подтверждают, либо опровергают, либо уточняют содержание исходного документа. Если в нашем случае речь идёт о действительно реальном историческом событии и достоверном историческом документе, то учёные получают полное право и основание применить к ним весь исследовательский аппарат этой науки. Причём полезно это, а подчас и необходимо не только скептикам, но и людям, как иногда говорят, «глубоко» и «истинно» верующим. Ведь если моя вера в чём-то не основательна или не состоятельна, то я хочу быть первым, кто об этом узнает, чтобы не морочить голову ни себе, ни другим. А, с другой стороны, если моя вера выстоит против самого яростного огня самой нелицеприятной критики, то, наверное, стоять в своей вере я буду ещё твёрже и делиться ею с другими буду охотнее, смелее и, что важнее всего, эффективнее. Как говаривал один мой семинарский профессор: «Люблю спорить с неверующими: слабость их критики, как ничто другое, утверждает меня в истинности моей веры». Со времён Реформации, провозгласившей принцип «Sola Scriptura» (лат. – только Писание) критика христианства на Западе и направлена была главным образом на достоверность самого библейского текста. Эпоха Просвещения с её небывалым дотоле доверием к естественно-научному и опытному знанию породила вследствие этого и особенный интерес к вопросу о достоверности событий, лиц и фактов, описанных в нём, что, в свою очередь, дало импульс и развитию библейской археологии. Её трудами, кропотливыми исследованиями, систематическим поиском и беспристрастным анализом артефактов, относящихся к событиям, содержащимся в Писании, она заслужила себе безупречную научную репутацию, в частности, благодаря тому, что занимаются ею люди самых разных религиозных традиций, а то и вовсе не религиозные.
При чтении новозаветного текста не может не броситься в глаза содержащееся в нём обилие конкретных исторических имён, точных дат и географических названий, например: «В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе...».82 Не «давным-давно, при царе-Горохе, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве», а во вполне определённое время, во вполне определённом месте и при вполне определённых обстоятельствах. Зачем, казалось бы, новозаветному автору упоминание всех этих данных хронологии, топонимики и ономастики, ведь описывает-то он, в сущности, жизнь всего одного Человека? Ему, очевидно, было важно, чтобы и у читателя не создалось впечатления, что он занимается мифотворчеством, расписывая чудесные путешествия и необычайные приключения доброго чародея и его верных двенадцати эльфов. Новозаветные авторы описывают всамделишную историю жизни вполне реального человека в конкретной исторической среде. Причём о среде этой они отлично осведомлены, будучи свидетелями, участниками и современниками описываемых ими событий: «Мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетённым басням последуя, но быв очевидцами Его величия».83
Невольно напрашивается сравнение этого послания апостола Петра с другим повествованием, тоже основанном на событиях исторических – знаменитым «Словом о полку Игореве». Как мы помним из школьной программы, начинается этот великий памятник древнерусской письменности такими словами: «Не лепо ли ны бяшетъ, братие, начяти старыми словесы трудныхъ повестий о пълку Игореве, Игоря Святъславлича? Начати же ся тъй песни по былинамъ (курсив мой – О.В.) сего времени, а не по замышлению Бояню!».84 То есть автор этого «Слова» заранее нас предупреждает, что сам он лично понятия не имеет, как дело происходило, поскольку сам он там не был, в полку не служил, в походе не участвовал, а известны ему лишь «былины». Заметим, что не «были», которые мы бы сегодня назвали хрониками, а, в отличие от них, именно «былины», то есть – произведения устного народного творчества, передаваемые из уст в уста и из поколения в поколение. Оба эти слова присутствовали в языке того времени, однако былины отличали и стиль, и эмоциональный настрой повествования, в которых голос автора, его собственные чувства и оценки играют не меньшую роль и имеют не меньшее значение, чем сами факты и события, а упоминание реальных имён служит не столько для датировки и придания тексту исторической достоверности, сколько для пущей образности и живости в изображении характеров. Отсюда происходит и непременность эпитетов, сопутствующих практически каждому из них: Боян – вещий, Ярослав – старый, Мстислав – храбрый, Роман Святославич – красный (красивый) и т.д. Для новозаветного же текста, являющегося не поэтическим произведением, а именно хроникой, характерна почти газетная сухость, определённость и краткость изложения исторических фактов. «Писатель, подобным образом соотносящий своё повествование с широким контекстом мировой истории, призывает беду на свою голову, если он при этом не слишком щепетилен, поскольку критически настроенные читатели его получают столь обширные возможности уличить его в неточности. Лука берёт на себя такой риск и с честью выдерживает испытание», – отмечает историк Ф. Брюс85. Эти попытки – поставить под сомнение историчность новозаветного текста – предпринимаются с настойчивостью, достойной лучшего применения, уже не первое столетие, и с той же последовательностью каждая из них, потешив публику в течение иногда десятка-другого лет, развенчивается очередным археологическим открытием.
Сколько раз, например, слышны были обвинения Евангелия в его, якобы, неисторичности на том основании, что имя одного из центральных действующих лиц его истории, прокуратора Иудеи Понтия Пилата (вышедшего в романе М.Булгакова «в белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого»86) ни в одном источнике безотносительно к суду над Христом не упоминается. Действительно, скандал! Уж не вымышленный ли это персонаж, как, например, в «Мастере и Маргарите»? Или, согласно другой расхожей «гипотезе», не представляет ли из себя Пилат лишь позднейший символ так называемой «астральной мифологии», характерный для множества солнцепоклонников и означающий всего на всего копьеносца (лат. pilatus)?87 Сомнения в его реальности циркулировали в общественном сознании не один год, пока в 1961 году при раскопках театра в городе Кесария Маритима (то есть «приморская»), построенном царём Иродом для иудеев, но несуществующем ныне, итальянские археологи не обнаружили камень с высеченной на нём надписью: «Понтий Пилат, наместник в Иудее, посвятил народу Кесарии храм в честь Тиберия».88 Тот самый Пилат, та самая Иудея и тот самый Тиберий! Вот уж поистине, если люди не воздают славы Господу, то «камни возопиют»,89 свидетельствуя об истинности Его слова! И никакой он, как выясняется, не «прокуратор», а военный наместник, подчинявшийся легату Сирии, то есть, префект. Прокураторы, исполнявшие более экономическо-административные обязанности, появились на Ближнем Востоке и в Египте только в правление императора Клавдия (41−54 по Р.Х.). Об этом, по-видимому, не было известно историку начала II века Тациту, следуя которому и наш Булгаков допускает эту неточность.90 Так библейская археология помогает восстановить историческую правду, а заодно и развеять бытующие среди скептиков сомнения.
* * *
Подробности, которым мы можем не придавать значения – прокуратор, префект – могут в какой-то момент оказаться чрезвычайно важными, и недаром существует поговорка о том, что бес – в деталях. Так совсем недавно я и сам едва не стал жертвой, казалось бы, мелочи, но едва не ставшей причиной довольно крупного фиаско. Разработав и согласовав с принимающими сторонами маршрут и расписание своей очередной трёхнедельной миссионерской поездки, на этот раз по Приморскому краю, я был особенно благодарен местному архиерею за то, что его попечением в этом совершенно незнакомом городе меня по прибытии встретил прямо в аэропорту добрый человек, чтобы подвезти изрядно уставшего от долгого перелёта путешественника на место его ночлега. Снежок в городе, видимо, сыпал уже не первый день, и продвигались мы из аэропорта по вечерним пробкам не споро. Разговоры наши успели за время пути коснуться самых разных предметов, в числе которых оказалась упомянутой и тема моей завтрашней презентации в местном педагогическом университете, весьма заинтриговавшая моего провожатого.
− Так давайте я же вас завтра утром и отвезу в университет, а вы мне за это позволите послушать вашу лекцию, – любезно предложил он, и я, конечно, с радостью и благодарностью на это согласился. Только ведь города я не знаю, и потому предложил ему самому позвонить организаторам моей лекции, чтобы уточнить адрес моей завтрашней доставки. Не отрываясь от руля, он включил «громкую связь» и набрал номер.
− Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как мне завтра утром вас найти, чтобы вовремя подвезти вам вашего лектора? Олег мне говорит, что вы – на Тимирязева?
− Ну да, в самом центре. А вы откуда будете ехать? – впервые услышал я голос профессора, с которым договаривался о лекции ещё месяца за три по электронной почте.
− С Тургенева.
− А это где у нас?
− Тоже недалеко от центра. Там и епархия, и семинария, – судя по интонации, уже начиная подозревать неладное, проговорил мой провожатый.
− У нас в Уссурийске нет семинарии... – столь же настороженно ответили на том конце.
− Вот и я думаю, что наш Хабаровский педуниверситет – не на Тимирязева...
Мелочь. Подробность. Деталь. Заблаговременно и предусмотрительно обговаривая с университетской кафедрой и время начала, и продолжительность, и адрес, и этаж, и даже номер аудитории, я каким-то образом умудрился ни разу не упомянуть в нашей переписке название города, в котором находился уважаемый вуз. Принимающая же сторона, естественно, полагала, что я знаю, куда я еду, и, натурально, не сочла нужным обратить моё внимание на эту, в сущности, само собой разумеющуюся частность. Благо, дело было уже довольно поздним вечером, и моему провожатому было не разглядеть, как вытянулась моя физиономия, да ему уже было и не до того! На первом же перекрёстке круто развернув свой вседорожник, он уже давал по телефону какому-то своему знакомому «вводные»: ближайший поезд на Уссурийск, одно место, купе, нижняя полка, наличными, фамилия, номер паспорта… Поезд идёт десять с половиной часов (по прямой – 574 км), так что вместо наверняка уже остывшего ужина в семинарской общаге я натощак, но изобильно отосплюсь под перестук колёс и прибуду по назначению ровнёхонько за час до начала своей презентации, бодр и весел. Отдалённые аллюзии на Пнинскую профессорскую рассеянность91 отчасти тешили моё тщеславие, и лекцию я тамошним уссурийским историкам отчитал на одном дыхании. Потом до конца дня, с регулярными остановками для трёхразового питания в одной и той же полюбившейся вареничной, я осматривал городские достопримечательности и на единицу отличающимся номером поезда возвернулся в точку позавчерашнего своего недоразумения. Всё в итоге сложилось наилучшим образом – и во славу Божию, и мне на пользу: православному миссионеру тысяча вёрст не крюк, а памятливости на детали у меня с тех пор заметно прибавилось.
* * *
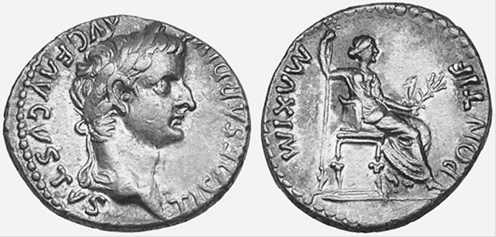
Динарий кесаря Тиберия I нач. I в. н. э.
Возвращаясь же из Приморья в Средиземноморье к перфекту-прокуратору Понтию Пилату, нельзя не припомнить ему и то, что если римлянам он в камне запечатлелся как строитель храма в честь Тиберия, то в памяти иудеев того времени он навсегда остался в качестве одного из самых антииудейски настроенных наместников Римской империи. По контрасту со своими предшественниками, всячески пытавшимися ладить с местным населением, Пилат, напротив, как будто специально раздражал их и провоцировал на восстания, каковых он, по свидетельству историков Иосифа Флавия и Филона Александрийского, возбудил и самым беспощадным образом подавил целых три. Им, в частности, были выпущены римские монеты, предназначавшиеся для местного хождения, с именем цезаря Тиберия и символами имперского языческого культа, которые не могли не возмутить иудеев: lituus – изогнутый посох авгура и simpulum – ритуальный ковш. Его предшественники тоже чеканили монеты, но старались при этом обходиться более нейтральными мотивами – растительными и другими традиционными для иудейской культуры орнаментами. В известном эпизоде из Евангелия от Луки «лукавство» и «искушение» спрашивающих Христа о податях кесарю, собственно, и состояло в том, чтобы заставить Его поддаться на эту Пилатову провокацию. «Они [«лукавые люди»] спросили Его: Учитель! мы знаем, что Ты правдиво говоришь и учишь и не смотришь на лице, но истинно пути Божию учишь; позволительно ли нам давать подать кесарю, или нет? Он же, уразумев лукавство их, сказал им: что вы Меня искушаете? Покажите Мне динарий: чье на нем изображение и надпись? Они отвечали: кесаревы».92 Монеты, достоинством в один динарий чеканки 29−31-го годов по Р.Х. с характерной языческой символикой сохранились в великом множестве.93 То есть вполне реальный, кровь от крови и плоть от плоти, а не какой-то астролого-мифический Пилат Понтийский описан в Евангелиях, и он же послужил прототипом для главного героя в романе Булгаковского Мастера.
И ещё одна любопытная деталь в отношении Пилата. Если его предшественник на наместническом посту Гратус сменил за последние три года своего правления четырёх подряд иудейских первосвященников, то назначенный вслед за этим первосвященник по имени Каиафа прослужил при Пилате целых 20 лет и ушёл на покой в 36 году, то есть в тот же год, когда его римский покровитель был отозван в метрополию на суд Кесаря. Это хронологическое «совпадение» заставляет предположить, что между ними – главой военно-государственной и главой религиозной власти в Иудее того времени – существовали весьма близкие отношения, а это проливает дополнительный свет на события преследования, ареста, суда и казни Христовой.
Про Пилата, таким образом, учёным известно предостаточно, но куда же подевалось другое немаловажное лицо – как-никак первосвященник иудейский – сам Иосиф Бар-Каиафа? Просто, как сквозь землю провалился! Для того, чтобы выкопать из-под земли персонаж такого значения, понятно, лопаты оказалось мало, и потребовался целый экскаватор. Он, впрочем, выкапывал не Каиафу, а производил дорожные работы в южной части Иерусалима, как вдруг под собственным весом он погрузился в подземную известковую пещеру, оказавшуюся усыпальницей первого столетия. В погребальных нишах её учёные обнаружили сразу несколько так называемых оссуариев (по-русски – «костница») − небольших керамических или мраморных ящиков, предназначавшихся для вторичного захоронения (то есть перезахоронения) останков жителей Древнего Рима и Древней Иудеи первого столетия (обычай этот просуществовал менее века). Целиком умершего в такую погребальную урну не укладывали – по закону иудейскому тело должно быть предано земле до захода солнца того же дня. В большинстве случаев оно облекалось в погребальные пелена, помещалось в небольшое углубление и накрывалось плитой. При высокой температуре и низкой влажности в земле Израиля уже через полтора-два года от тела оставались только косточки (тела человеческие почти на 80% состоят из воды). Заботливые родственники эти косточки через пару лет выкапывали, тщательно перемывали (отсюда и возник, вероятно, обычай перемывать умершим родственникам косточки) и с песнями перекладывали в оссуарии, которые бывали личными или фамильными – чтобы вся семья могла снова собираться вместе. Большая часть из них доходит до нас, к сожалению, в обломках, и найденные в той пещере тоже, увы, оказались, частично повреждёнными и − что самое обидное – пустыми. Очевидно, искатели сокровищ наведались в эту пещеру задолго до археологов и всё сколько-нибудь ценное по своему обыкновению захватили с собой. А главное, забыли закрыть за собою дверь, то есть оставили доступ кислороду и влаге, так что вся органика ко времени находки их учёными в этих погребальных урнах уже истлела. Какова же, представьте, была радость исследователей, когда оказалось, что одном из немногих целеньких, мраморных и богато орнаментированных оссуариев они обнаружили надпись: «Иосиф Каиафа». Так это же наш старый знакомец – тот самый первосвященник, который присутствовал на суде над Христом! Сомнения в том, тот ли это человек, который упомянут в Евангелии, естественно, тут же возникли и тут же естественным образом отпали: соседство находки с захоронением другого упоминаемого в Евангелиях первосвященника, Анны, а также дорогой материал (мрамор) и тщательная орнаментальная обработка оссуария свидетельствуют о состоятельности и высоком общественном положении его хозяина. Если бы существовал другой носитель этого имени в Иудее первого столетия, обладавший столь высоким общественным статусом, о нём хоть что-нибудь было бы известно. Оживлённая дискуссия на эту тему в нескольких номерах «Вестника библейской археологии» постепенно увяла сама собой за неимением новых аргументов у сторонников позиции «можетнетоткаиафизма». Евангелист Лука, конечно, мог бы и не упомянуть его имени, и тогда у историков могли возникнуть вполне законные основания подозревать автора в вымысле и подделке – но ведь упомянул же. Экскаватор, конечно, мог бы и не провалиться в пещеру, и археологи могли бы тогда и не найти оссуария Каиафы – в таком случае и Каиафа, а вместе с ним и все его деяния могли бы законно считаться вымышленными. Но ведь провалился же, и нашли же. Похоже, если учёные, как и полагается уважающим себя деятелям науки, будут иметь дело с фактами, а не с гаданиями и фантазиями, то и апостола-евангелиста Луку придётся признать автором исторической хроники, а не романа-бестселлера в жанре фэнтэзи времён классической античности.
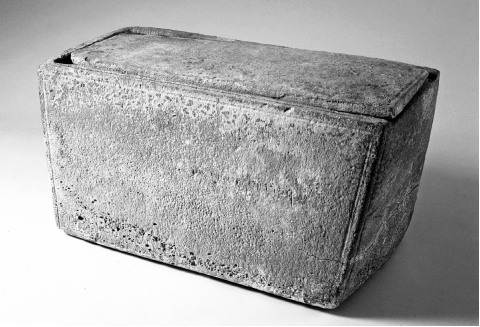
Каменный оссуарий Иакова I в. н. э.
Но, конечно, самую широкую и даже отчасти скандальную известность приобрёл оссуарий с надписью «Иаков, сын Иосифа, брат Иисусов»94, приобретённый частным коллекционером из Израиля на аукционе древностей. Ввиду относительной недавности находки и, конечно, ввиду радикальности её свидетельства вокруг этой надписи ломаются академические копья и полыхают, уже, впрочем, переставшие быть сугубо академическими, страсти. Находку, конфискованную израильским музеем древностей на том основании, что, дескать, артефакту столь глобальной значимости не должно пребывать в частных руках, коллекционер вот уже несколько лет безуспешно требует вернуть ему артефакт, пытаясь через суд доказать, что часть надписи, а именно, слова «брат Иисуса», более поздняя, то есть поддельная. Израильский суд, однако, не находит достаточных оснований в экспертной оценке археологов для сомнения в её подлинности и отказывает истцу, несмотря на его многочисленные апелляции. Что ж, 2000 лет ждали – ещё несколько лет придётся подождать, пока они там угомонятся и, наконец, признают, что это тот самый брат Иисусов, о котором идёт речь и в Евангелии от Матфея,95 и у вполне светского историографа первого века Иосифа Флавия в его «Иудейских древностях» − «человек по имени Иаков, брат Иисуса, которого называли Христом».96
Связан ли этот оссуарий непременно со св. Ап. Иаковом, братом Господним по плоти, а не каким-то другим полным его тёзкой? На этот вопрос вполне определённо ответил профессор Камиль Фанч, декан факультета статистики Тельавивского университета, проведший анализ частотности употребления имён Иисус, Иаков и Иосиф в тексте Священного Писания. Сколько людей по имени Иаков могло проживать в Иерусалиме I в. по Р.Х. и иметь отца по имени Иосиф и брата по имени Иисус? Статистические расчёты дали число 1,71, которое означает, что таких людей могло быть чуть больше полутора, то есть, строго говоря, – только один, тот самый.97
А вот и относительно недавняя находка – первоначальная публикация датируется 10 августа 2017 года98: каменоломня в г. Рейне (Reina) двухтысячелетний давности, расположенном всего в семи километрах от той самой Каны Галилейской, о которой мы читаем во второй главе Евангелия от Иоанна. При описании того первого чуда, совершённого Христом на брачном пире – превращении воды в вино – как бы между прочим упоминаются некие каменные сосуды, из которых это чудесным образом добытое вино разливают. Но почему именно каменные? Считалось, что глиняные чаши и кувшины ввиду пористости материала невозможно ни отмыть, ни проскрести (тонкостенные сосуды лопались) дочиста, и поэтому при совершении религиозных омовений использовались именно выточенные из камня, мягкого известняка, «водоносы». Так вот, именно их – каменные чаши, кружки и кувшины и их заготовки – в великом множестве были обнаружены на раскопках прямо в черте города. Поскольку каменные сосуды большой ёмкости были, во-первых, тяжёлыми, во-вторых, хрупкими и, в-третьих, дорогостоящим, то заказывали их всегда на местной каменоломне, а, следовательно, полагают историки, упоминаемые в Евангелии сосуды были добыты и выточены именно здесь. Так, крупица за крупицей, учёные находят свидетельства, прямые и косвенные, о том, насколько достоверно описаны в новозаветном тексте каждое действующее лицо, каждое событие, каждая сколько-нибудь значащая деталь.
Щепетильность в деталях и верность исторической правде новозаветных авторов в этом смысле совершенно исключительна, чего никак нельзя сказать про авторов современных, время от времени появляющихся и затем бесславно и бесследно (кроме осевшего в их карманах капитала) сенсационных «открытий» и «откровений», которыми они тщатся поразить легковерную публику. Чего стоит, например, находка ещё в 1980-м году в пещере Талпиот, расположенной в южной части Иерусалима, захоронения, содержащего целых десять (минус одна украденная) костниц, провозглашённая, не много ни мало, «Семейным захоронением Иисуса Христа»! Синхронно с выходом одноимённой книги журналиста Симчи Якобовича в 2007-м году с надлежащей случаю рекламной раскруткой вышел на экраны и «документальный» фильм продюсера «Аватара», «Титаника» и «Терминатора» Джеймса Камерона под названием «Потерянная гробница Иисуса» с интригующим подзаголовком «Открытие, исследование и свидетельство, способные изменить ход истории». Игровые эпизоды в нём искусно вплетены в документальные репортажи, и, где кончается документалистика, а где начинается «игра», становится по ходу дела всё менее и менее понятно и важно. Зато наглядно и доступно широкой зрительской аудитории на экране демонстрируются такие, например, «совершенно неопровержимые» доказательства ложности Евангельского повествования, как наличие в семейном захоронении оссуария с надписью «Госпожа Магдалина» рядом с оссуарием, носящим надпись «Иешуа, сын Иосифов». Как показала экспертиза ДНК сохранившегося костного материала, эта Магдалина не связанна с Иешуа кровными узами, а это, по мнению журналиста, «неоспоримо» свидетельствует о том, что данный Иешуа был на ней женат, и, следственно, ей по праву был присвоен и божественный титул «Владычицы». Их матримониальные связи при этом подтверждаются и очень кстати обнаруженным тут же оссуарием «Иуды, сыне Иешуевым». Ну чем не «святое семейство» в полном составе!?
С этим фильмом и книгой авторы, собрав немалые гонорары, проехались по всему миру и заполнили ими новостные потоки в 2007-м году и потом ещё раз 2008-м, пока всему этому с размахом затеянному развлекательному шоу не положило конец открытое письмо 13-и цитируемых в фильме археологов, категорически осуждавшее тот исключительно коммерческий и научно безответственный оборот, который их исследование получило благодаря творческому дарованию и моральной неразборчивости его создателей. При этом, кстати, оказалось, что слова «Госпожа Магдалина» на самом деле следует читать в переводе с иврита как «Мариам и Мара», то есть это имена двух разных людей, например, сестёр или дочки-матери. Имя «Иисус» настолько неразборчиво, что с равным успехом может читаться как, например, «Иосиф» и т.д., и т.п. Другими словами, сколько-нибудь веских оснований считать находку имеющей хоть какое-то отношение ко Христу не имеется, и перед нами – очередная спекуляция на человеческом легковерии. В качестве продуктов индустрии развлечений и фильм, и книжку, безусловно, следует отметить, как весьма талантливые и отвечающие вкусам постмодернового мышления. Сами по себе и внутри себя они по-своему гармоничны, смотрятся и читаются, что называется, как детективы. Для решения же вопросов жизненной важности всё-таки следует отличать популярные коммерческие и увеселительные проекты – даже если они при этом выходят под рубрикой “Discovery Channel” – от добросовестных научных исследований и делать выводы о достоверности тех или иных сенсационных идей лишь на основании достойных доверия источников.
* * *
Броское название, громкое имя и смелое заявление отнюдь не всегда на поверку выдерживают даже сколько-нибудь строгое к себе внимание критического ума. На это, видимо, и рассчитывала одна из моих слушательниц в Северной столице, когда после объявления мною названия презентации «Духовно-нравственные ценности христианства на уроках по основам православной культуры», она подняла руку и, не дожидаясь, пока я дам ей слово, широким жестом обводя зал, объявила, обращаясь, впрочем, ко мне лично:
− Вы, уважаемый коллега, наверное, не знаете, где находитесь. Санкт-Петербург – это город атеистов. Ваше православие тут мало кому будет интересно, но, поскольку вы являетесь также и соавтором школьного учебника по обзорному курсу «Основы мировых религиозных культур», то, пожалуйста, и прочитайте нам лекцию на эту тему.
Слегка оторопев, я, впрочем, скоро вспомнил, что меня на этой учительской конференции, и в самом деле, представили в качестве соавтора обоих учебников, и бедные учителя, наверное, и собрались со всего города на этот курс, надеясь услышать что-то такое межрелигиозное и межконфессиональное, сугубо культурологическое но, Боже упаси, не религиозное. Как же быть, если не готов я, да и не хочу я говорить ни о чём, кроме христианской веры, её исторических оснований, её культуры и её духовно-нравственных ценностей? Извиниться за недостаточно точную формулировку моей темы и распустить всех по домам? В такие мгновения, когда вдруг осознаёшь себя совершенно бессильным против обстоятельств, которые так или иначе сложились и так или иначе привели меня в некую критическую ситуацию, я уже давно знаю, что делать, и уже давно перестал впадать в панику. Сами эти ситуации не стали с какого-то момента происходить реже или сколько-нибудь изменились качественно – время от времени я узнаю́ их по тому знакомому всякому внимательному к себе человеку известному чувству, как будто у тебя под ногами провалился пол, и, что бы ты ни делал, и как бы ни размахивал руками и ногами, падение неизбежно. Я даже отлично помню тот первый случай, когда на место естественной в подобных случаях паники заступила самопроизвольная, мгновенная и беззвучная молитва к Богу.
Лет ещё пятнадцать тому назад, подрабатывая во время своего бурсачества себе и своему семейству на хлеб насущный в качестве переводчика, я должен был во время судебного слушания синхронно переводить на ухо моему клиенту (обвиняемому, истцу или свидетелю) всё, что происходит в зале. Работка, прямо скажем, не из лёгких, поскольку они-то – судьи, обвинители, свидетели – говорят по очереди, а мне приходится переводить всё подряд, включая ругань, каверзы и даже заведомую ложь. Причём переводить необходимо с минимальным опозданием, чтобы мой клиент по модуляциям моего голоса догадывался, кто, что и когда сказал, поскольку у меня даже нет времени называть каждого из них по имени или должности. И вот в самый разгар разбирательства я начинаю запаздывать. Сначала ненадолго, но потом всё более и более мой «буфер обмена» заполняется, и, наконец, настаёт тот момент, когда я с ужасом осознаю, что вот-вот начну отставать уже безнадёжно. По идее, судебный переводчик имеет право в таких случаях поднять руку и попросить паузу, но ведь это означает, что каждый из участников слушания должен вдруг замереть, запомнив, на чём он остановился, чтобы, когда переводчик отдышится и отговориться, продолжить, как ни в чём не бывало. Понятно, что воспользовавшийся этим правом переводчик, вероятнее всего, более не будет приглашён на эту работу. И вот, с одной стороны, я понимаю всю ответственность, которая лежит на мне за судьбу сразу нескольких людей, проходящих по этому делу, а, с другой, осознаю и то, что если я прерву заседание, то для меня самого последствия обернутся самым плачевным образом. В этот-то момент я и воззвал к небесам, то есть, не переставая тараторить и следить за ходом дела, мысленно произнёс нечто похожее на «а теперь, Господи, Ты!». Сами эти слова я, помнится, подобрал уже потом, когда у меня было время осмыслить всё со мной происшедшее, а тогда, на суде, я лишь вдруг осознал, что это уже не совсем я, на самом-то деле, перевожу своему клиенту, а как будто какой-то другой, гораздо более способный и умелый переводчик. А я будто бы со стороны наблюдаю всю эту картину, и сердце моё разрывается от радости и благодарности за возможность оказаться свидетелем этого чуда. Потом со мной это случалось не раз, например, когда на скользкой дороге мою машину завертело, и было уже совершенно всё равно, на какую педаль давить и в какую сторону крутить руль. И тогда тоже из груди успело лишь вырваться то же самое «а теперь, Ты!», и не в мою вертящуюся поперёк четырёх полос легковушку, а мимо промчались с рёвом и на сумасшедшей скорости несколько фур, и не на встречную полосу вынесло меня в итоге, а мягонько прижало к разделительному барьеру.
Вот это же самое мгновенное и беззвучное моление я и вознёс к Богу под испытующим взором почти четырёхсот учительских глаз, принадлежавших, как мне только что было объявлено, исключительно безбожникам. Не скрою, что не мог я в то же время внутренне не потешаться над тем, насколько эта сцена напоминала бессмертное булгаковское из первой главы «Мастера и Маргариты»: «Важное сведение, по-видимому, действительно произвело на путешественника сильное впечатление, потому что он испуганно обвёл глазами дома, как бы опасаясь в каждом окне увидеть по атеисту». Ответ пришёл незамедлительно и тоже в стиле того памятного диалога на Патриарших, а именно – поинтересоваться у своей аудитории, насколько хорошо ей известна та история 2000-летней давности, в которую они так дружно не верят. Задал я вопрос, впрочем, гораздо прямолинейнее:
− Вы, и в самом деле, все до единого – атеисты?
И тут вдруг оказалось, что взявшая на себя смелость представлять духовное стояние всего города коллега – в абсолютном меньшинстве. На мою просьбу поднять руку всем согласным с её утверждением не поднялась ни одна рука.
− Ну что же вы, коллеги? – попыталась она ободрить аудиторию, оборотившись к залу и помавая для наглядности обеими руками. – Не стесняйтесь, здесь же все свои! Ну же, смелее!
Мне, естественно тоже хотелось, чтобы учителя высказались вполне искренне и без стеснения, а потому и я принялся опрашивать их уже индивидуально, начиная с первого ряда, где обычно сидят самые смелые.
− Я, вообще-то, православная, но ведь мы здесь из разных школ и районов и не знаем друг друга – вот я и подумала, что я тут одна такая, – скрывая неловкость, ответила милейшая молодая особа, которую, встретив на улице, я бы скорее почёл за школьницу, чем за учительницу.
− Мне тоже как-то не хотелось идти «против течения», – оправдывалась другая, наоборот, годящаяся мне в мамы, преподавательница истории.
− Но ведь вас же только что публично оклеветали. Причём не только вас лично, но и весь ваш чудесный город, – не мог уняться на этот раз уже я сам. – Почему же вы не возмутились, когда от вашего имени произносится то, с чем вы принципиально не согласны? Ведь не надоумь меня Господь задать уважаемой коллеге свой вопрос, мы бы все с вами сегодня так и разошлись по домам в глубочайшем и, как только что выяснилось, совершенно предрассудочном убеждении, что на религиозном образовании в Питере давно пора поставить крест, причём в худшем смысле этого слова.
К чести возмутительницы спокойствия надо сказать, что она не хлопнула дверью, а преспокойненько заняла своё место, усердно записывала за мной в течение всей презентации, задавала в конце встречи самые интересные вопросы и ещё набрала с собой кучу дополнительного материала. Очень хочется верить, что не только для меня этот случай послужил очередным и ценнейшим уроком: во-первых, не паниковать, во-вторых, не доверяться какому-то одному, пусть и самому громкому, голосу и, в-третьих, никогда ни на ком не ставить крест. Кто я, в конце концов, такой, чтобы решать, кого удостоить сегодня слышания свидетельства веры, а кого нет, если мне самому это свидетельство терпеливо и настойчиво доносилось, наверное, в общей сложности сотнями людей в течение почти трёх десятков лет, пока я сам себя не счёл вполне его не достойным, и именно потому, абсолютно в нём нуждающимся?
В Ветхом Завете?
До сих пор речь шла преимущественно о Новом Завете, то есть об относительно недавней части библейской истории, появившейся всего 2000 лет тому назад. Но, может быть, возражают скептики, новозаветная история и на самом деле достоверна, однако как быть с Ветхим Заветом, относимым ими скорее к области фантазий и мифологии? Первая часть Библии действительно несколько более жанрово разнообразна, чем вторая, где, впрочем, тоже можно встретить и хронику, и притчу, и гимнологию, и проповедь, и философию, и богословие, и эпистолярий. Поэтому в каждом отдельном случае читателю необходимо помнить, чьи это слова или от чьего имени они произносятся, к кому обращены, в какую форму облечены, по какому поводу сказаны и т.д. В ветхозаветном тексте, кроме жанров, перечисленных выше, встречаются также глубоко лирические отрывки, широкие эпические полотна, многочисленные пророчества и, конечно, немало тонкого юмора, который, к сожалению, чаще всего теряется при переводе. Между прочим, на древнееврейском языке слово «хохма» (ивр. – חכמה) означало одновременно и мудрость, и остроумие, так что одно никак не мыслилось без другого, и в каждой истине присутствовала доля шутки.
К какому жанру, например, следует отнести историю о том, как страшно покарал Господь жителей Содома и Гоморры за их богомерзкое поведение, сыгравшую важнейшую роль в истории и богословии Ветхого Завета, а также не меньшую – в символике Нового Завета? Представляет ли она из себя всего лишь притчу, иносказание и нравоучение о том, как, дескать, следует себя вести, как не следует, и что, соответственно, тебе будет, если будешь вести себя плохо? Так полагали многие, пока в 1974 году при раскопках царства Эбла (по современным масштабам, посёлок городского типа) в северо-западном углу Сирийской пустыни археологии не обнаружили не дворец, не крепость и не храм, а всего-навсего библиотеку с 20 тысячами глиняных, испещрённых надписями табличек. При правильном хранении запекшаяся глина – едва ли ни идеальный носитель информации, так что чтением себя археологи обеспечили сразу на долгие годы. О подобной находке исследователь древности может только мечтать, но для многих критиков Библии она таила в себе величайшее разочарование, ибо в текстах, содержащихся на этих табличках, упоминаются, как ни в чём не бывало, живейшие торговые отношения, существовавшие между царством Эбла и городами… Содом и Гоморра. Причём перечислены они в списке других пяти городов в том же порядке, что и в Книге Бытия99, а по времени таблички относятся как раз ко временам (до 2500 г.г. до Р.Х.), предшествовавшим жизни библейского патриарха Авраама. Казалось бы, критики историчности Библии должны быть удовлетворены этим независимым, «внешним», вещественным доказательством, но и оно их угомонило лишь ненадолго: ну и что же, теперь говорят они, что города эти были когда-то однажды упомянуты, так ведь – не найдены же! Куда же, дескать, они потом-то подевались, как корова языком слизнула? Про эту «корову» и про то, как именно она слизнула языком эти города, можно прочитать в 18−19 главах книги Бытия, где горестная участь этих когда-то славных торговых центров описана в устрашающих подробностях, не оставляющих места для подобных вопросов: «И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их, тяжёл он весьма... И пролил Господь на Содом и Гоморру дождём серу и огнь от Господа с неба, и ниспроверг города сии и всю окрестность сию...»100 Может быть, потому археология и не находит останков этих городов, что они были «ниспровергнуты», то есть уничтожены?
Слово «ниспровег», впрочем, может быть переведено и как «перевернул вверх дном» или «загнул вниз», и тогда становится более понятным упоминание об участи этих городов в «Иудейский войнах» Флавия: «..теперь же, после уничтожения города содомитян, вся эта долина обратилась в озеро, носящее название “Асфальтового”».101 Гипотезу о том, что эти города были повержены на дно Мёртвого Моря, самого солёного водоёма на планете, поддерживают и некоторые современные исследователи, находя ей подкрепление в сателитарных снимках обмелевшей в последние десятилетия части озера, на которых отчётливо видны останки двух сопределельных поселений. К сожалению, подводная археология – очень медленное и очень дорогостоящее дело, в данном случае осложнённое ещё и тем, что заниматься ей приходится в плотной и едкой среде, а потому на сегодня учёными были изучены лишь наслоения на этих развалинах. Однако в этих наслоениях был обнаружен, во-первых, значительный слой пепла (эти города когда-то изрядно горели) и, во-вторых, вкрапления вещества, не характерного для данной местности, а именно – серы. Вполне возможно, мы стоим на пороге одного из величайших археологических открытий, но на сегодня следует признать, что это лишь вполне состоятельная и вполне рабочая, но всё-таки гипотеза, и сами города эти так и остаются «ниспровергнутыми», то есть по сю пору не найдены.
А вот другой, гораздо менее известный в ветхозаветной истории102, древний израильский город под названием Шаараим, хотя и был уже давно обнаружен, и хотя развалины его были довольно досконально изучены, всё-таки не давал скептикам покоя именно по причине своего названия, буквально означающего «двоевратие» (ивр. – שעריים). Дело в том, что ни один уважающий себя израильский город времён царя Давида (Х век до Р.Х.) не имел более одних ворот, поскольку ворота – это самое слабое место обороны всякой крепости, а потому их всегда сооружалось минимально возможное количество, то есть – одни единственные. Поскольку же Шаараим упоминался в числе целого ряда других ещё не обнаруженных городов, то и весь их список подвергался сомнению, а уже из этого делался и ещё более обобщающий вывод о том, что библейская история до Х века вовсе не имеет археологического подтверждения. Публикация в январском номере 2017 года «Вестника библейской археологии»103 об открытии учёными южных ворот города Шаараим (обращённых к Иерусалиму, в то время как западные обращены к Филистимии) разрешила, наконец, долгие академические споры и сомнения на эту тему. Четырёхкамерная башня с заглублёнными в неё воротинами позволяла надёжно защищать город с юга, и сама эта сложность её инженерно-фортификационного устройства подтверждала мнение учёных о том, что место это было не просто кочевнической стоянкой или малолюдным временным поселением, а мощным боевым форпостом, обслуживавшимся постоянным и изрядным по численности военным гарнизоном. Вот это уже не гипотеза, а доказанный и наглядно иллюстрированный факт ветхозаветной истории.
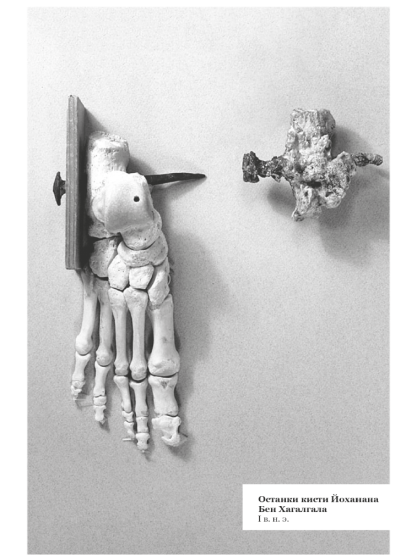
В Новом Завете?
Гипотез, собственно, и не требуется, поскольку фактов, подтверждающих историческую состоятельность библейских текстов в распоряжении исследователей уже имеется предостаточно. Однако фантазия у скептиков работает бурно, и не успевает наука разделаться с одним «аргументом», как они производят новые. Старые же при этом продолжают бесконечно циркулировать в научной и, особенно, научно-популярной среде, несмотря на то что солидные исследователи уже прочитали свои доклады на солидных конференциях и опубликовали свои выводы в солидных научных журналах. Вот, например, одна из таких «гипотез», возникшая, по-видимому, в академической среде и в течение десятилетий бытующая среди студентов и преподавателей исторических кафедр вполне уважаемых университетов. Суть её заключается в том, что Христос, согласно Новому Завету, был буквально пригвождён ко кресту, а в те времена, дескать, гвозди в Римской Империи были слишком дороги, и потому распинаемого не пригвождали, а привязывали ко кресту ремнями или верёвками. Лишь в конце второго столетия гвозди, якобы, подешевели настолько, что римляне стали использовать их при этой страшной казни. А если это так, и евангелист Лука описывает практику конца второго столетия, то и Евангелие его следует датировать II веком, и самого Луку, выдающего себя за очевидца, отныне полагать лгуном и шарлатаном. Самое печальное в данном случае, что фантазии эти продолжают распространяться и кочевать из одной публикации в другую в течение десятилетий несмотря на то, что ещё в 1968 году в окрестностях Иерусалима были останки казнённого римлянами мужчины. В оссуарии, добытом неподалёку от горы Скопус, сохранились, во-первых, костный материал (лодыжки и ступни левой ноги распятого по имени Йоханан Бен Хагалгал) и, во-вторых, железный гвоздь, так и оставленный в костном материале теми, кто переложил казнённого в оссуарий. Исследователи полагают, что, судя по тому, как загнуто его острие, гвоздь попал в сук на перекладине креста, и римские солдаты не смогли достать его из столба. Гвозди действительно были очень дороги, и потому использовались несколько раз, однако этот конкретный гвоздь застрял в столбе, так что и в оссуарий стопу жертвы пришлось положить вместе с гвоздём и куском древесины. Датируется находка 42 г. по Р.Х. (метод радиоуглеродной датировки), то есть приблизительно через 10−15 лет после казни Христовой, и поскольку обнаружен данный артефакт в пригороде старого Иерусалима, то совпадают и время, и место. Причём находка эта давно известна104, в том числе и тем, кто читает курс истории в университетах и, тем не менее, настойчиво продолжает распространять расхожие мифы и легенды. Сомневаться в том, что распятие происходило именно так, как оно описано в Евангелии, похоже, нет никаких оснований.
Вероятно, не в наличии или в каком-то «достаточном» количестве таких и подобных свидетельств тут дело, а в личной готовности или неготовности конкретного человека или сообщества составить себе труд ознакомиться с ними и принять относительно них личное, трезвое и ответственное решение. То же, впрочем, справедливо и в отношении готовности или неготовности верующего человека это свидетельство им предложить – лично, трезво и ответственно – то есть, не ожидая какого-то особо благоприятного случая или момента, когда они «созреют» или «дорастут» до его восприятия. За чаем и перед телекамерой, на школьном уроке и на богословской конференции, в купе поезда и вокруг костра, на университетской лекции и в колонии для несовершеннолетних преступников этому свидетельству может и, по-хорошему, должно находиться место.
* * *
– Боюсь, что наше церковное руководство к этой тематике ещё не вполне готово, – услышал я однажды как раз за чайком и плюшками вокруг общего стола по окончании Литургии в трапезной одной из подмосковных церквей от не устававшей меня потчевать хлопотливой хозяйки. – Мы, конечно, проводим время от времени у себя семинары по истории иконописи, например, чтобы привлечь в церковь интересующихся искусством людей, но о вере стараемся с ними говорить поосторожнее, чтобы как-нибудь случайно не отпугнуть человека.
Эти опасения мне, конечно, хорошо знакомы и понятны, а потому я и на этот раз ограничился вполне «застольной» версией своей презентации, как бы в третьем лице отвечая на вопросы чаёвничающих о том, чем занимается наша миссия, и какие свидетельства (текстологические, археологические и т.д.) мы представляем нашим слушателям, и какое значение они, как правило, оказывают на мои самые разнообразные аудитории. Ни экрана, ни презентации у меня в распоряжении не было, так что приводить и описывать мне их пришлось, что называется, на пальцах. Однако и этого было, по-видимому, достаточно, чтобы заинтересовать прихожан настолько, что и прибытия в трапезную настоятеля никто, кроме меня, кажется, не заметил. Батюшка деликатно занял своё место за столом рядом с хозяйкой, заботливо подлившей ему горяченького чайку из самовара и подвинувшей ему корзиночки со сладостями и печенюшками. Мне же как гостю становилось уже отчасти неудобно, что моя персона заняла столько времени за общим столом, и я, естественно, прервался, чтобы быть должным образом представленным священнику и подойти под его благословение. Я уже было приготовился ещё раз вкратце пересказать ему и свою собственную историю и в двух словах представить своё служение, но батюшка вдруг встал от стола и поманил меня за собой:
− Давайте я вам наш храм покажу. Тут у нас много интересного.
И в самом деле, оказалось, что практически на солее, чуть в стороне от иконостаса, в храме был устроен самый настоящий баптистерий – чтобы крещение происходило не где-то скрыто от взора церковного прихода, но совершалось, наоборот, всей общиной, и не отдельно от богослужения, а как его важнейшая и неотъемлемая часть. Такое или подобное устройство церковного пространства я наблюдал в православном храме, прямо скажем, нечасто – крестильни в наше время устраиваются, как правило, в отдельном храме или часовне, где-нибудь в стороне или на задах основного храма, а то и вовсе отсутствуют. Это важнейшее церковное таинство совершается подчас хотя и в самой церкви, но, при этом, в каких-то более или менее временных (переносных) или приспособленных для этого купелях. А тут – на самом видном месте, в мраморе и начищенной до блеска латуни! Восторг мой, правда, довольно скоро поугас, поскольку оказалось, что ввиду каких-то канализационных неустройств баптистерий в настоящее время не используется, хотя и остаётся предметом особой гордости прихода.
Невольно вспомнилась мне в тот момент история, произошедшая со мной как-то в Казани, где я однажды поутру разыскивал, прибывши туда ночным поездом, подходящую кофейню, чтобы уютненько отсидеться до начала моей презентации и заодно ответить на накопившиеся за время моего путешествия имейлы. Клюнув на привычный логотипчик «вайфая» на двери одного из них и уже заказывая себе что-то на завтрак, я, нисколько не желая обидеть хозяев, всё-таки осведомился и на предмет реалистичности моих ожиданий: в самом ли деле, как это указано на дверях, здесь есть вайфай. Получив на это бодрое и вполне утвердительное «есть-есть», я расположился поудобнее, подключился к кстати оказавшейся под рукой розетке и открыл свой ноутбук. Ни гу-гу! Первая мысль в моём уже начинавшем просыпаться филологическом мозгу подсказала и самое логичное объяснение этому неожиданному природному явлению: двойное утверждение «есть-есть» в здешней грамматике означает как раз полное и абсолютное отрицание, и ответ официанта следовало расценивать в качестве своего рода «категорического негатива». Моё недоумение рассеял, не отрываясь от кофейных рычажков, неутомимый бариста, очевидно не впервые наблюдавший растерянное выражение на лицах своих клиентов: «Интернет есть, но он не работает». Вот, подумал я тогда, в чём корень многих бед моей страны: в ней практически всё есть, но, увы, не работает.
А моя экскурсия по замечательному храму, между тем, уже почти завершилась, и мы с настоятелем уже возвращались в трапезную, когда он, на мгновение задержавшись в дверях, заметил вполголоса:
− Только вот насчёт ваших презентаций… Мы, конечно, проводим и приветствуем у себя всякого рода семинары, но я опасаюсь, что к вашей теме наши прихожане ещё… не вполне готовы.
Менее получаса назад под сочувственные кивания этих самых прихожан я слышал это же самое, слово в слово, про самого батюшку. Но, оказывается, это он обеими руками «за», да, вот незадача, прихожане ему попались, ещё не доросшие до столь высоких материй. Между тем, за трапезой мы ведь с ними именно об этом и говорили, причём вопросы и по истории земной жизни Христа, и о древних библейских рукописях, узнав, чем я, в принципе, занимаюсь, задавали как раз они сами. Забавнее же всего во всей этой истории оказалось то, что сердобольной и радушной хозяйкой за трапезой при ближайшем знакомстве оказалась матушка-попадья, то есть супруга того самого «не вполне готового» настоятеля. Было бы совершенно бестактно и неуместно с моей стороны устраивать им «очную ставку», да ведь мне не были и не могли быть известны все те причины и обстоятельства, благодаря которым у них в приходе, как раз знаменитом своими былыми миссионерскими подвигами, на тот момент сложилась эта, если посмотреть со стороны, довольно странная ситуация. Главное, что я сам в это время оказался «вполне готов», и за те, может быть, полчаса, которые дал мне Господь за общей трапезой, успел, как мне помнится, найти самый живой отклик у своей аудитории на вопросы разумного и исторического основания веры и даже успел хоть отчасти ответить на них.
* * *
В частности, вопрос креста, его достоверности и, так сказать, «вещественности», среди других, волновал моих слушателей как-то особенно остро, и стоило мне его только коснуться, как в трапезной повисла совершенно особенная напряжённая тишина. И, в самом деле, как можно сомневаться в подлинности креста, если на нём буквально пребывает и вся наша Надежда, и вся наша Радость, и всё наше Спасение – Христос? А, с другой стороны, почему некоторым (назовём их «околохристианскими» религиозным учениям) всё-таки хочется, чтобы креста (и, следовательно, крестной жертвы за наши грехи) не было вовсе? Например, так называемые «свидетели Иеговы» настаивают на том, что Христос – по их мнению, воплотившийся в совершенного человека Архангел Михаил – был распят не на кресте, а на врытом в землю, как они называют его, «столбе мучений». Ссылаются они при этом на вполне канонический библейский текст – Книгу Деяний: «…И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесивши на древе».105 Проблем с таким толкованием сразу несколько: во-первых, употреблённое здесь греческое слово ξύλον означает «древо» не в смысле формы или конструкции инструмента казни, а в смысле «древесины», то есть, того материала, из которого это орудие было изготовлено. Ксилофон, например, называется так не потому, что выглядит или звучит, как бревно, а потому что его «клавиши» (бруски) выполнены из древесины. Евангелист в данном случае воспользовался тропом (иносказанием), известным под названием метонимия, заключающемся в переносе смысла с одного слова на другое по смежности – пространственной, временной или качественной, например: серебро (в смысле – предметы столовой утвари), рука Москвы/госдепа (в смысле – власть госорганов) и т.д. Аргументация иеговистов, другими словами, рассчитана на очень ленивого и очень непритязательного слушателя, которому некогда или невдомёк самому открыть греческо-русский словарь и, уж тем более, выучить греческий хотя бы в объёме, достаточном для чтения и понимания новозаветных текстов. А ведь когда-то в нашей стране греческий, наряду с латынью и одним-двумя современными языками входил в состав классического гимназического курса, и только снижение образовательной планки до всего одного (да и то, в лучшем случае!) иностранного языка позволяет столь явным нелепицам выглядеть хоть сколько-нибудь убедительно. Стоило мне, например, показать на экранчике моего телефона этот текст в греко-русском подстрочнике устало переминавшейся парочке «СИ» на одесском Крещатике, как их оживление от моего наивного вопроса про основание их веры, сменилось едва ли откровенной паникой.
− Мы греческого не знаем, но вот в этой, и вот в этой, и вот в этой брошюрках всё это объясняется и истолковывается. И, вообще, вы, наверное, какой-нибудь священник или пастор, если задаёте такие вопросы, а мы – люди простые, и нам и так всё понятно, без вашей «латыни».
Пришлось, естественно, признаться, что и я свой семинарский курс греческого проходил давно и изрядно его подзабыл, но существуют же, благодаренье Богу, и академические словари, и подстрочники и богословские комментарии к новозаветному тексту, к которым я лично испытываю гораздо более доверия, чем к пёстрым брошюркам, неизвестного мне происхождения. Это признание, надо сказать, сыграло роль самую положительную в дальнейшей нашей беседе, и переглядывались они между собой уже как-то несколько более сочувственно: вот, мол, не у них одних и память слабая, и внимание рассеянное. Не уверен, что я этих милых, промёрзших на сыром осеннем ветерке тётенек в чём-то в тот вечер убедил или переубедил. Сам же я, по крайней мере, услышал в перемене их тона, когда речь зашла о греческом оригинале, как оказалось, доступном для их собственного понимания с помощью подстрочника, отголосок той надежды, которая когда-то и меня обратила от «понятных» доктринальных идей и концепций к поиску живых отношений с живым Богом. Ввиду краткости общения мы с ними рассмотрели лишь одно из целого ряда не-до-разумений (буквально) с их пресловутым «столбом». Второе из них заключается в том, что, если бы руки Распятого были прибиты у Него над головой, то табличку с надписью «Иисус назарянин, царь иудейский» пришлось бы закреплять ещё выше, над руками. В Евангелии же употреблено именно выражение ἐπάνω τη̃ς κεφαλη̃ς, означающее «непосредственно над, подле, сразу над головой», а не просто ἀνά – «наверху» (ср. аналой от греч. ’αναλογείον – возвышение для текста). Для того чтобы надпись могла поместиться непосредственно «над головою Его»106, руки Спасителя должны были быть пригвождены по сторонам, то есть на поперечной перекладине креста. Интересно, что в качестве контраргумента «СИ» зачастую приводят книжную репродукцию XVII века, изображающую распятие на «столбе мучений», и как будто позволяющее поместить табличку непосредственно над Его головой.107 Следует, однако, обратить внимание на то, что изображённые на ней распинаемый – весьма атлетического сложения и, по-видимому, способен поддерживать себя на согнутых руках... в течение 6 часов? Подобные ляпсусы можно списать только на полное пренебрежение человеческой анатомией или на незнакомство с ней, а, стало быть, и рассчитаны эти доводы не на придирчивое и строгое внимание исследователя, а на наше вполне человеческое легковерие. Само обращение к книжной иллюстрации XVII века в качестве довода в разговоре о событиях первого столетия возможно только в контексте религиозной доктрины, которая и сама-то появилась на свет лишь полтораста лет тому назад и которой и то, и другое, видимо, представляется одинаково «дремучей древностью».
Всё, что угодно, только не крест! Ну, чем, например, плоха Т-образная конструкция, которая изображена на Вайдейковском полотне, того же, кстати, XVII столетия?108 Разве так уж необходимо, чтобы над горизонтальной перекладиной оставалось ещё место для таблички с надписью? Нетрудно, однако, заметить, что великий мастер кисти, судя по всему, не слишком затруднял себя исторической достоверностью: во-первых, бумага в те времена ещё не была завезена китайцами в страны Ближнего Востока, и табличка была либо глиняной, либо, вероятнее всего, деревянной. И, во-вторых, при всей выразительности мучений, мастерски отображённых на картине, само изображение предельно статично, и Распятый буквально растянут на кресте, в то время как истинную муку жертве и истинное наслаждение мучителям доставляла именно необходимость постоянного движения жертвы в попытке найти такое положение тела, при котором можно было сделать хотя бы ещё один вдох. Для этого в середине столба иногда прикреплялся небольшой выступ, на который распятый мог опереться ногами, или сами его ступни прибивались гвоздями к столбу. Современным патологоанатомам удалось, опираясь на свидетельство евангельского текста, восстановить поминутно всю паталогоанатомическую картину шестичасовых голгофских мучений Христа, и один из них, Фредерик Зугибе, в частности описывает её в таких подробностях: «при подвешивании на растянутых руках трудно вдохнуть из-за перерастяжения мышц груди, и распятый поэтому должен подтягиваться на руках, чтобы сделать вдох, но, когда наступает переутомление, он снова задыхается».109 Судя по всему, крест всё-таки был крестом. Кроме того, в самом тексте Писания содержатся ссылки, прямо опровергающие предположение о том, что гвозди были введены римлянами в практику крестной казни лишь во втором столетии. Книга Ездры, датируемая серединой V века до Р.Х., то есть, когда Римская империя ещё только-только зарождалась, приводит следующее свидетельство: «Мною же даётся повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвождён к нему».110 В свою очередь, свидетельство о том, что и римляне не отставали от иудеев в применении этой казни ещё с незапамятных времён, выставлено на всеобщее обозрение в одном из залов Эрмитажа, где прекрасно сохранившаяся скульптура III века до Р.Х. «Наказание Марсия»111 являет нам, кроме того, и образец «прогресса», если только в данном случае применимо это понятие, достигнутого ими ко времени земной жизни Христа. Римляне и в самом деле использовали при этом не гвозди, а кожаные ремни. Только ведь за три столетия не только гвозди успели подешеветь, но само орудие пытки весьма «усовершенствовалось»: мучение подвешенного за руки на столбе длилось недолго, так как казнённый быстро задыхался, не имея опоры для ног. Только на кресте, и именно таком, каким он был в соответствии с Евангельским текстом, мучение могло продлиться около шести часов, как это описано в Евангелии. Подтверждением тому, что казнь совершалась не на столбе, а именно на кресте служит, кроме того, употребление апостолом Фомой именно множественного числа слова «гвоздь» («…если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в рёбра Его, не поверю»)112. Ему, следовательно, было известно, что их было больше, чем один, как это было бы при распятии на столбе. А это значит, что руки Спасителя были раскинуты в стороны, что возможно только при распятии на кресте, но никак не на «столбе мучений». В кратких брошюрках, броских листовочках и ярких плакатиках всего этого, конечно, не расскажешь, но ведь и речь идёт о событиях и фактах гораздо более значимых, чем распродажа в супермаркете. На них имеет смысл потратить и время, и усилие.
Не случайно вот уже пятнадцать столетий тысячи и тысячи паломников совершают неблизкий путь во Святую Землю, чтобы лично удостовериться в том, что описанные в Евангелиях события произошли не в экзальтированном воображении их авторов, а в реальной человеческой истории, в конкретное время и в конкретном месте. Однако, что касается самого места Христовой крестной казни: знаем ли мы, на самом деле, где эта казнь происходила? Новозаветные тексты с удивительной настойчивостью повторяют, что событие это произошло за пределами города: «Место, где был распят Иисус, было недалеко от города»,113 а так же «Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат».114 Почему же тогда христиане так почитают церковь Воскресения Христова, более известную как храм Гроба Господня, расположенную в самом центре старого города, в границах древних городских стен? Что это – очередное религиозное заблуждение, пришедшее к нам из тёмной глубины веков? Или, может быть, и евангелист Иоанн, и автор Апостольского Послания, «забыли», где именно произошло это величайшее в их жизни событие? Раскопки и исследования, произведённые во второй половине XIX века настоятелем Русской Духовной миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином (Капустиным), вносят ясность в этот вопрос. Обнаруженные им остатки древней стены и проекция её направления, позволили заключить, что во времена земной жизни Христа это место находилось за её пределами. Кроме того, на глубине 8−10 метров (того исторического слоя, который соответствует началу I столетия) им было обнаружено великое множество человеческих останков, то есть кладбище.115 А ведь в те времена кладбища на территории города не устраивались, во-первых, по гигиеническим соображения, а, во-вторых, это было запрещено законом.
Скептикам, правда, и этого поначалу оказалось мало: ведь и человеческие останки, и камни стены – это же такой материал, который кто-то мог позже перенести с места на место! Объяснение того, зачем и кому могло бы понадобиться выкапывать множество костей, переносить их в другое место и потом закапывать на ту же глубину, остаётся на их совести. Но, главное, ведь обнаружены были кости в погребальных нишах, вырубленных в самой скале, а её можно заставить «перейти отсюда туда»116, имея хотя бы на горчичное зерно веры в Того самого Бога, в бытие Которого им так не хочется поверить. Столь же неосновательными оказались и их опасения, что стеновые камни могли использоваться в качестве строительного материала в более поздние времена и, следовательно, быть передвинуты. Речь, заметим, идёт о тех самых сооружениях, которыми восхищались ученики Христовы, входя с Ним в Иерусалим: «Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!».117 Обнаруженные архимандритом Антонином тёсаные блоки высотой в человеческий рост, а длиной и шириной по 4 и даже 6 метров,118 располагались в самом основании стены, а поэтому, когда римляне в 70-м году раскатали город Иерусалим практически в щебень, они оказались завалены и надёжно погребены под обломками верхней части стены. Следовательно, когда римляне принялись чуть более полстолетия спустя строить свой город Элия Капитолина на месте разрушенного Иерусалима, то остатки иерусалимских стен послужили для них прочным фундаментом. По всему, что мы, таким образом, знаем, – это то самое место.
* * *
За свидетельством достоверности исторических текстов Священного Писания одним людям приходится преодолевать чуть ни полмира, а кому-то оказывается достаточным сделать лишь несколько шагов, проехать несколько остановок или даже всего на всего пересечь коридор. Я со своими лекциями и презентациями на эту тему уже по нескольку раз облетел все города-миллионники России, объехал не десятки, а сотни городов и весей русскоязычного пространства трёх континентов, а также не раз и не два заглянул к добрым соседям: в Литву и Латвию, Белоруссию и Украину, Молдавию и Польшу, Болгарию и Финляндию, Словакию, Узбекистан и Армению. Некоторое время назад я, ради любопытства, посчитал налётанные мною за время моего служения километры, и оказалось, что я уже слетал на Луну и скоро снова приземлюсь на родную планету. И это – не считая ночных поездов, которыми мне приходится часто передвигаться внутри регионов, чтобы от одного миллионника к другому где-нибудь в середине Сибири не лететь через Москву или Питер. И это – не считая автодорог, где-нибудь, например, вдоль Уральских гор или Северного Кавказа, по которым меня передавали из рук в руки, встречаясь среди леса или полей на полпути от одного городка к другому, совершенно порой незнакомые мне люди. В среднем за год моей аудиторией оказывается около пяти тысяч человек – слушателей, участников семинаров, студентов, семинаристов, учащихся и т.д. И это, опять-таки, не считая радио- и телепрограмм, вебинаров и других медиа-презентаций, где счёт аудиторий идёт уже на многие сотни тысяч слушателей. Истинный масштаб служения, в котором я принимаю посильное участие вот уже вторую дюжину лет, мне удалось по достоинству оценить, вчитавшись однажды в официальное свидетельство, вручённое мне по окончании несколькодневной учительской конференции в Риге, на которую были собраны преподаватели истории со всей страны – почти 300 человек, то есть фактически по одному учителю из каждой латышской школы. Скреплённый четырьмя подписями и золотым оттиском документ выражал благодарность моей скромной особе в, ни много ни мало, «значительном вкладе в будущее Латвии». А ведь, и в самом деле, значительном, как заметила одна из моих коллег по служению, если каждый школьный учитель прошёл мой курс и получил полный набор методических материалов по интеграции исторического свидетельства о Христе в школьный курс истории, то это не просто красивые и лестные слова, а − по крайней мере, потенциально − вклад в будущее целого народа. И заслуга в этом, конечно, не моя собственная, поскольку я-то сам читал те лекции ни сколько не громче, чем обычно, а – организаторов конференции и, конечно, самих учителей, которые, взяв эти материалы в свои белы рученьки, адаптируют их для своей культуры, для своей школьной программы, для своего класса и для себя самих, чтобы свидетельство это выглядело и звучало вразумительно, доступно, толково и убедительно.
Столь масштабные презентации способны повлиять на мышление и убеждения сразу множества людей, причём не только непосредственно присутствовавших на них, но и, если это, например, учительские курсы повышения квалификации, множества студентов и учащихся, знакомящихся с этим материалом из уст этих учителей, из года в год на уроках истории или литературы. Не менее ценным является и тот подчас нежданный эффект, который оказывает свидетельство об историчности христианской веры на отдельного человека. По окончании одной из лекций для учителей-гуманитариев в подмосковном методическом центре ко мне, явно дождавшись, пока все разойдутся, подошла женщина, которой я, насколько я мог припомнить, не видел в своей аудитории.
− Я, собственно, главный бухгалтер методического центра, и мой кабинет – как раз напротив вашего зала, – начала она, очевидно смущаясь, но я уже начинал догадываться, что произошло. – Прохожу я мимо приоткрытой двери, возвращаясь с обеда, и вдруг слышу взрыв смеха из аудитории. У нас, честно признаться, не часто смеются на лекциях, и меня разобрало любопытство: над чем или над кем они там потешаются? И вдруг я слышу, что вы говорите о Христе и о Боге, а это уже никак не вязалось ни со смехом, ни, тем более, со стилем и статусом нашей учебно-методической организации. Я постояла и послушала за дверью минут пять и уже не могла оторваться. То, что я слышала и видела через неплотно прикрытую дверь в зал, с одной стороны, было для меня совершенно ново, а ведь я человек уже не молодой. А, с другой стороны, это было именно то, чего мне всю мою жизнь не хватало – чтобы кто-то спокойно, не напирая, толково, а где-то и с юмором, ответил на те вопросы, которыми не может не задаваться каждый здравомыслящий человек, однажды услышавший о Боге, побывавший в церкви или прочитавший Евангелие. Я часто хожу в церковь и долго пыталась сама разобраться в Библии, но вот такого, наглядного и очевидного свидетельства веры мне ещё слышать не приходилось. Я понимала, что это лекция, вообще-то, проводится не для меня, и что мне надо вернуться к моей работе, но…
Словом, пришлось мне и главбуху выдать полный набор раздаточных материалов, а также, конечно, посоветовать пару приходов в их городе, где, как я знал, проводятся очень основательные и содержательные огласительные курсы, чтобы накопившиеся у неё вопросы постепенно находили разрешение. Подобные ситуации случались со мной не раз, когда по окончании презентаций, видеозаписей или интервью, ко мне обращались телеоператоры, звукорежиссёры или администраторы тех помещений, в которых проходили эти встречи, с вопросами по их содержанию или просьбами о дополнительных материалах и источниках:
− Я, собственно, никогда особенно и не задумывался, почему я атеист. Так вырос, так воспитали, к этому и привык, – посетовал мне как-то телеоператор, записывавший мою лекцию для местного канала. – Оказывается, не так всё просто. Когда вы говорили на камеру, я совершенно точно знал, что вы обращаетесь лично ко мне. Очень рад, что мне ещё придётся поработать над видеозаписью, а значит, будет время ещё раз обдумать увиденное и услышанное.
Нам с ним почти наверняка в этой жизни никогда больше не встретиться, и очень невелика вероятность, что наши с главбухом пути когда-нибудь пересекутся. Мне очень хочется надеяться, что кто-то когда-то, тем не менее, услышит от них исповедание их веры во Христа или, может быть, заметит в их жизни такую благодатную перемену, что уже и никакого исповедания не потребуется. Моё дело – не собирание плодов, не жатва, и, как мне иногда кажется, даже не сеяние драгоценных зёрнышек истины, а скорее – разрыхление почвы, удаление валунов и разбор завалов. Даже если кто-то на моей лекции просто всерьёз задумается о своём неверии, значит, я уже добился успеха. Ни малейшей ревности, ни, тем более, каких-либо претензий я не испытываю ни к тем, кто как-то по-своему нёс человеку своё свидетельство о вере до меня, ни к тем, кто пожнёт плод радости от приведения его ко крещению и к первому причастию. Где это произойдёт, когда это произойдёт, и как это произойдёт, я почти наверняка никогда не узнаю, а потому мне остаётся лишь с благодарностью принять человека из рук приведшего его на мою презентацию и с верой передать его тому, кому выпадет честь вести человека дальше. Меня в этом смысле многому научил ответ моего знакомого американского православного священника на мой вопрос о его отношении к «засилию» протестантов (62,9% от всех верующих) и католиков (20,8%) в США при довольно скромном проценте православных (0,6%). Во-первых, он напомнил мне, православие в Америке в течение многих лет (1980−2000-е) оставалось самой быстрорастущей христианской конфессией, опережая по темпам своего роста абсолютно все остальные христианские церкви, и, во-вторых, заметил он, что язык не повернётся у него сказать ничего дурного о протестантах именно потому, что бóльшая часть этого роста происходила именно за счёт перехода в православие из других по-преимуществу протестантских, конфессий.
− Ведь это они за меня уже проделали весь самый тяжёлый и неблагодарный труд. Это они этих людей где-то нашли и некоторых вытащили из каких-то их помоек. Это они проповедали им Христа. Это они привели их в церковь. Это они преподали им прекрасный вводный курс систематического богословия. Это они приучили их читать, понимать и помнить Писание. Это они зажгли в них огонь миссионерства. Это они научили их церковной (в т.ч., финансовой) дисциплине. А мне досталось самое радостное и приятное – славить с ними Бога и помогать им возрастать в Духе! Ничего, кроме глубочайшей благодарности, я по отношению к ним не испытываю. Каждому человеку и каждому человеческому сообществу – семье, общине, приходу, народу – Господь поручает вполне определённую роль в Своём божественном замысле, и хорошо, если мы будем стараться исполнять свою, а не претендовать на чужую или обижаться на то, что она нам почему-то не досталась.
* * *
Конечно, мне бы хотелось не только читать лекции и проводить семинары об удивительных археологических находках и открытиях, но и самому совершить хоть одно из них или, по крайней мере, оказаться этому свидетелем. Тем более что некоторые из открытий совершаются, что называется, в реальном времени, в наши дни и в тех местах, где я, казалось, только что и сам побывал! Я, конечно, имею в виду Святую Землю, которую мы посетили всем семейством в 2013-м году и не могли не поразиться тому, в каком, мягко говоря, неприглядном состоянии пребывала в то время, казалось бы, «святая святых» – часовня («кувукля»), над гробницей в храме Гроба Господня. Оказывается, ещё в 1940-х годах, когда её состояние было признано угрожающим, британские инженеры не придумали ничего лучшего, как опоясать её внешним каркасом из стальных швеллеров, совершенно при этом изуродовав её вид, видимо, в расчёте на скорую, более масштабную и кропотливую реставрацию. Прошло более полувека, пока церковные власти, наконец, нашли общий язык с историками, археологами, реставраторами и инженерами под угрозой полной потери этой святыни, если она не будет совершенно незамедлительно восстановлена и укреплена в самом своём основании. Реставрация в 2016−2017 гг. включала в себя цементирование водоотводов храма, как оказалось, проходивших непосредственно под часовней, и приводивших к её постепенному разрушению. Для этого, прежде всего, было необходимо снять верхнюю защитную плиту над тем местом, на котором покоилось Тело Христово. Под ней была обнаружена следующая плита с высеченным на ней крестом ордена крестоносцев XI−XIII веков, что заставило историков усомниться в древности и, следовательно, достоверности этого артефакта, и, как следствие, самого этого места. Нижняя плита эта оказалась, однако, вцементированной в стены гробницы, как показал анализ материала, ещё в IV столетии, то есть во времена правления императора Константина. Таким образом, подтвердилась версия о восстановлении его матерью, императрицей Еленой, места погребения Христова в 326 году. Сами стены погребальной камеры учёные ожидали найти выложенными из кирпича или камня, то есть выстроенными на обнаруженном императрицей Еленой месте в годы её правления или даже позднее. Реальность превзошла все ожидания исследователей: и стены камеры, и «полка» (возвышение), обнаруженная под этой нижней плитой, на которую было положено Тело Спасителя, являются частью скалы, в которой вырублена гробница.119
Согласно историку Евсевию Кесарийскому (263–340) римский император Адриан (117−138), нещадно преследовавший христиан и стремившийся искоренить из их сознания и памяти всякое зримое свидетельство их веры, в 135 году сровнял с землёй место их поклонения памяти Христа воскресшего – Гробницу Господню. На месте Голгофы им был построен храм богини Венеры, а на месте погребальной пещеры – храм Юпитеру. Два столетия спустя император Константин распорядился разобрать этот храм, и на его месте были проведены раскопки, обнаружившие останки гробницы. Поставленная Константином на этом месте церковь несколько раз горела и перестраивалась, и современные учёные практически не надеялись обнаружить каких-либо свидетельств или артефактов, относящихся к первоначальной новозаветной истории этого места. Однако во время реставрации «кувукли» под двумя слоями мраморных плит, снимавшихся для чистки и подновления, археологами был раскрыт самый, что называется, первоначальный материал – известковая скала. Как оказалось, при строительстве храма Юпитера Адрианом была разрушена лишь верхняя и внешняя часть пещеры, но остались в неприкосновенности две боковые её стены, а также «полка» (или «ложе»). Именно благодаря тому, что эта страта (уровень) была завалена обломками разрушенной пещеры и окружающих построек, само это место сохранилось до нашего времени как свидетельство истинности новозаветной истории. В очередной раз Господь обращает во благо нам и во славу Себе даже самое зло, направленное против Него и Его Церкви. Опасение некоторых критиков о том, что за два поколения в исторической памяти сотен местных христиан начисто истёрлось воспоминание о месте расположения их величайшей святыни, и они просто ткнули пальцем в первую попавшуюся гробницу, является крайне маловероятным и не принимается всерьёз даже самыми скептически настроенными исследователями. По счастью, далеко не все историки «творят» историю, а некоторые честно её тщательно изучают и достоверно описывают. У.М. Рэмси был учёным-археологом, исследователем древности при Оксфордском Университете, посвятившим свою жизнь раскопкам свидетельств описанных апостолом Лукой событий и фактов. Поначалу скептически отвергая историческую достоверность новозаветных писаний, он изменил своё мнение на противоположное в результате сделанных им в земле Израиля открытий. «История в изложении Луки является непревзойдённой по её достоверности... [Лука] – историк самого высшего разряда в ряду других величайших историков»120, не допустивший ни единой ошибки при описании девяти островов, тридцати двух стран, пятидесяти четырёх городов.

Оттиск печати пророка Исаии VIII в до н. э.
Если же кому-то недостаточно этих свидетельств – милости просим на раскопки.121 Они ведутся силами волонтёров со всего мира, и каждый имеет возможность выкопать столько свидетельств достоверности Библии, сколько ему будет достаточно. Цифры уже добытых артефактов впечатляют: на сегодня 53 действующих лица Ветхого Завета подтверждены внешними источниками, причём год 2017 был особенно богат публикациями этого рода – сразу три ветхозаветных персонажа оказались упомянуты в обнаруженных надписях и рукописях, соответствующих периодам их жизни согласно Писанию. Об одном из этих открытий следует упомянуть особо, ибо касается оно имени самого пророка Исаии. Оттиск печати с именем и титулом пророка был найден одновременно (в 2009 году) с печатью царя Иезекии, на том же месте и в той же страте. В Библии, однако, упоминается семь различных людей под именем Исаия. Давайте рассудим, можем ли мы с уверенностью сказать, что речь идёт о том самом библейском пророке. Во-первых, сам артефакт был обнаружен археологами непосредственно при раскопках, а не приобретён из третьих рук на аукционе древностей – его аутентичность не вызывает сомнений. Во-вторых, место и страта находки совпадают по времени и с периодом правления царя Иезекии (VIII в. до Р.Х.), и с эпохой пророка Исаии (IX−VII в. до Р.Х.). Кроме того, гомогенность других артефактов из этого сайта свидетельствует о том, что они не были перемешаны с объектами, относящимися к более поздним или более ранним периодам. И, наконец, тот факт, что в тексте Писания имена царя Иезекии и пророка Исаии встречаются в одном и том же стихе более 15 раз, а оттиски их печатей обнаружены в непосредственной близости один от другого, является подтверждением их близкой связи. «Вероятность того, что печать могла принадлежать кому-либо иному, кроме известного нам пророка, чрезвычайно мала», – пишет израильский археолог Ейлат Мазар, ранее открывшая дворец царя Давида, комплекс царских хором Соломона, стену Ниемии, а также золотую менору VII века до Р.Х. По её словам, однако, данная находка – особенная, ибо является самым ранним упоминанием царя Иезекии на артефакте, обнаруженном самими археологами, а не приобретённом у бедуинов или на аукционе.122
В общей сложности из почти девяноста лиц, упоминаемых евангелистом Лукой, более тридцати обнаруживаются в независимых источниках и оказываются именно теми, кого мы знаем по Новому Завету. Следует отметить, что среди упоминаемых в новозаветном тексте лиц – не только никому не известные персонажи, но и широко известные деятели тогдашней политической, культурной и религиозной жизни. Всего же на данный момент подтверждено независимыми источниками 23 политических деятеля (римских и иудейских), что, в свою очередь, позволяет с большей точностью вписать новозаветные события в ход и местной, и мировой истории. Например, каменный блок с именем проконсула Ахии Луция Галлиона, старшего брата знаменитого поэта (и будущего воспитателя императора Нерона) Сенеки, позволяет суд над апостолом Павлом123 с абсолютной уверенностью датировать 51−52 годами по Р.Х.124 Эти находки, таким образом, связывают нас, живущих тысячелетия спустя, с теми, кто был участниками и очевидцами жизни Бога на Земле, а сами эти события делают частью нашей исторической реальности. «То, что случилось с Ним – крестная смерть, сошествие в ад, воскресение, вознесение – относится непосредственно и к роду человеческому: это не только Божественное событие, – это событие и человеческое», – писал митрополит Антоний (Сурожский).125 Если мы не осознаём этого, не вспоминаем об этом или не утруждаем себя усилием узнать об этом, наша вера в живого Бога рискует обратиться в набор догм, обрядов и суеверий, имеющий лишь внешнее сходство с тем, что заповедано нам Им Самим.
* * *
К несчастью, с таким вполне языческим по сути, но внешне благочестивым и благоустроенным вероисповеданием «христианства» приходится сталкиваться чаще, чем хотелось бы, и там, где, казалось бы, этого можно было менее всего ожидать – в церкви! Лет пять тому назад в одном северокавказском епархиальном управлении, куда я позвонил, чтобы предложить свои семинары, меня долго перенаправляли из одного отдела в другой, пока, наконец, я не добыл номера, как мне казалось, собратьев по профессии – отдела образования и катехизации. Представившись и сразу заверив сотрудницу, что расходов с принимающей стороны не ожидается никаких, поскольку в их город я всё равно уже прибываю по линии местного наробраза и всё равно уже буду читать свои лекции милым моему сердцу местным учителкам, я, тем не менее, не смог ни на грош заинтересовать её своим предложением.
− Ну, во-первых, скажите честно, зачем тогда вам это надо? И, во-вторых, мы всё равно без благословения владыки ничего не делаем.
− Как? – немало удивился я, – вообще, ничего?
− Если владыка благословит, будем заниматься вашим вопросом. Звоните секретарю, – получил я вполне толковую инструкцию, и что-то подсказало мне на этом и распрощаться. Чинно, обоснованно и твёрдо мне было дано понять, что про заповедь «научите все народы»126 в этом конкретном отделе образования знают на сегодня лишь в каком-то совершенно отвлечённом смысле, никак не связанном с ежедневным, жертвенным и посвящённым Богу трудом. Какие-то иные ценностные ориентиры и установления занимают здесь приоритетное место. Мне не ведомо и, наверное, никогда не будет ведомо, почему это у них именно так в этот момент сложилось, и я поэтому ни в коем случае, во-первых, не берусь никого за это осуждать, а, во-вторых, со спокойной душой обязательно снова позвоню им же ещё раз, как только пути мои снова пролягут через те благословенные края. Получив отказ, даже иногда в резких и заведомо обидных выражениях, мы ни в коем случае не освобождаемся от призвания научать все народы, в том числе и те, которые по каким-то неведомым причинам нам однажды отказали в такой чести и радости. Сколько раз слышал я потом от тех же самых людей выражения самой искренней благодарности за то, что я не обиделся и снова позвонил им год спустя. В прошлый-то раз они, дескать, ну никак меня не могли принять, и, оказывается, жутко переживали, что пришлось дать от ворот поворот хорошему человеку. Почему и как свидетельство о живом Боге стало для них за это время важнее соблюдения чинности, заботы о собственном покое или каких-то ещё местночтимых условий и обстоятельств, мне уже и не важно, и, по правде сказать, не очень интересно. Главное, что и у них хватило духу на этот раз взяться за дело, испросив на это, естественно, владычина благословения, и что меня Господь смирил, надоумив, как ни в чём не бывало и не помятуя лиха, обратиться к ним ещё раз. И ещё раз. И ещё раз. Мы не должны и не можем лишать человека ещё одной благодатной и, потенциально, спасительной для него возможности услышать свидетельство о Боге лишь на том основании, что нам было по какой-то причине отказано в этом тогда, когда мы на это рассчитывали. Мало ли, на что я рассчитываю – человек, как известно, лишь предполагает…
Так, собираясь в очередную свою миссионерскую поездку и прокладывая свой очередной трёхнедельный маршрут через города центральной Сибири, я, естественно, просил своих соработников по духовной ниве связать меня с теми людьми, которых моё служение могло бы потенциально заинтересовать. Школы, семинарии и университеты являются моим основным миссионерским полем лишь с сентября по май, но зато церкви, лагеря, конференции и тюрьмы – круглый год. Имя молодого и энергичного священника в Красноярске выплыло сразу по нескольким «каналам», и по первому же телефонному звонку я понял, почему: человек оказался, и впрямь, открытый, общительный и деятельный. Стоило мне представиться и вкратце объяснить суть моего служения, как он тут же перехватил инициативу:
− Очень будем рады вашему приезду. Лето, конечно, − пора отпусков, народ разъезжается, жизнь на приходах замирает… Так давайте её расшевелим! – воскликнул он с таким энтузиазмом, как будто это не я ему звонил с предложением лекций, а он сам меня уговаривал приехать. – Есть у меня семейный лагерь на примете, молодёжная группа и, конечно, радио. Это – для начала, а там, глядишь, ещё что-то Господь пошлёт. А от нас вы потом куда?
Тут же выяснилось, что и в пункте моего следующего назначения у него живёт и служит ближайший друг ещё по семинарской скамье и тоже молодой и энергичный священник. Вдохновлённый и напитанный позитивной энергетикой красноярского батюшки, я, естественно, не преминул тут же воспользоваться данным мне именем и телефоном, пока ещё позволяла разница в часовых поясах. Представившись и передав привет от семинарского друга, я с радостью узнал и общий для них сибирский говорок, и настоящее сибирское радушие.
− Очень будем рады вашему приезду. Лето, конечно – пора отпусков, народ разъезжается, жизнь на приходах замирает… – услышал я почти слово в слово знакомое начало и уже готов был перейти к конкретным датам и планам презентаций, когда в трубке прозвучало менее всего мною в этот момент неожидаемое. − Так что, ничего, к сожалению, мы для вас в это время организовать не сможем…
Два очень похожих по возрасту и образованию человека, священника и, как в дальнейшем оказалось, замечательных семьянина и настоящих сибирских хлебосола. Одни и те же исходные данные: лето в Сибири. Одна и та же задача – организация духовно-просветительских встреч. Два совершенно одинаковых хода мысли, приводящие к двум совершенно противоположным выводам. Как такое возможно, я, конечно, никогда не узнаю, да это и не так важно – причин может быть миллион. Главное, как же быть в подобных случаях?
Найти ответ на этот вопрос мне помог, сам, конечно, того не ведая, один чиновник, вершивший в Одесской области делами усыновления детей-сирот в середине 90-х. Пытаясь найти хоть какое-то основание для отказа американской семье, которой я пытался помочь в усыновлении четырёх воспитанников детского дома, он не нашёл ничего умнее, как упрекнуть американцев же в их бесчувственности:
– А почему вы выбрали этих четырёх детей? А вы подумали, как себя будут чувствовать все остальные двести девяносто три в этом интернате, которых вы таким образом отвергли?
Я, честно говоря, просто растерялся от такой, с позволения сказать, логики, но постарался перевести её для американки как можно ближе к тексту. Умница Джули, однако, нисколько не смутившись, ответила так же прямо:
− Очень хорошо. Если это ваше единственное возражение, то, чтобы никого не обижать, я готова заняться усыновлением всех двухсот девяносто семи душ. В Миннесоте – многолетняя очередь на усыновление, и найти им приёмные семьи будет не слишком трудно.
Конечно, чиновника это решение тоже не устроило. Его ведь не чувства детей на самом-то деле беспокоили, а возможность наживаться за их счёт – предложение о взятке он сформулировал мне, оставшись один на один, вполне недвусмысленно. Меня же этот случай научил сразу двум очень и очень важным жизненным правилам: во-первых, что невозможность сделать всё, не должна и не может служить оправданием нежелания делать то, что возможно. Понятно, что одна семья американцев не могла кардинально решить проблему сиротства во всей Украине, но это не останавливало их попыток помочь тем немногим детям, на которых у них хватало сил и средств. Второй для меня урок заключался в том, что свобода выбора не означает свободы от выбора. Никто не заставлял этих конкретных Джона и Джули останавливать своего выбора именно на Наташе, Рае, Артуре и Руслане. Они избрали себе детей по влечению своих собственных сердец. Однако не выбирать, а, следовательно, не отвергать одних в предпочтение другим они не могли.
В моём случае это означало, во-первых, что радушием не заинтересовавшегося на этот раз в организации семинаров священника я всё-таки воспользуюсь, чтобы познакомиться поближе – благо в его городе нашлись на тот момент и другие «площадки» для моих презентаций. И, во-вторых, не сокрушаться, а радоваться мне надлежало, что священник вполне ответственно и честно отдал предпочтение какой-то другой форме служения, которая ему на месте представлялась, может быть, более действенной и актуальной. Наше знакомство, я уверен, продолжится и при случае разовьётся благодаря этой встрече, знакомству с опытом служения и свидетельства, благо поселил меня батюшка в то по-сибирски палящее лето неподалёку и в чудесно прохладном помещении, где ни кондиционера, ни вентилятора не требовалось. Даже вход был отдельный – сбоку в подклет изумительной красоты барочного храма XVII века, а о предназначении того выступа под его сводчатым потолком, на котором была мне устроена постель, я догадался лишь в последний день – это была бывшая покойницкая. То-то сновидения посещали меня в те ночи не совсем обычные!
Вообще же, встречи и знакомства с людьми, терпеливо и настойчиво, упорно и неторопливо несущими своё миссионерское служение, кроме прямой пользы для дела, случаются особенно кстати, когда после целой череды полных залов, классов и аудиторий в одном городе или регионе, перебираешься в другой и как будто вдруг с разбегу налетаешь на глухую стену абсолютного непонимания, неприятия и равнодушия. И руки опускаются, и уже ничего не хочется делать, и никуда больше не хочется ехать, если то, что тебе представляется самым насущным и необходимым на свете, вдруг оказывается никому не нужно, не важно и не интересно. Звонишь, а тебя посылают, мягко говоря, по инстанциям. Пишешь, а тебя даже не удостаивают ответа, хотя бы и отрицательного. В лучшем случае, слышишь нечто невразумительное и совершенно безответственное типа «мы постараемся», которое в переводе с русского на русский означает: отказывать мы не хотим, но и делать ничего не будем. А раз так, думаешь, и вам это не надо, то и я вполне могу заняться чем-то поспокойнее и поприбыльнее, чем мотаться по миру со своими лекциями, ночевать в поездах и аэропортах, трепать себе нервы из-за чьей-то невнимательности или безалаберности и постоянно зависеть от людей, мне малоизвестных, а то и совершенных незнакомцев. Вот в такие-то минуты и встречаешь или вспоминаешь служителей Господних, свидетельство о Нём несущих каждый день, с утра и до вечера, из года в год, и, как правило, не выбирающих, куда бы ещё поехать, чтобы совершалось оно с большей отдачей и меньшими личными затратами. И тогда всё становится на свои места.
– Продолжайте трудиться, – ответил мне наш правящий архиерей в ответ на одно из многих моих к нему обращений за благословением. – Продолжайте трудиться.
Поначалу меня, признаюсь, несколько смущало такое отношение к делу, как кажется, важнейшему и Богом заповеданному, а именно, духовно-просветительскому, и хотелось услышать и от владыки, и от своих соработников чего-то вроде официального благословения или, по крайней мере, признания важности моего служения. Впрочем, это признание пришло – от группы студентов-пятикурсников исторического факультета одного из северных российских федеральных университетов, где мне предоставилась возможность провести аж три академических пары. Для начала знакомства я попросил их назвать мне по одному самому важному историческому событию на столетие. В первом веке, по их мнению, это было, безусловно, сожжение императором Нероном древнего города Рима; во втором, конечно, Pax Romana – наибольший расцвет, распространение и мирное существование Римской Империи и т.д. Когда же я спросил их, почему эти события происходили, то, оказывается, свою столицу подпалил Нерон, будучи, что называется, не в себе, то есть в состоянии временного безумия, а Римский Мир сложился ввиду целого ряда совершенно случайных счастливых обстоятельств. Самые значительные события истории человечества, таким образом, совершались либо сумасшедшими людьми, либо происходили как-то сами собой, стихийно и без какого-либо смысла и замысла. Вслед за этим мы обратились к истории земной жизни Христа и свидетельствам её достоверности, то есть вернули в их курс истории то её ключевое событие, которое как раз около ста лет тому назад было из него изъято, мы все знаем, кем и с какой целью. Надо было видеть, как загорались глаза этих студентов, когда они один за другим вдруг начинали связывать его со всем остальным ходом человеческой истории! Пятикурсники знали историю, но, как оказалось, совершенно не понимали её, и тут у них на глазах она начинала обретать смысл – её события и факты, в буквальном значении этого слова, осмыслялись новозаветной историей. Без неё ни жизнь отдельного человека, ни история всего человечества в целом, и на самом деле, не имеют смысла, безумны и бесцельны. Земная жизнь Христа – важнейшее событие истории, и не случайно поэтому свидетельства о нём сохранились в таком множестве и такого качества, как ни об одном другом событии древней истории: «Повествования евангелистов подтверждаются и дополняются античными и иудейскими авторами, а также открытиями современных археологов»127, – писал о. Александр Мень. Если мы, вообще, что-либо знаем о своей истории, то знаем мы это из источников гораздо менее достоверных, чем Библия. Тому, кто ставит под сомнение её достоверность, придётся в таком случае признать, что мы вовсе ничего толком не знаем из древней истории. Ну почему же? Знаем и неплохо знаем. Но эту историю мы знаем достовернее любой другой на свете. Её «Богодухновенность» не ограничивается побуждением пророков и евангелистов к написанию библейских текстов и не заканчивается на этом. Тот же Дух Божий позаботился и о сохранении этих свидетельств в количестве и качестве, достаточных для принятия нами тысячелетия спустя вполне информированного решения об их смысле и содержании; вместе с тем, они не являются нам с небес и потом столь же загадочно и бесследно исчезают в виде золотых листов и пластин на не известном ни до, ни после «изменённом египетском языке», если я правильно помню мормонское предание.
Мне, кстати, как-то однажды пришлось лететь из штата Юта, где в большинстве своём и проживают американские мормоны, и соседом моим на два с лишним часа оказался, как он сразу же и не без гордости заявил, один из прямых потомков тех самых нескольких человек, подписавших «Удостоверение свидетелей» и державших в своих руках эти позже исчезнувшие листы. По профессии он был инженером каких-то сложных фильтрационных систем, о чём также рассказывал со всем присущим истинному профессионалу достоинством. В свою очередь, представившись миссионером и преподавателем, я уже внутренне потирал ручки, рассчитывая на неторопливый и толковый разговор с милейшим, как это сразу было видно, человеком, на тему, которая и для него, совершенно очевидно, представляла предмет личной заинтересованности.
− Итак, что же мы знаем о Боге, откуда мы это знаем, и насколько достоверно это наше знание? – забросил я удочку.
Пауза провисела чуть дольше, чем я рассчитывал, и упала совсем не на том месте, где я ожидал.
− Вы полагаете меня за дурака? (Do you think I am stupid?),– ответил мне мой сосед, обиделся и отвернулся к окну, за которым Солёное озеро накренялось по мере разворота нашего самолёта на правильный курс, рискуя, казалось, пролиться в раскинувшуюся за ним пустыню. Извинившись, и я уткнулся в своё дорожное чтиво, но, естественно, не мог простить себе свою бестактность, очевидно, испортившую человеку настроение, и потому пытался понять, как же мне надо было повести нашу беседу, не ставя его в неловкое положение. Ответ на это нашёлся, как только я вспомнил о посещении с моими тогда ещё тинейджерами Аней и Ваней самого мормонского «логова» – штаб-квартиры ИХС в Солт-Лейк-Сити несколькими годами ранее. Перед началом экскурсии по их «кампусу» нам был предложен полноценный и совершенно изумительный хоральный концерт, а уже на выходе из зала мы были встречены «парочками с бирочками», готовыми ответить на все наши вопросы. Детки мои при этом сразу отодвинули меня назад:
− Знаем-знаем, папочка, ты сейчас как паровой каток на них наедешь, а нам, и правда, интересно узнать про их веру от них самих. Должно же быть что-то такое, ради чего они и страдания претерпели, и сейчас себе во многом отказывают, и живут по большей части весьма благочестиво.
Пришлось мне смирить свой миссионерский задор и, заодно, свою родительскую ревность, за что, надо сказать, я был с лихвой вознаграждён. Ах, как наши детки грамотно формулировали свои вопросы! Ах, как деликатно и сочувственно они подводили экскурсоводов к самым чувствительным пунктам их вероучения! Ах, как радовалось моё родительское сердце, наблюдая, насколько умело они обходили наиболее неловкие для хозяев ситуации! На каком-то этапе первая молоденькая парочка сдалась и пригласила парочку постарше, но и эти продержались недолго, так что в общей сложности мы с детками укатали своей любознательностью три смены «консультантов». Причём моя роль заключалась лишь в том, чтобы помалкивать в тряпочку и, конечно, радостно славить Бога за столь наглядный для меня урок ведения апологетической беседы. Только уже распрощавшись с последней, весьма почтенной парой, детки мои с видимым разочарованием пожали плечами:
− Мы-то думали, у них тут какая-то тайна или хоть что-то оригинальное! Потрясающе примитивно. И нельзя же на полном серьёзе воспринимать в качестве исторического свидетельства о событиях тысячелетней давности чуть ли ни гуашью нарисованные картинки современных нам живописцев. Не говоря уже о весьма сомнительных художественных достоинствах этой живописи…
За христианством не случайно закрепилась репутация веры для требовательного и основательного ума, тонкого вкуса и высокой морали. Хотя, конечно, не всегда и не все христиане соответствуют этой высокой планке. Я благодарен и своему попутчику в самолёте, и своим деткам на экскурсии по мормонскому центру за напоминание об этом. Когда-нибудь, Бог даст, появится на свет и книга, в которой будут собраны свидетельства изящных искусств о Его бытии и участии в жизни мира, но уже на сегодня «…благодаря современным открытиям в области истории, филологии, археологии, палеографии и других вспомогательных наук в области исагогики мы приведены к возможности ещё ближе, полнее и подробнее видеть действие Бога, открывающего Себя человечеству и устрояющего его спасение»128 − писал об этом профессор Свято-Сергиевского Православного Богословского Института в Париже протоиерей Алексей Князев.
Христос – Бог?
Итак, нами установлено то совершенно уникальное среди множества других известных в мире религиозных верований основание, на котором зиждется христианская вера. И основание это – твёрдое и состоятельное – исторический факт Богоявления, происшедший в человеческой истории. Мы не первые, кто искал и находил его путём не интуиций или медитаций, а тщательного исторического исследования. Апостол Лука, живший за две тысячи лет до нас, так начинает своё повествование: «Рассудилось (курсив мой – О.В.) и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твёрдое основание того учения, в котором был наставлен: во дни Ирода, царя Иудейского, был священник из Авиевой чреды, именем Захария».129 Почему же людям и тогда бывало, и сейчас бывает так трудно признать его, согласиться и смириться с ним? Не потому ли, что этот факт и поистине невероятен, чудесен, парадоксален и сверхъестественен? Только задумайтесь: бесконечный… Бог… стал… Человеком, вступил в человеческую историю и жил, обитал посреди людей.
− Стоп, стоп, стоп! – снова возвысят свои голоса критические умы. – А откуда известно, что этот человек, жизнь которого так подробно и так достоверно описана в Евангелии, – Бог?
Прекрасный вопрос, и я рад, что вы его задали. Ведь, и в самом деле, откуда нам, вообще, могло бы стать об этом известно? Конечно, только от Него Самого! Он Сам заявлял об этом, нисколько не стесняясь, многократно и совершенно недвусмысленно, то есть так, чтобы у его аудитории не оставалось ни малейших сомнений в смысле Его слов. И преследуем, и, в конце концов, казнён Он был не за призыв к восстанию и не за проповедь какого-то радикального учения, а именно за то, Кем Он Себя называл, Кем Он был, и Кем Себя являл – Богом. Примеров Его откровенного и бескомпромиссного притязания на Божественность в новозаветном тексте находится немало. Вот лишь некоторые из них:
«Я есмь»130 − что на иврите звучало как «Яхве», т.е. являлось именем Божьим;
«Я и Отец – одно»131 − что отсылало слушателей к ежедневно произносимой ими молитве «Шма Исраэль Адонай Элоэйну Адонай эхад» (слушай, Израиль, Господа Бога своего, Бога единого)132;
«Я – Господь»133 − что на иврите звучало как «Адонай», т.е. являлось именем Божьим;
«Я – от начала Сущий»134, т.е. Творец вселенной.
Напомню, что законы экзегетики – науки понимания и истолкования текста – требуют каждое слово понимать в контексте предложения (стиха), каждое предложение – в контексте смыслового отрывка, каждый отрывок – в контексте книги, каждую книгу – в контексте всего Писания, Писание – в контексте Предания (накопленного опыта осмысления и применения текста) и всего откровения Божия о Себе в науке, культуре, природе и т.д. Не у всех, к сожалению, достаёт времени и терпения прочитать и осмыслить приведённые выше (и другие) библейские цитаты именно так, как они воспринимались и их авторами, и той непосредственной аудиторией, к которой они в то время обращались. А если − делается скороспелый вывод − нигде в тексте Иисус Христос прямо не произносит именно этих слов «Я – Бог» (желательно, указывая при этом перстом сначала на Себя, а потом на небо), то все остальные Его указания на Свою Божественность уже не принимаются во внимание. Но ведь перед нами не академический словарь и не учебник по систематическому богословию, где такие чеканные формулировки могли бы и даже должны иметь место, а живой рассказ о событиях, происходивших часто во вполне житейской обстановке или разыгрывавшихся настолько динамично и драматически, что участникам их было не до соблюдения формальных требований, предъявляемых к научному труду. Мало того, окажись подобные формулировки в Евангельском тексте, учёных это немедленно заставило бы насторожиться и заподозрить более поздние вставки (что, кстати, и случается в рукописях последующих столетий). Обращаясь, однако, от сослагательного, нереального наклонения, описывающего всякого рода фантазии и предположения, к изъявительному, реальному, отражающему действительные факты истории, придётся признать, что согласно свидетельствам очевидцев, дошедшим до нас во вполне исторически достоверных документах, Христос заявлял о Себе как о Боге.
Ну и что? Мало ли кто и что о себе заявляет? Любому из нас может прийти в голову подобная, далеко не оригинальная идея, а некоторые – достаточно вспомнить нашего современника, пресловутого Виссариона из Красноярского края – даже дерзают заявлять об этом публично. Только ведь и Сам же Христос признавал, что Его собственного свидетельства о Себе ещё недостаточно: «Если Я свидетельствую о Самом Себе, свидетельство Моё не истинно». А потому призывал в поручители истинности Своих притязаний те «источники», которые внушали доверие Его слушателям, иудеям: «Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине», «И пославший Меня Отец, Он и засвидетельствовал обо Мне». И наконец: «Вы исследуете Писания, потому что думаете в них иметь жизнь вечную. А они и свидетельствуют обо Мне».135 Этот последний отрывок, между прочим, в Синодальном переводе звучит в повелительном наклонении – «исследуйте», что, во-первых, делает весь стих синтаксически невозможным и бессмысленным, и, во-вторых, являет нам Христа не вполне осведомлённым о том, что уж кого-кого, а книжников призывать к исследованию Писания, мягко говоря, излишне. И, главное, Бог стал Человеком не для того, чтобы тем самым утвердить святость sola Scriptura и пропагандировать всеобщую библейскую грамотность, но чтобы явить Себя Самого во всей возможной для нашего человеческого восприятия полноте, а в Писании содержится лишь отражение этого события средствами письменности. Мог бы, конечно, Христос оставить по Себе лишь стройную богословскую доктрину, свод заповедей и премудростей. Именно так выглядит апокрифическое Евангелие от Фомы, состоящее почти целиком из прямой речи: «Иисус сказал...»136. Однако не Христово учение, а сама Его божественная Личность является сутью Евангельского откровения, а потому не одними лишь словами, но и всей Своей жизнью, деяниями Своими, свидетельствует Он о Себе. «Он [Христос] был убеждён, что вся Его жизнь и дела, совершённые среди иудеев, сильнее речи, сказанной в обличение ложных свидетельств, сильнее слов, высказанных в опровержение обвинений», – писал об этом греческий философ и богослов III столетия Ориген.137
Причём жизнь эта и дела эти происходили не на необитаемом острове, не под покровом ночи и не вдали от людских взоров, а по большей части – среди бела дня, на глазах множества людей, слышавших Христа, видевших Его, прикасавшихся к Нему, разделявших с Ним и путь, и ночлег, и трапезу. Не случайно Евангелие столь, пользуясь современным термином, «мультимедийно», то есть пытается передать все человеческие «измерения», качества и свойства Христа как вполне реальной человеческой Личности. Историк и богослов протоиерей Георгий Флоровский пишет об этом: «В том весь и пафос и смысл апостольской проповеди, что она есть рассказ, рассказ о виденном и слышанном, – «что мы слышали, что мы видели своими очами, что рассматривали, и что осязали руки наши» (1Ин 1:1). Рассказ – о том, что сбылось и случилось, и что произошло в определённых условиях времени и места».138 Евангелист подчёркивает, как мы видим, что происходившее они не просто заметили как-то краем глаза и периферическим зрением, а именно «рассматривали», то есть разглядывали с пристрастием, а значит, заподозрить их в невнимательности и легковерии у нас оснований оставаться не должно. Некоторые из мест этих событий, как уже было отмечено, сохранились до наших дней, несмотря на эрозию почвы, наросший за тысячелетия почти десятиметровый «культурный слой», намеренные или стихийные разрушения. Базальтовый пол капернаумской синагоги, например, по которому Своими стопами ходил Христос, хорошо виден и сейчас, а находящийся неподалёку дом апостола Петра постройки II−I в. до Р.Х., собственно, никогда и не был утерян, поскольку уже первыми христианами был превращён в domus ecclesia (используемое францисканцами латинское название домовой церкви), а позже перекрыт фундаментом восьмиугольной католической церкви. Даже ехать туда не обязательно, чтобы убедиться в их реальности и всамделишности, поскольку места эти несложно нагуглить или наяндексить, стоит лишь ввести в поисковое окошечко «Капернаум, Израиль» и нажать на «Карты»: сателитарный снимок покажет вид с птичьего полёта на эти вполне определённые места и здания и даже определит их точное местонахождение. У них даже есть свой вполне современный почтовый адрес!
Стремление дополнить и подтвердить зримыми и осязаемыми объектами достоверность библейского текста, насколько я могу судить, в разной степени характерно для различных церковных традиций и конфессий. Западная церковная традиция накопила бесчисленные тома схоластических теологических трактатов, канонов и уложений. Православному человеку, по-видимому, бывает гораздо важнее наполнить словесный образ личным духовным опытом и переживанием. Это различие в значительной мере связано с большей линейностью и вербальностью в восприятии и осмыслении мира, характерной для западной культуры и ментальности в целом. По контрасту с ней, условно говоря, восточная, абстрактно-образная и конкретно-опытная ментальность и культура воспринимают вербальный ряд (текст) лишь в качестве одного из многих и далеко не самого совершенного носителя смысла или ценности. Достаточно сравнить образ Святой Троицы, представленный в учебнике по систематическому богословию одной из западных семинарий с Рублёвской Троицей.139
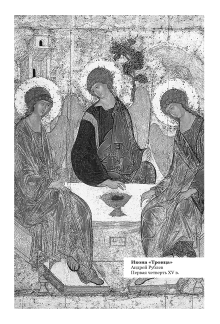
Троица
* * *
С этой разницей, находящей, в свою очередь, отражение и в богословии, и в богослужении, и в благочестии различных традиций, мне пришлось столкнуться лично, когда, заканчивая магистратуру в одной из семинарий в штате Миннесота, я должен был по курсу гомилетики пройти и соответствующую проповедническую практику, что называется, в полевых условиях. «Учебные» проповеди в классе я успешно отчитал по-английски, но проповедовать в церкви мне хотелось непременно на родном языке. Однако из почти двух с половиной десятков русскоязычных церквей двухсполовинной-миллионного города всего две были православными (во всём штате на тот момент имелся 31 православный приход нескольких церковных юрисдикций), так что мне выпало нести это служение у братьев наших меньших протестантов. Как филологу по первому образованию, мне, конечно, сразу бросилось в глаза, как, с одной стороны, они бережно и почтительно относятся к библейскому тексту, заучивая его наизусть, обильно пересыпая свою речь ссылками на книгу, главу и стих конкретной цитаты, высвечивая его на экране и испещряя ими стены самого молитвенного дома; но с другой – каким совершенным пренебрежением к грамматике, стилистике и поэтике русского языка исполнена их гимнография, молитвенная практика и сами их проповеди. Зрительно-образный же ряд был не просто пренебрегаем, но даже как будто нарочито изгоняем, а то и откровенно и пугающе уродлив: гладкие серенькие стены лишь изредка украшались какой-то скромной виньеткой, по полу и на подиуме извивались многоцветные кабели, громоздились акустические колонки и мониторы. Понятно, что наводить порядок в чужом монастыре по своему уставу мне никто не позволил, но одно условие мне всё-таки удалось выговорить: в текстах гимнов и песнопений я расставил знаки препинания, подправил рифмы и хоть сколько-то подработал поэтику, чтобы свежему человеку это не резало глаз и слух. В своих собственных проповедях я тоже старался, сколько возможно, привлекать средства и языковой, и зрительной христианской культуры – читал стихи русских классиков, цитировал высказывания святых отцов, проецировал на экран изображения древних икон и фресок и даже, помнится, включал фрагменты церковных песнопений, снабжённые, конечно, русскими субтитрами. Поначалу эти мои новшества вызывали недоумение и даже недовольство некоторой части общины, прозвавшей меня за глаза «отцом Олегом» (с подчёркнутым и протяжным «о»), но по мере знакомства со смыслом и содержанием православной образности и интерес к ней, и уважение к ней стали заступать на место первоначального раздражения и возмущения. Я, конечно, не обратил никого в православие, но хотя бы на одного меня и хотя бы на время моего там присутствия богослужение этой общины было и грамотнее, и благозвучнее, и благовиднее. Впрочем, насколько мне известно, несколько человек из той общины за прошедшие с тех пор годы перешли в православие, но, думаю, это произошло уже без моего прямого участия. Моё дело – нести служение там и тогда, где и когда призвал меня Господь. Это очень немного, но только и именно за это – за мою скромную роль в Его Божественном замысле, а не за, вообще, «состояние дела миссии на планете на рубеже веков» – Он с меня и спросит.
В чём-то сходная ситуация сложилась и совсем недавно, когда, получив приглашение на чтение лекций в одном среднеазиатском евангельском библейском колледже по рекомендации друзей и коллег по миссионерскому служению, я уже готовился к поездке, как вдруг из его ректората пришёл вежливый и со всеми надлежащими извинениями, но вполне однозначный отказ. Ну что ж, подумал я, мало ли какие у них могли сложиться обстоятельства в этом году, и они, наверное, пригласят меня как-нибудь в другой раз. Мои рекомендатели, однако, этим не удовлетворились и всё-таки разузнали, почему это произошло: оказывается, в прошлом году они уже попробовали пригласить православного профессора, которым очень остались довольны, если бы дело не кончилось тем, что часть его курса по окончании лекций дружно не перешла в православие. Увы, сколько я их ни убеждал в том, что профессор я наверняка не такой хороший, и что за мной уж точно никто в православие не последует, решение ректората осталось неизменным. Другие евангельские колледжи и семинарии, наоборот, приглашают меня из года в год, не видя в этом никакой для себя опасности и даже радуясь возможности приобщиться к иному опыту и иной традиции. Естественно, преподавая в аудитории, принадлежащей иной конфессии, приходится несколько адаптировать презентацию, чтобы, с одной стороны, быть услышанным и понятым в той «системе координат» – образности, терминологии, смысловых акцентов и т.д. – которая известна и близка слушателям; с другой, чтобы, по-возможности, расширить их представление и опыт; и, с третьей, чтобы по-возможности не наступать на больные мозоли тех противоречий и недоразумений, которые исторически сложились между нашими церковными традициями.
Сам я проделал над собой подобное упражнение сразу по окончании своей теологической магистратуры, воспользовавшись случаем некоей сложившейся на тот момент неопределённости: то ли со всем семейством возвращаться обратно в Москву, то ли или продолжить учёбу, и, соответственно, ещё, по крайней мере, на три-четыре года задержаться в Миннесоте? Этот вопрос решался в течение почти целого года, который я и употребил на то, чтобы обстоятельно и подробно познакомиться с богатством церковных культур и конфессий, представленном в нашем штате, насчитывающем чуть более 3600 церквей, монастырей и часовен. Каждое из 52 воскресений (или суббот) в том памятном году я решил посещать богослужение в церкви какой-то иной, по-возможности, малоизвестной для меня деноминации, от самых традиционных, до самых экзотических: католические и протестантские, литургические и почти спонтанные («Emerging Church»), корейские и эфиопские, русские и негритянские, современные и древние, почти домашние и мега-церкви (и даже «гига-», то есть, более 10 тыс. членов) и т.д. Самым тягостным из этого опыта было, конечно, то, что каждое воскресенье я отправлялся туда, где меня не ждут, не знают, и, в некоторых случаях, не особенно признают за своего. Быть чужим, даже когда тебя в качестве гостя и встречают, и привечают, оказывается, очень тяжело. Может быть, именно поэтому так остро чувствовалось посреди этих абсолютно неизвестных и очень непохожих на меня людей то самое главное, что нас с ними делало не просто знакомыми, но родными братьями и сёстрами, – единство нашей веры во Христа. Как только, несмотря на языковой, культурный и прочие барьеры, я ощущал, наблюдал и испытывал это родство, всё остальное так или иначе находило себе и место и объяснение: вот это у них – молитва, вот так у них звучит прославление, вот так у них выглядит покаяние, вот тут у них – проповедь, вот таким образом они выражают благодарение и т.д. Формы, образы, порядок и настроение различались в разных церквях подчас до такой степени, что то, что в одной традиции было выражением радости и благодарения, в другой можно было легко принять за горечь покаяния, и то, что в одной занимало центральное место и большую часть времени и внимания, в другой, вообще, выносилось за рамки богослужения. Так, например, если в большинстве протестантских церквей проповедь (а то и две-три в течение одного богослужения) составляла и самую главную, и самую продолжительную часть богослужения, а чтение собственно Библии ограничивалось отдельными стихами или даже просто ссылками на них, то в православных храмах как раз отрывки, и довольно значительные, из Священного Писания, читались неторопливо, последовательно, иногда нараспев, а иногда и последовательно на нескольких языках – смотря по тому, какие национальные и языковые традиции были представлены в приходе. Зато до проповеди дело часто доходило уже только после заключительных молитв и административно-хозяйственных объявлений, казалось, просто чтобы занять время, пока тарелочка для сборов обойдёт весь храм. Это несходство, впрочем, мне начало постепенно нравиться как своеобразный диалог различных времён, народов, опыта и традиций, иногда спорящих друг с другом, иногда продолжающих или дополняющих одна другую в осмыслении одного и того же события – Богоявления. И как же радостно было после этого года «пустыни» вернуться в родную обитель, где многое после этого стало гораздо понятнее и роднее! Не я первый испытал на себе, что, только оказавшись лишённым родного и привычного, начинаешь в полной мере ценить, любить и осознавать иначе так и оставшееся бы для тебя само собой разумеющимся и раз на всегда данным. Для меня это время оказалось ещё и важнейшим опытом формулирования для себя того, что и откуда я знаю, в чём и на каком основании я убеждён, во что и почему я верю. За этот год раз, наверное, пятьдесят мне пришлось толково, уважительно и дружелюбно объяснять любопытствовавшим, как я, православный, понимаю почитание святынь, мощей и икон, какое место в нашем богослужении занимает причащение, а уж заодно и чем «бабу́шка» (babushka – русский платочек140) отличается от бабушки. Столько же раз примерно я, в свою очередь, слышал от людей самых разных национальностей, культур и традиций ответ на вопрос, который я неизменно задавал им: кто же для вас Христос?
Или – не Бог?
Сумасшедший? Мало ли, говорят некоторые, по психиатрическим лечебницам содержится Наполеонов, Тутанхамонов и других выдающихся деятелей. Может, говорят, не в себе был Человек. Психиатры, однако, изучив свидетельства Его жизни, Его слов и поступков, каковых Он оставил по Себе предостаточно для составления такого заключения, не находят никаких следов помешательства.141 Перед нами, с уверенностью полагают психиатры, – совершенно здоровый человек. Перед нами, собственно, – совершенный Человек. Этот вариант ответа явно не подходит.
− Но ведь не может же всё это быть правдой! – как сейчас помню, не столько спросила, сколько констатировала студентка факультета журналистики, на одной из моих презентаций в МГУ, но тут же и поправилась. – Точнее, всё это может же быть и Его собственной выдумкой! А эти так называемые «чудеса» ведь могли же быть и обманом зрения, иллюзией, фокусами, эффектом плацебо, в конце концов!
Нехитрый «следственный эксперимент» помог нам в тот вечер отработать и эту версию. Студентам было предложено представить, что это они написали заведомо ложный и полный совершенно невероятных подробностей репортаж о событиях из «горячей точки планеты», Израиля 30-го года по Р.Х., про одного из своих влиятельных заказчиков, и сами при этом настолько в него поверили, что, когда его у них на глазах предали позорной и мучительной крестной казни, продолжали его распространять с явной угрозой для своей жизни. В такое никто из будущих журналистов поверить не согласился. И уже совершенно невероятной показалась им идея о том, чтобы вполне здравомыслящий человек (а эту версию мы с ними уже отработали) сам же пошёл за свои фокусы и выдумки на позор, истязания и мучения. Стало быть, ни сумасшедшим, ни личностью легендарной, ни вполне реальным, но обманщиком и шарлатаном, Его признать никак не получается.
Пророк? Может быть, даже «величайший из пророков», каковым почитает Его, например, ислам? Чтобы прийти к такому заключению, нам пришлось бы преодолеть, как минимум, две трудности. Дело в том что, во-первых, Сам Он никогда не претендовал на это почётное звание и даже довольно часто прямо противопоставлял Себя пророкам, например: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».142 И, во-вторых, все без исключения пророки (в том числе столь почитаемый исламом пророк Мухаммед) всегда пророчествовали от третьего лица: «так говорит Господь» (встречается в тексте Библии 411 раз) или «И было ко мне слово Господне…».143 Только Христос, указывая на Себя, имел все основания сказать: «Я есмь Путь, Истина и Жизнь».144
Красивая идея? «Христианство – не система «идей» и, уж во всяком случае, не идеология. Оно есть опыт и свидетельство об этом опыте, непрестанно подаваемом Церковью», – точно и ёмко сказал об этом протоиерей Александр Шмеман.145 Да, приходится с сожалением признать, что этот живой и реальный опыт не раз и не два в истории обращался не вполне усвоившими его людьми и сообществами в свою противоположность – совершенно мёртвые, смертоносные и отвлечённые доктрины по социальному переустройству народа, а то и целой планеты. Все попытки свести Христа к сколь угодно благонамеренной идее и утончённому вероучению или символу, неминуемо приводили (и, увы, по-прежнему приводят) к очередному промыванию мозгов. В свою очередь, подмена настоящей встречи с Ним инициацией и индоктринацией с той же неизбежностью заканчиваются разочарованием и озлоблением на «не оправдавшего надежд» идола, которого человеку подсунули нечистые на руку или столь же разочарованные и озлобленные идеологи.
Мудрец? Гуру? Учитель нравственности? Ведь был же Он мудр, ведь являл же образец для подражания и ведь учил же Он законам нравственности. На это, пожалуй, толковее и полнее всех ответил Клайв Льюис: «Я лишь хочу здесь предостеречь всякого, кто пытается сказать глупость, которую люди часто повторяют о Нём: “Я готов признать Христа в качестве великого учителя нравственности, но я не признаю Его притязания на Божественность”. Именно этого нам говорить никак не следует. Простой смертный, высказывающий то, что говорил Христос, никак не может быть великим учителем нравственности. Он скорее может быть либо сумасшедшим, вроде тех, которые полагают себя, например, Наполеонами – либо уж поистине дьяволом из преисподни. Вам придётся сделать свой выбор: или этот человек был (и продолжает быть) Сыном Божиим, или он безумец или что-то того хуже. Вы можете заткнуть Ему рот как безумцу, вы можете оплевать и предать Его смерти, достойной беса или – вы можете припасть к Его стопам, назвав Его Господом и Богом. Но давайте не будем впадать в этакую покровительственную бессмыслицу о том, что Он, якобы, являлся великим наставником человечества. Он не оставил нам такой возможности. Да и не собирался».146 Все перечисленные Льюисом возможности выбора бытии рассмотрены и отвергнуты нами ранее. По его компетентному мнению − а Льюис был профессором истории литературы в Оксфордском университете, то есть в древних документах письменности разбирался профессионально − свидетельства новозаветного текста не позволяют нам остановиться и на этой.
Таким образом, дилемма каждого человека, ознакомившегося со свидетельствами и фактами, заключается в том, чтобы либо признать Христа Богом и Господом, либо отвергнуть его. При этом никто не отнимает у человека его возлюбленной и проклинаемой, лелеемой или ужасающей свободной воли, и решение признать Христа Господом или отвернуться от Него каждый человек принимает лично и совершенно свободно. Полезно, однако, бывает в этот момент вспомнить и ещё об одном весьма распространённом заблуждении: что свободны мы, якобы, не только в своём выборе, но и в том также, выбирать нам или нет. Вот этой свободы – от выбора – у человека не имеется. То есть можно, конечно, заявить о том, что я, мол, «нейтрален в отношении религии» и «вполне уважительно отношусь ко всем религиозным убеждениям», но дело же не только в заявлении или, как это принято называть, исповедании веры (или, соответственно, неверия). Гораздо важнее, как человек принимает свои ежедневные жизненные решения, требующие его духовной оценки: как если бы Христос был его Господом, или как если бы он отвергал Его. Богом, например, заповедано нам не красть, не завидовать соседям, не желать зла и погибели ближнему (даже в мыслях своих!), и, наоборот, любить Его, как самого себя, а в грехах своих каяться перед Ним и т.д. Пусть не словом, но делами своими – человек этот выбор всё-таки совершает в ту или в иную сторону. А поэтому, наверное, было бы лучше и честнее не прятаться за лозунгами «политкорректности» или, скажем, особенно модного нынче «агностицизма», а честно, трезво, осведомлённо и ответственно принять это решение: признать Его Богом или отвергнуть Его. Он предоставил нам вполне достаточно свидетельств для разумного и основательного решения в Его пользу, но не отнял у нас и нашего суверенного права счесть их неубедительными, неполными или неудовлетворительными. Этот шаг совершает каждый из людей, но не вслепую, не полагаясь исключительно на всплеск эмоций, на чей-то пример, или в надежде на то, что это произойдёт как-то само по себе, магически, вследствие соблюдения им определённых религиозных обрядов – хождения в церковь, произнесения молитв, постничества и т.д.
Важно при этом помнить, что шаг этот совершается человеком в течение дня иногда по нескольку раз в отношении поступков, решений и слов самых тривиальных и обыденных. То или иное решение мы принимаем, исповедуя Христа своим Господом и Богом, и в тот же день какое-то иное решение мы вдруг принимаем, отвергая Его, хотя свидетельств и доводов в Его пользу у нас за это время нисколько не убавилось и не прибавилось. Решения и поступки в отношении работы или учёбы, финансов или карьеры, посторонних людей или членов семьи, и в самом деле, могут быть самыми обыденными, но выбор того или Того, что или Кто оказывается определяющим в этих ситуациях – глобальнее некуда, ибо от Него-то и будет зависеть, по большому счёту, и успех в конкретном сиюминутном деле, и судьба бессмертной человеческой души в вечности. Академик С.С. Аверинцев с тревогой писал ещё четверть века тому назад: «Радикальный релятивизм и прагматизм порождают состояние души, при котором вопрос о бытии Божьем, не получая отрицательного ответа, утрачивает заодно со всеми остальными последними вопросами всякую серьёзность. И в перспективе антропологической это гораздо страшнее, чем атеизм. Подобному злу христианство будущего должно противопоставить твёрдую, бескомпромиссную, отрезвляющую серьёзность».147 Это «будущее» уже давно стало настоящим, а для кого-то уже и обратилось в прошлое – человек ушёл в вечность, так и не удосужившись посвятить решению самого важного вопроса своего бытия достаточно времени и внимания. Кому-то подчас кажется, что решение это можно отложить до более благоприятных обстоятельств, но они, как назло, всё никак не складываются, а решения человек принимает и поступки совершает день за днём, руководствуясь критериями принятой идеологии, личного удобства, немедленной пользы, а то и вовсе некоего «внутреннего чувства», которого позже и сам себе толком объяснить не в состоянии. Поэт Наум Коржавин видел спасение от этого подобья морока в том, чтобы всего на всего «стать умней»:
От созидательных идей,
Упрямо требующих крови,
От разрушительных страстей,
Лежащих тайно в их основе,
От звёзд, бунтующих нам кровь,
Мысль облучающих незримо, –
Чтоб жажде вытоптать любовь,
Стать от любви неотличимой,
От Правд, затмивших правду дней,
От лжи, что станет им итогом,
Одно спасенье – стать умней,
Сознаться в слабости своей
И больше зря не спорить с Богом.148
(1969)
Религиозные предрассудки?
Казалось бы, так просто, но на пути к этому решению у человека в течение жизни накапливается несметное число самых порой предрассудочных и даже карикатурных представлений о вере, о Боге, о церкви. Как часто от человека неверующего мы можем услышать развёрнутое и красочное оправдание того, почему он в Бога не верит и, соответственно, описание того бога, в которого ему так не хочется или не можется поверить.
− В такого-то «бога» и я не верую! – хочется воскликнуть в ответ. – И не хочу, и не могу и не заставите меня верить в это чучело гороховое!
− И вера эта ваша религиозная, – бывает, слышишь от невера, – совершенно безумна, иррациональна и фанатична.
− Как хорошо, – думаешь при этом про себя, – что мой Бог от меня такой веры не только не ждёт и не требует, но, наверное, и не примет, даже если мне вдруг именно такой веры захочется. Ведь Он предлагает строить отношения с Ним исключительно на Его же собственных, а не на каких нам самим заблагорассудится, условиях.
− В церковь я – ни ногой! – слышишь временами от кого-то и уже примерно себе представляешь, какая аргументация за этим последует: от «гонителей свободомыслия» до «попов на мерседесах».
− Как же чудно, – при этом ловишь себя на мысли, – что мне в такую церковь, с «гонителями на мерседесах», ходить не приходится! И моей бы ноги в такой церкви не было. И не заманите. И не загоните (даже своими мерседесами).
Ведь и церковь-то сама – это же вовсе не то, куда ходят, а то, что люди из себя составляют по принадлежности, и происходит это слово от греческого притяжательного прилагательного του Κυρίου, то есть, буквально, «Господне» в применении к собранию её членов. В нашем четырёхмерном мире эта принадлежность осуществляется в пространстве и времени, а, следовательно, большинству верующих действительно приходится как-то и куда-то ходить, но, конечно же, не само хождение и даже не местонахождение составляют сущность нашей «притяжательности» Богу. Сам Он, насколько нам известно из Его откровения о Себе, как в окружающем мире, так и в Его особом откровении, Священном Писании, чрезвычайно деятелен и по сотворении мира не оставил его как запущенный часовой механизм тикать самому по себе, но живо и заинтересованно участвует в его бытии. С характерной британской иронией писал об этом в одном из своих романов Клайв Льюис: «Бывали люди в прежние времена, с таким интересом доказывавшие бытие Боже, что Сам Бог их уже совершенно не беспокоил… как будто Господу нашему Богу более и заняться нечем, как только существовать!»149 Столь же деятельной веры, то есть действенного выражения принадлежности к Нему, то есть, буквально, нашей «церковности» или, как это чаще называют в наши дни, «воцерковлённости» Он ожидает и от каждого из нас. А чего мы ожидаем от церкви?
* * *
Обойдя за памятный для меня год полусотню различных церковных собраний в округе, я вполне благополучно и с немалым облегчением вернулся в ту церковь, которую и прежде считал своей, и где всему моем семейству всегда находилось не только место, но и участие: сыночек с самых малых лет алтарничал, дочка пела в хоре и даже регентовала им уже годкам к 14-ти, супруга деятельно участвовала в церковном совете. Богослужение в храме совершалось и чинно, и, в то же время, очень задушевно, поскольку это был не столько приход, сколько – община, где все друг с другом знакомы, друг о друге беспокоятся, друг о друге молятся, друг за друга радуются. Нового человека всегда замечают и привечают, помогая, если видят, что это требуется, сориентироваться и в пространстве храма, и в ходе богослужения. Проповедники в церкви, так уж случилось, были просто как на подбор – с солидным богословским образованием, опытом и истинным дарованием. Другие церковные служения – социальные, образовательные, миссионерские и т.д. − поставлены были и действовали просто отменно. Не раз приходила мне на память в те времена строчка из Жванецкого: «Дома все вот так. Отрегулировал. Хоть не приходи, полный порядок».150 Сам-то я получал от церковной общины и церковной жизни при этом очень немало, но предложить что-то своё, личное, уникальное мне никак не удавалось.
И вот, дождавшись, когда детки подросли и разъехались по другим городам, и сам я с некоторым облегчением перебрался в приход, где ни библейских занятий, ни сколько-нибудь содержательных проповедей, ни даже внятного чтения Писания на богослужении в те времена заведено не было. Не то чтобы сразу и в этой церкви жизнь тут же благодаря моим усилиям закипела и наполнилась каким-то новым содержанием – и без меня там вполне обходились и радовались тому, что даровал Господь. Постепенно, однако, в силу множества причин и обстоятельств, но и не без моего посильного старания, и численно расти стала община, и проповеди стали нормой, а не исключением, и Писание, по крайней мере, в те дни, когда я не в отъезде, читалось, кроме церковнославянского и английского, ещё и на русском. Что-то было встречено с готовностью и радостью, а что-то вызвало с разных сторон (и мирян, и священства, и архиерейства) настороженность, да так и не привилось. Часть прихожан так и осталась прихожанами, но, кажется, для большинства и служба, и общинная жизнь хоть чуть-чуть более исполнились смыслом и деятельным участием. Самое же главное заключалось в том, что мы стали чуть-чуть радушнее и чуть более обращены не столько на самих себя, сколько на тех, кого Господь приводит на наш порог, то есть мы стали церковью чуть более миссионерской. Не навязчиво и не назойливо, но кто-нибудь обязательно подойдёт к новому человеку, и поздоровается, и спросит, не нужна ли помощь, и пригласит на общую трапезу, так что настороженность и опасливость, естественные для человека, оказавшегося в незнакомом месте, постепенно сменяются на радость знакомства с добрыми и благорасположенными людьми, славящими имя Божие. Я, во всяком случае, всегда краем глаза посматривал на входную дверь и старался не упускать такой возможности.
* * *
Представление о церкви, как о чём-то враждебном, за три с лишним поколения атеистической пропаганды в нашей стране, конечно, преодолевается с трудом, и процесс этот тоже займёт некоторое время. Произошло это, как известно, по воле совершенно определённых людей и основано на их отлично известной идеологии. А вот, как могло сложиться в широком общественном сознании представление о религиозной вере, как о противоречащей научному и, вообще, рациональному мышлению, если вся история науки с самых давних времён свидетельствует о прямо противоположном? Очевидно, свидетельства исторических наук (археологии, текстологии, палеографии и т.д.) о ключевом событии человеческой истории оказалось не единственным фактом, не нашедшем себе места в современных исторических курсах. Студенты университетов на моих лекциях неизменно просят меня задержаться на слайде с продолжительным рядом портретов выдающихся научных деятелей от дремучей древности и до нашей современности, которые, как оказывается, не только верили в бытие Божие, но и научную свою деятельность никак не мыслили вне живого общения с Ним. Такое впечатление, что им хочется найти в этом списке кого-то из своих кумиров и авторитетов в их научной области. Впрочем, немалое впечатление производят и портреты таких общепризнанных и величайших научных светил, как Исаак Ньютон, Карл Линней, Макс Планк или Иван Павлов в галерее верующих во единого и живого Бога.
Причём далеко и ходить не надо! Достаточно посчитать количество лауреатов Нобелевской премии в самых различных отраслях человеческого знания и деятельности за прошедшее столетие и соотнести их с исповедуемой (или отрицаемой) ими религиозной верой, чтобы убедиться в абсолютном большинстве людей верующих среди этих общественно признанных гениев своего времени.151 Лишь каждый десятый из обладателей престижной нобелевки учёный относил себя к более или менее убеждённым неверам, а больше половины исповедали Христа своим Господом и Богом.

Нобелевские лауреаты за 1901–2000 годы
Чему же мы обязаны устойчивости мифа о несовместимости науки и религии? Для этого достаточно вспомнить совсем недавнее прошлое нашей страны, где ещё только поколение назад искренне и открыто исповедовавших свою веру в Бога в высшие учебные заведения просто не принимали. Если во вступительном заявлении поставишь галочку на пункте о вероисповедании, то дальше можно уже не заполнять – не примут. А если узнавалось, что студент – верующий, то отчисляли без всяких разговоров: крестик носишь – отчисляли, крестился – отчисляли, детей крестил – отчисляли, венчался – отчисляли. То есть получить высшее, и особенно, гуманитарное образование (идеологическая сфера!) верующему человеку можно было только, тщательно скрывая свою веру, что для христианина практически невозможно, да и неприемлемо в виду всё того же «великого поручения»: идти и научить все народы. Верующих не допускали до высшего образования, а потом им же предъявлялось обвинение в необразованности, то есть искусственно создавался образ невежественного и отсталого от научного прогресса верующего, и этот порочный круг замыкался сам на себе. Благодаренье Богу, времена эти отошли в прошлое, и ничто не мешает исповедующему веру в Бога человеку получать любое образование по своему вкусу и призванию – стигма уже не угрожает его академической карьере, а Господь помогает в освоении созданного Им мира. С другой стороны, и учёный люд всё чаще и смелее заявляет о своей вере, подобно физику Максу Планку приходя к убеждению, что «развитие исследований в области теоретической физики исторически наглядным образом привело к формулировке физической причинности, которая обладает явно выраженным телеологическим характером. <…> Эти успехи укрепляют надежду на непрерывное углубление нашего понимания того, как осуществляет управление природой правящий ею Всемогущий Разум».152 Важно, однако, и понимать, и помнить, откуда в общественном сознании появился, и почему настолько в нём закрепился этот образ иррационального и невменяемого мракобеса, каким и до сих пор зачастую рисуется человек религиозный. В других странах и культурах религиозная вера, если и вызывает какие-то отрицательные ассоциации, то почти никогда это не связано с обвинениями религии в иррационализме или вражде к научному знанию, поскольку большинство научных и учебных заведений мирового уровня ещё слишком хорошо помнят, каким монастырям, семинариям или монашеским орденам они обязаны своим возникновением и славной историей. Чем более открыто к окружающему миру, чем менее идеологически кондиционировано мышление человека, и чем более отрефлексированно оно воспринимает свою собственную позицию и деятельность, тем более оно оказывается способным и готовым к восприятию свидетельства о Боге и к тем выводам, которые необходимо из него следуют.
* * *
К одной из встреч с аудиторией заведомо, как мне было сказано, не расположенной к религиозной тематике, меня заранее готовили её устроители, чтобы я не обиделся ни на холодный приём, ни на, возможно, едкие замечания или каверзные вопросы. Капеллан этого управления ФСИН на дальних восточных рубежах нашей страны не раз и не два напомнил мне, что офицеры и воспитательные работники останутся на презентацию по окончании своего служебного совещания по приказу начальника, так что рассчитывать на их интерес никак не приходится. Наверное, многие из них нашли бы себе другие занятия в городе, прежде чем снова разъехаться по своим «местам, не столь отдалённым». Сказать, что я волновался, проходя через КПП и потом по бесконечно длинным казённым коридорам к двери конференц-зала, это не сказать ничего про моё тогдашнее состояние, а спутник мой продолжал подливать масла в огонь:
− Народ они суровый, но это и понятно – служба такая. Разговоры про Божью жалость и милость они, кажется, вообще, не воспринимают всерьёз. Постарайтесь продержаться хотя бы полчаса – минут сорок, на большее и начальник, кажется, не рассчитывает.
Словом, настроил он меня так боевито и зарядил такой энергией, что я, и впрямь, самое главное в своей презентации – свидетельство о реальном историческом событии Божия воплощения во Христе – выдал, что называется, на одном дыхании, чётко, по-военному, пункт за пунктом, не давая своей аудитории ни на секунду расслабиться и отвлечься. Микрофон я заранее отодвинул в сторону, чтобы не мешал свободно двигаться и помогать себе жестами, а заодно, и чтобы самому не расслабляться и произносить каждый довод в полную силу голоса. Через несколько минут с задних рядов стали уже привставать, чтобы лучше разглядеть то, что я показывал на экране, и даже передние подались вперёд, чтобы не пропустить ничего важного. Я, наверное, отчасти перестарался, и, как только я сделал первую паузу, чтобы перевести дыхание, прозвучал вопрос, к которому я только мечтать мог подвести свою аудиторию в самом-самом конце:
− Позвольте, но ведь, если и на самом деле, Христос, как вы говорите, Бог и, что называется, во плоти, то это же в корне меняет всё дело, правильно я понимаю? – и задавал мне этот вопрос подполковник внутренней службы примерно моего же возраста и, я уверен, не меньшего жизненного опыта.
− Ну, да. Конечно, это меняет всё на свете, – соглашаюсь я и продолжаю свою презентацию: артефакты, рукописи, свидетельства и так далее, замечая, однако, что на меня уже почти никто не смотрит, и взгляды большинства моих слушателей обращены уже как бы внутрь себя или иногда друг на друга. Этот «момент истины», вдруг раскрывшейся человеку, ни с чем не спутаешь, и в то же время никогда заранее не знаешь, когда он произойдёт, да и произойдёт ли вообще, по крайней мере, у тебя на глазах. На этой же встрече он был совершенно очевиден: люди оглядывались по сторонам, как бы осматривая помещение и сидящих рядом с ними своих же сотрудников и знакомых совершенно новым взором. Я продолжал сыпать свои аргументы, но в душе я уже чувствовал, что они второстепенны – в мир моих слушателей добавилось ещё одно измерение, ещё один спектр красок, и им гораздо более важен и интересен сам этот их новый или хорошо забытый опыт видения и осмысления окружающего, чем ещё какие-то доводы в пользу его реальности. Никто, естественно, не бухнулся тут же в конференц-зале на колени в сокрушённой молитве, исповедуя свои грехи перед Господом. Профессионалы оставались профессионалами, военные люди – военными, так что и благодарили за встречу по-видимому искренне, но с подобающей обстановке сдержанностью. Зато от их начальника я потом узнал, что заходили к нему его офицеры после той встречи и только руками размахивали, да глаза закатывали, но так он от них и не смог выведать причину их, столь для них не характерного, восторженного состояния. Надо ли говорить, в каком восторге пребывал я, проходя в обратном порядке теми же коридорами и через тот же КПП, сопровождаемый капелланом, кажется не менее воодушевлённым, чем наши с ним сегодняшние слушатели. Забавнее же всего было встречаться с ними взглядами в дверях и на лестницах этого обширного здания и замечать при этом едва заметную улыбку и прищур, которыми бывают отмечены лица людей, только что переживших какой-то общий, таинственный и радостный опыт.
− Мы-то с вами теперь знаем, как оно на самом деле! – будто бы даже как-то заговорщически переглядывались мы с ними, хотя, как мне казалось, ничего особенно скрытного и сакрального мы с ними в тот день не обсуждали и не рассматривали. Для меня самого (и, кажется, для капеллана) произведённый эффект ещё долго оставался тайной, пока, оказавшись в подобной ситуации ещё раз, но уже в Центральной России, я не услышал её разгадку из уст одного из воспитателей в колонии для несовершеннолетних:
− Поймите, мы просто вынуждены быть хорошими психологами, а многие и специальное психологическое образование получают – иначе в нашей работе нельзя. Приходится ведь не только в мысли молодых людей проникать, но и в душу – не сводится же человек ни к каким даже самым сложным психическим реакциям и самым изощрённым психологическим моделям. А как верить в свободную человеческую душу без веры в Бога? Вот и получается, что по науке мы, вроде, материалисты, а на практике – верующие. Свидетельство об участии Бога в жизни человечества, историческое, зримое, подробно задокументированное, многое расставляет на свои места, соединяя то, что подсказывает нам живой опыт с тем, чему нас учат в университетах.
«Примирение сердца с головой» – так описал этот эффект другой мой слушатель, бизнесмен, деятельный член местной церкви и щедрый жертвователь на её нужды, пригласив меня на ужин после лекции. Никогда не забывая о втором важнейшем навыке миссионера – есть всегда и всё, когда и что окажется перед вами на тарелке – я, естественно, с радостью согласился, хотя и показалось мне отчасти странным, что никого, например, из устроителей того семинара он с собой не позвал, терпеливо дождавшись, пока я по его окончании со всеми наговорюсь и со всеми распрощаюсь. Оказалось, что ему было не совсем ловко признаться своим же со-прихожанам, что до сегодняшнего вечера он в Бога-то, как он выразился, верил только сердцем и опытом. Что-то однажды произошло чрезвычайно драматическое в ответ на молитву и перевернуло всю его жизнь вверх дном, а точнее, наоборот, поставило с головы на ноги. И вот, уже много лет исповедуя Христа в душе и искренне живя по вере в Него, этот человек, как выяснилось, ужасно смущался и мучился тем, что сознание его никак не могло найти опору для того, что он и чувствовал сердцем, и испытывал в жизни. И книжки читал, и с умными людьми беседовал, и молился о ниспослании успокоения и смиренного согласия с тем, что никак не укладывалось в привычные рамки: Христос – и Бог, и Человек. Он даже на салфетке написал те два слова – «событие» и «со-бытие» – которые так неожиданно помогли ему в разрешении этой, на самом-то деле, мнимой дилеммы.
На веру?
Верой как чувством, переживанием человек, очевидно, может вполне довольствоваться, уповая на то, что оно будет пребывать с ним всегда или, как минимум, посещать его с некоторым постоянством и регулярностью. Однако сведéние всего богатства и всей полноты отношений с Богом к ожиданию, переживанию и воспоминанию этого «чудного мгновенья» или стараниям возгреть его в себе духовными упражнениями заведомо обедняет эти отношения, да едва ли стоило и Его земной жизни, и Его крестной смерти. Приходит ко Христу большинство людей, и в самом деле, в состоянии сильнейшего эмоционального переживания, вызванного каким-то драматическим – трагическим или радостным – событием в их жизни, встречей с удивительным человеком или вдруг поразившей их мыслью. В истинности этого чувства Божественного присутствия, пока мы его испытываем, у нас нет никаких сомнений – этот «толчок в сердце» ни с чем не перепутаешь. Мы в нём абсолютно у-вере-ны. Однако надолго ли? «Много людей обращается к Богу в страхе, в несчастье, в страдании, но проходят эти минуты, и люди возвращаются к жизни, никакого отношения к вере не имеющей, и живут так, как если бы никакого Бога не было. Ещё больше людей верит не столько в Бога, сколько, как это ни странно, – в религию. Им попросту хорошо, уютно, успокоительно в храме, многие из них с детства привыкли к этой «священности» храма и обрядов. В ней всё красиво, глубоко, таинственно – не то, что в уродливом и злом повседневном мире. <…> Эта религия даёт хорошие и чистые “переживания”, она помогает жить. И всё же религия здесь сама по себе, а жизнь сама по себе»,153– предупреждал о таких «терапевтических», а, по сути, вполне потребительских отношениях с Богом о. Александр Шмеман. Так понимаемая религия нужна лишь для того, чтобы раз в неделю, испытав эти «хорошие и чистые переживания», набираться их доброй энергии, дабы её хватило при экономном пользовании на предстоящую неделю: в понедельник мы её ещё исполнены, к среде она начинает иссякать, но в пятницу к нам уже не подходи. Жизнь человека поневоле разделяется на, с одной стороны, некую «высокую» и «духовную», где царят законы любви, «простоты, добра и правды»154, но, при этом, совершенно иллюзорную и потустороннюю. С другой же стороны, есть жизнь «реальная» или «настоящая», протекающая совершенно независимо от первой с понедельника по пятницу по законам джунглей.
На одном из открытых уроков по «Основам православной культуры», когда этот курс ещё только-только вводился в российских школах, учительница так и начала его словами: «А сейчас, ребята, мы с вами окунёмся в мир православия, его древней культуры и традиции, где нас с вами ждут удивительные встречи с его невероятными героями и т.д.» Понятно, что и учащиеся в этом классе вырастут «православными» в этом самом смысле слова – иллюзорном и фантастическом, то есть не имеющем никакого отношения к их жизни как граждан, родителей, профессионалов. Хочется верить, что многочисленные курсы, лекции, вебинары, пособия и, главное, нажитый за почти полтора десятилетия, прошедшие с тех пор, учительский опыт преподавания этого предмета постепенно меняет отношение к христианству и его культуре, как в школьной среде, так и в обществе в целом. Православная культура накопила, оценила, сохранила и передала нам колоссальный объём живого духовного опыта множества поколений людей, исповедавших Бога, Своим воплощением во Христе связавшего предвечное и тварное, духовное и физическое, святое и падшее. Через приобщение к этому вполне реальному историческому опыту на школьных уроках ребёнок сохраняет и развивает в себе способность восприятия мира в его полноте и цельности, в то время как большинство школьных дисциплин будут учить его анализу (от греч. ἀνάλυσις – развязывание, растворение), то есть разложению явлений на их составляющие. Чрезвычайно важно, чтобы религиозное чувство и религиозный опыт человека не вырывали его из окружающей реальности в какой-то особый, даже может быть гораздо более приятный и красочный, но иллюзорный мир, но, напротив, обращали его внимание и усилия на действенное участие в жизни мира тварного.
Христос, известный нам по евангельскому тексту, в отличие от Его образа в многочисленных более поздних версиях истории Его земной жизни и их толкованиях, вовсе не обещает ни личного, ни всеобщего счастья, а проповедуемое Им Царство Небесное достигается отнюдь не отказом от какой-либо деятельности и уходом от мира, но, напротив, «усилием берётся»155. «Если вы ищете религию, – писал Клайв Льюис, – от которой ваша жизнь станет удобнее и легче, я бы вам не советовал избирать христианство. Вероятно, есть какие-нибудь американские таблетки, они вам больше помогут».156 К великому сожалению, эти слова оказались пророческими, и такие «американские таблетки», опиоиды, в наши дни уносят жизни великого множества искателей такой «религии», которая сделала бы жизнь удобнее и легче. Сам же этот вопрос «Стала ли ваша жизнь легче, когда вы уверовали в Бога?» мне пришлось услышать на одной из встреч в довольно большом подмосковном приходе, и, откровенно говоря, я не сразу нашёлся, что на него ответить. Ведь, и в самом деле, живя в Его постоянном присутствии и в сознании Его живейшего участия в моей жизни, я стал относиться к самому себе и внимательнее, и строже. Следование, кроме самодисциплины, ещё и определённому порядку и правилу церковной дисциплины (календарной, финансовой и т.д.) тоже скорее усложнило мой до тех пор сравнительно беззаботный и беспорядочный образ жизни и поведения. Только вот все эти «усложнения» не столько ограничили и отяготили меня в моих решениях и поступках, сколько организовали и направили мою жизнь по определённому, причём не мною, вектору, то есть она стала более целенаправленной и упорядоченной. Свободы выбора у меня при этом никто не отнимал, но сам выбор стал более осознанным, ответственным и информированным, а, следовательно, и более результативным, и более радостным!
* * *
Помню, когда в Москве ещё только возводилась новая высотка Российской академии наук, и на верхних этажах были положены лишь плиты перекрытий, мы проникли на стройплощадку и забрались на её самый последний этаж, чтобы полюбоваться Москвой с этой ошеломительной высоты. Подниматься по бесконечной лестнице было, конечно, тяжело, и из-за неровностей ступенек и строительного мусора приходилось всё время смотреть под ноги, так что оглядываться по сторонам было особенно некогда. Лишь вышедши на самую последнюю, видимо, только в этот день законченную строителями, площадку, я вдруг ощутил прилив совершенно панического страха из-за отсутствия каких-либо стенок или даже временных заграждений – полы заканчивались пустотой. День, кроме того, был ветреный, а на этой высоте ветродуй был совершенно пронизывающий и почти срывающий с места. Как мне хотелось подойти поближе к краю, чтобы раскрылась вся ширина обзора, и восхититься простором и красотой моего родного и любимого города! Увы, колени мои дрожали от напряжения, и, даже подобравшись к крайней колонне, едва я поднимал глаза от пола, как меня охватывал ужас, что вот сейчас моя рука соскользнёт и… Словом, никаким зрелищем я наслаждаться в этом состоянии не мог, хотя известная доля чисто спортивного азарта и юношеской лихости заставляла всё-таки держаться молодцом и не бежать сломя голову подальше от рокового края. Каково же было моё облегчение, когда оказалось, что этажом ниже рабочие уже установили оградительные перила по всему периметру здания, и мы могли, уже нисколько не опасаясь за свою жизнь, уверенно подойти хоть к самому обрезу пола и даже, перегнувшись через поручень, посмотреть на малюсеньких человечков, торопящихся куда-то вдоль тротуаров в конце рабочего дня. А какая панорама Москвы открывалась оттуда, совершенно ничем не закрываемая и не прерываемая никакими рамами и простенками! И, главное, я мог совершенно отдаться этому чудесному ощущению открытости и свободы, нисколько не беспокоясь о том, что кто-то из нас окажется в беде. Этот случай мне вспомнился с необыкновенной яркостью через много-много лет, когда в одной из своих лекций библеист Андрей Десницкий упомянул о той свободе, которую обретает человек, живущий по вере в Бога, ограждающего его Своими законами и заповедями от грозящих ему опасностей и тем самым высвобождающего его к полноценному и не отягощённому боязнями и страхами радостному жизненному опыту. Об этом же ограждении и освобождении от парализующего страха смерти рассуждает главный герой в великом романе Д. Сэлинджера: «…Я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом – ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И моё дело – ловить ребятишек, чтобы они не сорвались в пропасть. Понимаешь, они играют и не видят, куда бегут, а тут я подбегаю и ловлю их, чтобы они не сорвались. Вот и вся моя работа. Стеречь ребят над пропастью во ржи».157 Таким образом, жизнь по вере в Бога удовлетворяет и первому условию, необходимому, по мнению о. Андрея Лоргуса, счастливому человеку – победе над страхом смерти.158
* * *
Не менее распространённым и тоже вполне предрассудочным заблуждением в отношении веры в Бога является представление о том, что она нужна только людям слабым, пожилым, хворым и убогим, а, наоборот, сильным, молодым, красивым и здоровым она пока ещё не требуется. Примеры того, как к вере приходят и по вере живут во всех отношениях полноценные, здоровые и состоятельные люди всех возрастов от мала до велика, к сожалению, мало кого убеждают, ибо всегда можно предположить за таким человеком какой-то скрытый изъян или болезненный опыт, будто бы и заставляющий его прибегать к помощи Божией и Его покровительству. Скептикам почему-то кажется невероятным, что исполненный жизненных сил человек может совершенно свободно и без какого-либо внешнего принуждения совершить этот выбор в пользу Бога, и что лишь на этих условиях – полной свободы выбора – его вера будет Богом оценена как истинная и личная, а не вынужденная и продиктованная какими-то обстоятельствами и условиями. Бездушный мир − как органический, так и неорганический − поистине огромен, и каждая пылинка в нём несёт в себе отражение своего Творца, обладая данными ей при творении свойствами и качествами и следуя сотворённым Богом законам – и тем самым прославляя своего Творца, безвольно и вынужденно («камни вопиют»). Только человеку оказана столь высокая честь и только на человека возложена столь высокая ответственность – свободно и лично принимать или отвергать отпечаток на себе своего Небесного Создателя. Тому, насколько тягостной и обременительной могут казаться человеку эта честь и эта ответственность, посвящена вставная притча «Великий инквизитор» в романе Достоевского «Братья Карамазовы»: «…Он [человек] отвергнет же наконец и оспорит даже и Твой образ и Твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора».159 Выбирать, однако, приходится – лично и ответственно.
Один мой друг, журналист по профессии, этот сладостный и мучительный опыт свободного выбора описал для меня особенно красочно своим рассказом о ставшей для него постепенно ежегодной практике удаляться на выходные дни осени в некий своего рода «пансионат» при одном из пригородных монастырей, в котором соблюдается строжайший обет молчания. Никто там не произносит ни слова, и мой знакомый, в силу профессии вынужденный говорить и слушать с утра и до вечера довольно интенсивно, погружается на эти два-три дня в мир полного безмолвия. Разрешается, конечно, читать, писать или слушать музыку, но даже во время общей трапезы и в других местах встреч временных и постоянных насельников они обходятся без произнесения слов и речей. Этот опыт он произвёл над собой впервые много лет назад и практически каждый год с радостью ожидает его повторения, в особенности потому, что, прожив в полной немоте эти дни, он возвращается затем к своей обыкновенной жизненной рутине с особым чувством ценности и значимости человеческого слова. Причём это ощущение он испытывает настолько остро, что нарушить трёхдневный исихазм каким-то не важным и не существенным словом представляется ему едва ли ни кощунством и святотатством. Вместе с тем, за выбор этого первого слова, нарушающего становящееся вдруг столь драгоценным безмолвие, он чувствует совершенно особую и личную ответственность. Иногда ему удавалось отмалчиваться ещё почти целый день, ибо никто и ничто не могло заставить его разомкнуть уста ради каких-то маловажных и малозначительных обстоятельств и решений, пока не представлялся ему достаточно весомый повод, по которому он, наконец, соизволивал разжать уста. И, между прочим, не было случая, чтобы он тут же не пожалел об этом, вдруг осознавая, что и по этому поводу можно было вполне обойтись без слов и приберечь самое первое для чего-то поистине того достойного. Мы свободны в выборе, но никогда, ни единой минуты своей жизни не свободны от выбора, и дело лишь в том, осознаём ли мы и по-настоящему ли ценим эту свободу или тяготимся ею и всячески стремимся избавиться от её бремени. Представление о том, что лишь хворым да убогим, то есть, уже самими жизненными обстоятельствами поставленным в «безвыходное» положение, требуется помощь свыше, очевидно, исходит из ложной предпосылки о том, что принятие её из рук Творца или отвержение её зависит не от самого человека, а от каких-то внешних условий.
Этот широко распространённый предрассудок, впрочем, вполне объясним, ибо, и в самом деле, мы не созданы Богом самодостаточными, но – в расчёте на Него. Слова Блаженного Августина «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе»160 с неменьшим успехом распространяются, кроме сердца, и на все остальные части и органы нашего тела. Ведь не случайно, если и когда мы пытаемся стоять твёрдо и ходить прямо, не опираясь на Него, то и сами спотыкаемся, и других вокруг себя роняем. Не только само наше бытие необъяснимо и бессмысленно вне Божественного о нас замысла, но и каждый наш шаг мы совершаем, осознанно или нет, в Его присутствии, опираясь на заложенные Им в устройство этого мира законы и – либо в соответствии, либо вопреки Его всеблагой воле. В этом смысле, называя религиозную веру «костылём для немощных» или «опиумом для народа», воинствующие безбожники оказываются не слишком далеки от истины: человек немощен перед лицом природных и общественных стихий, личных обстоятельств и внутренних душевных бурь, и именно поэтому ему абсолютно необходима опора для того, чтобы устоять в испытании, и лекарство для того, чтобы восстать от немощи. Эта потребность в опоре ни в коем случае не является следствием индивидуальной слабости или ущербности. Молодой, здоровый и преуспевающий человек нуждается в ней едва ли ни в большей степени, чем едва сводящий концы с концами пенсионер, ибо решений и поступков первому из них приходится, как правило, совершать больше и сами эти решения, как правило, бывают масштабнее. Следовательно, не стесняться мы должны этого своего «Костыля», а гордиться Им и радоваться тому, что Он у нас есть.
И, наконец, последнее из наиболее распространённых предрассудков относительно веры в Бога, бытующих в общественном сознании, звучит примерно так: религиозная вера приводит к злоупотреблениям и трагедиям. А что не приводит? На место веры можно подставить почти любую другую ценность или «антиценность»: и богатство приводит, и бедность приводит, и власть приводит, и безвластие приводит, и знание приводит и незнание приводит и так до бесконечности. Какой бы дар ни попадал в наши человеческие руки, наша поражённая грехом воля (орган принятия решения) склонна, а без Бога – обречена, употребить его во зло. Дар веры в этом смысле не исключение, и приписывать ей самой какую-либо особую подверженность злоупотреблению совершенно неправомерно.
Всё это, таким образом, − карикатуры на веру, то есть то, чем вера не является. И ещё вера − это не столько явление, не вещь, то есть − не столько имя существительное, сколько – действие, то есть глагол. В греческом тексте Евангелия от Иоанна, например, это всегда – либо глагол, либо какая-то глагольная форма, что, кстати, искусно отражено и в русских переводах. Само это краткое слово многозначно и каждый из его оттенков отражает особую грань тех взаимоотношений между человеком и Богом, которые им описываются. Самое очевидное и, наверное, бесспорное значения слова «вера» это – уверенность, убеждённость в истинности чего-либо. Верить – в этом смысле слова – значит соглашаться с тем, о чём нам известно так мало, как если бы об этом нам было известно абсолютно всё. И с тем, чего на этом свете не бывает никогда: мы можем знать друг о друге, о себе самих, о каких-то жизненных явлениях больше или меньше, почти всё или почти ничего, но никогда и никому из людей ничто не было известно абсолютно и до конца. И, тем не менее, люди со спокойной душой в качестве истинных и достоверных многие факты действительности, что называется, принимают на веру. Пример с яблоками Ньютона мы рассмотрели ранее, но тот же принцип применим к другим «всемирным» и «вечным» законам.
Заметим при этом, что, если для веры в факты для нас важные и значимые, нам требуется немалое количество аргументов и доказательств, то факты малозначительные мы готовы принять в качестве таковых буквально на слово. Работая экскурсоводом в Московском Кремле, я подчас слышал от туристов самые невероятные вопросы, а, поскольку хороший экскурсовод по определению должен знать всё на свете, то, ни секунды не колеблясь, с удовольствием и удовлетворял любопытствующего туриста не менее невероятными ответами.
− Скажите, пожалуйста, а сколько весит Спасская башня?
− Без часового механизма – ровным счётом восемьсот девяносто три тысячи сто шестьдесят две с половиной тонны.
Понятно, что некоторые из моих ответов даже сам я затруднился бы воспроизвести несколько минут спустя, но, поскольку ни моя, ни чья иная жизнь ни в малейшей мере не зависели от того, сколько именно весит эта самая башня, то и меня, и вопрошающего мои ответы вполне устраивали.
И, наоборот, для убеждения человека в факте, способном радикально изменить его жизнь, требуется, как правило, гораздо больше, чем просто чьё-то веско произнесённое слово. В то, что перед ними – Иисус из Назарета, верили сотни и тысячи людей в Иудее. В то, что Он – реальная историческая личность, и нынче верят, пожалуй, все сколько-нибудь грамотные люди на свете – стоит попросить любого прохожего в Москве, Париже или в Багдаде исповедать свою веру в историчность Иисуса Христа, и за редким исключением всякий с лёгкостью провозгласит себя «верующим»… в то, что был такой человек, что он жил, путешествовал, проповедовал и трагически погиб от рук римских оккупантов. Но попробуйте спросить их, верят ли они в то, что согласно Писанию произошло с Ним дальше, и тут окажется, что убеждённости в Его воскресении на третий день многие из них уже не испытывают, и уверенности в Его скором Втором Пришествии у них тоже почему-то нет. Казалось бы, факты эти почерпнуты ими из одного и того же источника – Библии, но в одном случае они оказываются чуть ли не самоочевидными, а в другом – совершенно невероятными. И дело тут, конечно, не в большей или меньше степени доказанности одних фактов по сравнению с другими, а исключительно в том, насколько эти факты важны в жизни признающего или отвергающего их человека.
Далеко не всем людям, включая самих апостолов Христовых, доставало этой веры. Достаточно вспомнить тот эпизод, когда Христос Своей волей и Своим словом умиряет разбушевавшиеся стихии: «Тогда Он сказал им: где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу: кто же это, что и ветрам повелевает и воде, и повинуются Ему?»161 Казалось бы, только что у них на глазах произошло некое событие реальной действительности – ветер и вода повиновались Христу – но вместо утверждения их веры и укрепления их уверенности в Божием могуществе, это свидетельство породило в апостолах «страх и удивление». Не так ли зачастую происходит с человеком, просящим Бога о чуде, которое помогло бы ему уверовать или укрепило бы его в вере, но тут же в ужасе шарахающимся от этого самого чуда, всеми силами отрицая и отвергая его «в страхе и удивлении»?!
Видимо, об этой же вере-уверенности пишет апостол Иаков: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут».162 Они-то нисколько не сомневаются и абсолютно уверены и в Его бытии, и в Его могуществе – а потому и трепещут. Чего же тогда недостаёт их вере, чтобы стать для них спасительной? Или, если вернуться из преисподней на землю, чего не хватает множеству людей, вполне допускающих бытие Божие, согласных с истинностью Его учения и верящих в возможность бессмертия души, для того чтобы с ними произошло чудо исцеления и спасения?
* * *
О том, насколько трудно бывает человеку обрести эту веру-уверенность в Боге, даже несмотря на, казалось бы, самые красноречивые и очевидные свидетельства Его бытия и Его благой воли, поведал мне как-то за чашечкой чая весьма уже немолодой профессор социологии Миннесотского государственного университета, и, с его позволения, я привожу тут его историю, что называется, близко к тексту.
− Было мне тогда лет двадцать пять, и в качестве пилота ВВС я совершал в тот памятный день свой очередной полёт на Фантоме над Вьетнамом. Вдруг, откуда ни возьмись, на меня налетели ваши МИГи и, продырявив мне все бензобаки, благополучно скрылись в облаках. Я передал об этом на базу: нахожусь в таком-то квадрате, подбит, катапульта не сработала, и я падаю в джунгли. Представьте же удивление и радость моих однополчан, когда какое-то время спустя они вдруг видят, как, едва не касаясь верхушек пальм, на посадочную полосу буквально падает мой несчастный Фантом. Вытащив меня из кабины, они, естественно, поздравляли меня с таким чудесным избавлением от верной гибели – на базе меня уже похоронили. Но более всех был явно обрадован наш полковой капеллан:
− Я так рад, Джеймс, что ты всё-таки нашёл в себе силы в последний момент обратиться к Богу с покаянием и молитвой о спасении. Слава Ему за этот чудесный ответ на твою молитву!
− К Богу? С молитвой? Да я, вы же знаете, убеждённый атеист! Никаких молитв я не произносил…
Представьте же моё удивление, когда они прокрутили в радиорубке запись моего последнего сообщения на базу, после которого следовала довольно длительная пауза, а потом – мои собственные слова: «Прости меня, Господи, прими моё покаяние, спаси мою жизнь…» − ну и так далее. Естественно, и капеллан, и диспетчеры, и практически весь полк пытались меня убедить в том, что со мной произошло настоящее чудо, ибо, как они меня уверяли, по всем законам физики я давным-давно должен был рухнуть в джунгли. Но я-то знал, что спасло меня никакое не чудо, а исключительно моё пилотское мастерство, а что наговорил я всяких глупостей в тот момент просто потому, что какие-то мои детские страхи вытолкнули в сознание эти ничего для меня не значащие слова. Вырос-то я, действительно, в семье христиан. Видите, Олег, какие штуки может выкидывать наша загадочная психология!
Я, признаться, даже не стал ни в чём переубеждать уважаемого пилота-профессора после того, как его не привело к вере столь очевидное (всему его авиаполку!) свидетельство Божьей к нему милости. Одна надежда, что хоть его христианка-супруга, кстати, наша соотечественница, проймёт его когда-нибудь своим свидетельством любви и снисхождения к его упрямству.
Мой собственный опыт веры в этом отношении не столь драматичен, ибо не был связан с каким-то одним ярким и потому запоминающимся событием. Чаще всего приходится слышать о том, как человек в какой-то критический момент своей жизни принял решение следовать за Богом, и с этого-то времени и полагает себя верующим. Признаюсь, к исходу третьего десятка я уже столько раз обжигался, доверяясь различным глубокомысленным теориям, обаятельным личностям и увлекательным идеям, что предаться во всём и сразу открывшемуся для меня миру с Богом, я поначалу весьма опасался. По счастью, меня никто не торопил, и многомесячный курс оглашения, на который я тогда поступил, предоставлял мне достаточно времени для того, чтобы «примерить» эту новую для себя «одёжку», прежде чем облечься в неё как в свою собственную. Поначалу я решил доверить Богу то, что, с одной стороны, было достаточно существенно и значимо, а, с другой, было вполне осязаемо и наблюдаемо, а именно – свои финансы. Уж тут-то довольно трудно будет ошибиться, казалось мне, «работает» или «не работает» моя вера в Бога. Если да, то денег станет больше, если нет – меньше. Часть своих финансов я при этом доверил добрым и надёжным друзьям, вложив их в наше общее кооперативное предприятие, другую (десятину плюс отдельные пожертвования) – Богу и третью, в качестве «контрольной группы», оставил себе. Ради чистоты эксперимента я даже на некоторое время практически перестал их зарабатывать, что, впрочем, произошло не преднамеренно – просто студенческая виза, по которой я тогда находился на учёбе в Миннесоте, не давала права на работу в течение первого года учёбы. Надо ли говорить, насколько результаты поставленного мною эксперимента превзошли самые смелые мои ожидания! Во-первых, вернейшие друзья, в порядочности которых у меня никогда по ту пору не было ни малейшего повода сомневаться, сами оказались в крайне стеснённых обстоятельствах и, по их словам, «просто вынуждены были» неожиданно вставшую перед ними нравственную дилемму решить в свою пользу, так что этой части своих сбережений я уже более никогда не увидел. Оставленные при себе истощились едва ли ни столь же скоро, и тут уже пенять было не на кого. Зато «инвестированное» в Божье дело стало возвращаться мне, многократно преумноженное, причём из источников, о самом существовании которых я дотоле слыхом не слыхивал. Ну, например, всю мою учёбу в магистратуре, а также проживание моего семейства на кампусе семинарии взяли на себя не иначе как волею Провидения посланные мне в это время, абсолютно дотоле неизвестные благотворители – при том, что таких вот «частных» грантов я не только не искал, но и о самой их возможности не подозревал. Со стороны, конечно, это выглядело и расценивалось как результат каких-то моих усилий и поисков, помноженный на обыкновенное чисто человеческое везение, но я-то сам отлично видел и понимал, что, как, когда и почему со мной в то время происходило – доверие Богу начинало приносить «дивиденды». Ни богачом, ни финансово беззаботным человеком я с тех пор не стал, но с того момента, когда я предал заботу о своём материальном благосостоянии Господу, это перестало быть проблемой, а, точнее, стало не моей проблемой. Следующими шагами навстречу Богу стало предание Ему забот о своём физическом здоровье, о безопасности и благополучии моего семейства, о дальнейших карьерных решениях и т.д. Этот процесс занял у меня, помнится, ещё около года, в самом конце которого на вопрос знакомого, считаю ли я себя верующим человеком, я впервые со всей ответственностью ответил: «Теперь – да». И, что замечательно, процесс этот вовсе не закончился этим моим первым исповеданием веры, ибо время от времени я обнаруживаю за собой какие-то уголки или даже целые области своего жития-бытия, которые до сих пор, сознательно или совершенно неумышленно, но почему-либо не были мною вверены Его благой воле. За сознательные, понятно, приходится каяться, а остальные я последовательно, честно и осмысленно из моего собственного попечительства передоверяю Божию.
* * *
«Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа (курсив здесь и далее мой – О.В.) стала здорова».163
«Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошёл за Иисусом по дороге».164
Завидую тем, с кем это случилось вот так, по-евангельски. Этого любимого евангелистом Марком «тотчас», с которого вера-уверенность превращается в веру-доверие, в моей жизни не случилось, или я его как-то умудрился не заметить, но само это превращение мне представляется, тем не менее, совершенно необходимым и неизбежным на пути человека к Богу. Ведь и в самом деле, что проку в нашем самом глубоком и искреннем убеждении в верности самых высоких идеалов, если мы не можем или не желаем на них положиться? Какой был бы нам толк от веры во всесильное Божество, если бы ничего из того, что нам дорого, от Него не зависело или было Ему совершенно безразлично? В чём был бы смысл нашей убеждённости в бытии совершенного и всеблагого Господа, если бы мы не могли довериться Ему полностью и совершенно?
Существует немало иллюстраций этого важнейшего различия между верой-уверенностью и верой-доверием, но, вероятно, самым ярким и наглядным выражением доверия служит пример ребёнка, безгранично и безотчётно вверяющего себя матери или отцу. В самой человеческой природе уже от рождения посеяно зерно той высшей степени веры, которая потом оказывается людям так необходима для восстановления (religare) нормальных и естественных отношений с Богом. Не случайно и в тексте Библии так часто описываются взаимоотношения с Ним именно через эту систему образов – чад Божиих и Отца их Небесного, например: «Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них (учеников) и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».165 Именно через эту веру, полное и бесконечное доверие к Богу – когда человек предаёт Ему всего себя, вверяет Ему всю свою жизнь и возлагает на Него все свои надежды и упования – обретается им спасение от греха и нечистоты, к которым неминуемо влечёт его следование своей собственной падшей природе, то есть произволу и своеволию: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился».166 Знания и даже самой твёрдой уверенности в Божием бытии, в Его благодати и милости, как видно, оказывается мало: спасение даруется человеку через веру-доверие. Одно дело верить в том смысле, что «с высокой долей вероятности допускать» существование некоего далёкого и недоступного Бога, и совсем другое – доверять Ему, как доверяешь скале, на краю которой стоишь, как доверяешь щиту, заграждающему тебя от стрел, как доверяешь другу, протянувшему тебе спасительную руку.
* * *
Однажды, поздним вечером, по окончании застолья, на котором присутствовали и верующие, и неверующие, кто-то предложил помолиться о том, чему эта встреча была посвящена (кажется, приближался один из праздников, и мы обсуждали подготовку к нему). Один из нас прочёл тропарь и молитву по молитвослову, двое или трое ещё сказали несколько слов благодарения и прошений от себя, и потом вдруг один из неверующих произнёс свою молитву... в третьем лице: «И ещё я благодарен Богу за то, что… и прошу Бога о том, чтобы Он...» Я никогда ни дотоле, ни с тех пор не слышал молитвы человека, уже знающего о Боге достаточно, чтобы веровать в Его бытие, но для которого Бог всё ещё продолжал оставаться лишь предметом и объектом веры – загадочным «чем-то» или «кем-то». Чтобы обратиться к Нему «на Ты», требовалось довериться Его присутствию посреди нас, то есть, пережить опыт личной встречи с Богом, то самое «событие/со-бытие», о котором говорилось раньше. Еврейский философ Мартин Бубер в своей книге «Я и Ты» рассматривает эту динамику «со-бытия» и обращения человека к Богу и, в частности, пишет: «К своему Вечному Ты люди обращались, называя его многими именами. Когда они воспевали его, наделённого именем, они всегда подразумевали Ты: первые мифы были гимнами и хвалебными песнями. Потом имена вошли в язык Оно; людьми овладевало неодолимое побуждение размышлять об их Вечном Ты как о некоем Оно. Но все имена Бога оставались священными; ибо они были не только речью о Боге, но и речью, обращённой к Нему».167 Молящийся Богу в третьем лице, очевидно, ещё не находил в себе сил и мужества довериться Ему, но уже готов был приобщиться к нашему общему опыту.
* * *
И, наконец, третье значение этого короткого, но, как оказывается, такого содержательного слова, это – верность. Даже вне контекста становится понятно, что о какой-то иной вере, которая постоянно подвергается испытанию и которая требует от человека труда, старания, терпения и твёрдого стояния в ней, идёт речь в следующих новозаветных стихах:
«Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души».168
«Испытание вашей веры производит терпение».169
«Прилагая к сему всё старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность...»170
Спасительная вера-доверие, как мы только что выяснили, даруется человеку как раз «не от дел», и вера-уверенность относится, главным образом, к сфере человеческого знания, а не деятельности и опыта. Подсказкой в данном случае служит Ветхий Завет, где это значение встречается наиболее часто, причём, как правило, в применении к самому Господу Богу, например: «Имя Господа прославляю; воздайте славу Богу нашему. Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны; Бог верен, и нет неправды [в Нем]; Он праведен и истинен».171 Или: «Вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен».172 Стихам из Второзакония вторит и апостол Павел: «Нас постигло искушение не иное, как человеческое; но верен Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли перенести».173 Этого особого качества веры, называемого верностью, то есть последовательного и постоянного утверждения веры-уверенности и веры-доверия в жизни человека, также ожидает от него Бог. Он Сам в высшей и превосходной степени обладает этим качеством и никогда, несмотря ни на какие обстоятельства, не отступает от Своего совершенного замысла в отношении сотворённого Им мира и обетований, данных Им человеку. В Псалме 102 Бог описывается не только как Господь щедрый и многомилостивый, но и – долготерпеливый. А терпеть Ему от людей приходится немало! Каждый из нас в своей жизни терпит лишь выпавшую на его долю меру неправды, обиды, лжи, нечистоты или неверности, а Ему приходится испытывать на Себе всю сумму зла, нести на Себе все грехи мира. Страшно даже представить себе, какое это бремя!
По себе знаю, например, как безумно устаёшь, работая переводчиком в суде, когда к концу дня, всё услышанное – жесточайшие обвинения и жалкие оправдания, явная и неявная ложь, бессмысленности и даже брань – переведённые тобой, настолько тебя переполняют, что уже и не рад бываешь тому, что взялся за этот, на самом деле, совершенно необходимый труд. Впрочем, эта аналогия не совсем точная, поскольку для меня-то рано или поздно наступает этот самый «конец дня», а у Бога, как известно, дней много. Следовательно, и терпеть Ему от нас приходится бесконечно долго. Только от меня одного Он терпел ежедневные оскорбления и непочтительность в течение почти трёх десятков лет, а сколько нас таких! Поэтому, наверное, именно за Его веру-верность, то есть, Его веру в человека, мы Ему должны быть особенно благодарны.
К сожалению, это вовсе не значит, что большинство людей верующих как-то особенно преуспевает в этом отношении, и, скорее, наоборот, именно вера-верность даётся человеку почему-то особенно трудно. Вроде, и доверять Господу постепенно научился, и уверенность в Нём уже никогда не покидает, а вот сохранять Ему верность во всяком слове, помысле, деле, решении и выборе – над этим большинству людей приходится усердно и молитвенно трудиться до конца своих дней. Об этом, вероятно, и писал апостол Павел жителям Фессалоники: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе».174 Для «совершения дела веры», то есть для того, чтобы она в жизни человека не только была основательна (уверенность), не только деятельна (верность), но и последовательна (верность), стало быть, необходимы все эти три составляющие.
Если же всё более или менее известно, достоверно и понятно, то почему тогда самый первый шаг − решение, призванное изменить жизнь человека, земную и вечную − даётся ему с таким трудом, а кому-то, увы, так и не даётся вовсе? С другой стороны, по свидетельству множества людей об их пути к вере, как раз наоборот, сама встреча со Христом была наиболее естественным и радостным событием в их жизни, а вот труд узнавания Его премудрости и проникновения в глубины Его учения представляется и тяжким, и подчас мучительным. Задача жизни по вере представляется многотрудной и многохлопотной, а то и вовсе неисполнимой. То же, что в обычном случае должно было бы, кажется, облегчать всякий труд – накопленные знания и опыт, значительные материальные ресурсы – оказывается не просто бесполезным, но зачастую и затрудняющим решение задачи. Достаточно вспомнить в связи с этим беспомощность фарисейского начальника Никодима175, никак не могшего взять в толк, как это в его возрасте и положении следует ему родиться «заново» (или, в другом переводе, «свыше»). Титул и опыт учителя Израилева, как видно, ему нисколько в уразумении этого не помогает. Ничего, кроме сочувствия, не может вызвать и облечённый благополучием и властью юноша, обратившийся ко Христу за простым советом – как тут пройти в Царство Небесное.176 Богатство-то, призванное облегчать человеку жизнь, вызвало у него наибольшее затруднение, а присутствовавших при этом разговоре апостолов эта коллизия повергла в настоящий ужас: «Кто же сможет спастись!?»
* * *
На одной из моих презентаций в Магнитогорске, где меня пригласили выступить на городской конференции для учителей-историков, уже по её окончании, этот же вопрос был поставлен с некоторым даже, как я почувствовал, вызовом одной из учительниц истории. Сама презентация, надо сказать, уже отчасти подготовила меня к чему-то подобному. Дело в том, что ещё на открытии конференции мне как её заморскому гостю было недвусмысленно дано понять, куда я попал и с кем мне предстоит иметь дело:
– Добро пожаловать в наш город, стратегически расположенный на границе двух континентов и выпускающий броню для каждого третьего танка в нашей стране!
Надо сказать, что я и в самом деле довольно редко наблюдал такую меру «оборонительности» со стороны своей аудитории, и все мои попытки подобрать какой-то подход к своим слушателям, похоже, рассматривались ими как тактические наступательные манёвры потенциального противника. По тому, как тщательно они записывали за мной, я мог судить, что материал им интересен и важен, но вот какой-либо обратной реакции на свои слова мне добиться никак не удавалось. Подумалось: уж не из того же ли самого броневого листа у них тут изготавливают и школьных учителей, совершенно непробиваемых ни для выражения какого-то своего личного отношения, ни для здоровой доли юмора, ни для провокационных вопросов залу? Посетовав на эту свою незадачу организаторам встречи во время перерыва, я, однако, был совершенно изумлён их впечатлением от происходящего:
– Да что вы?! Какой ещё реакции вы ожидали?! Это же Урал, и народ тут живёт серьёзный и обстоятельный. Послушаем, запишем, подумаем, попробуем, оценим, а потом, может, и дадим вам как-нибудь знать, чего, на самом деле, стоит ваша презентация, ваши материалы и ваши аргументы. Судя, однако, по тому, что ни единая душа не сбежала с конференции во время перерыва, вы затронули в наших учителях что-то для них существенное.
И она не ошиблась, ибо вопросы в конце встречи касались не каких-то технических деталей и методических нюансов, а, что называется, жизни и смерти. В частности, встал и вопрос о том, почему таких подчас титанических усилий требуется для принятия решения о вере в Бога от человека, вполне удовлетворившего своё любопытство по поводу свидетельств её истинности и основательности и, кроме того, убедившегося в предрассудочности наиболее расхожих ложных представлений о вере.
– Да возможно ли, вообще, человеку вот так взять и вдруг развернуться на 180 градусов, решив, что с сегодняшнего дня то, что он полагал самым главным и основополагающим, – ложно, а то, что он по сю пору отрицал и высмеивал, признаётся истинным? – подступила ко мне с вопросом одна из учительниц, всю лекцию просидевшая с нескрываемым скептическим прищуром, будто прицеливаясь в меня в окуляр из своего БМП.
– Тем более что, как выяснилось, сам «орган принятия решения» поражён пороком и, следовательно, в принципе, не в состоянии избрать «не-порочное», – поддержала её коллега, кстати, в открытую записывавшая всю мою презентацию на видео, несмотря на мои настоятельные протесты, обусловленные принятой в Штатах щепетильностью в отношении закона об авторских правах.
По счастью, на памяти у меня ещё было свежи слова замечательного современного православного апологета Сергея Львовича Худиева о том, что «человек не может прийти к Богу (и остаться с Ним) по своей воле именно потому, что как раз воля-то и поражена первородным грехом. Это как если бы мы посоветовали человеку с переломанными ногами прийти в больницу, чтобы ему там их вылечили. Он не может прийти за помощью по той же самой причине, по которой он в ней нуждается».177 Ужас, охвативший апостолов, услышавших от Христа весть о совершенной невозможности спасения при опоре на «собственные силы и внутренние резервы», становится, таким образом, столь же понятен, сколь и недоумение моих магнитогорских учительниц. Ответом и тем и другим послужили слова Спасителя, ставящие всё на свои места: «Человекам это невозможно, но не Богу, ибо всё возможно Богу».178 То есть сам этот труд, совершающийся в человеке и на его пути к Господу, и на его пути с Богом, производится по воле Божией и Его же Святым Духом, а без Его участия старания эти были бы (и бывают) не только тяжкими, но и совершенно бесплодными.
Сколько раз и по скольким поводом мои растущие дети, бывало, взывали ко мне, искусно модулируя своими нежными голосками полное отчаяние и безысходность:
– Ну, па-а-па! Это же та-а-ак трудно!
Уже давно, однако, я от них этого не слышу и не только потому, что они давно выросли и разъехались по белу свету. Встречаемся мы, тем не менее, довольно часто, и ситуаций, в которых этих слов от них можно было бы ожидать, не стало меньше. Просто, они уже давно знают, что я на это отвечу:
– Так это же замечательно! Слава Богу, что это всего-навсего «трудно»! Представьте себе, как ужасно было бы, окажись это совершенно невозможно!
Работа может быть трудна, но – сколько людей на свете ищут и не могут найти, вообще, никакой работы! Лекарство может быть горьким, но – скольким людям на свете оно, вообще, недоступно! Путь может быть долгим, но – сколько людей на свете пребывают в заключении или как-то ещё ограничены в передвижении! Я редко пишу стихи, но как раз на эту тему стишок однажды как-то сложился само по себе и даже – сразу с двумя эпиграфами:
Из дома вышел человек
С верёвкой и мешком
И в дальний путь, и в дальний путь,
Отправился пешком.
Д. Хармс
И вот... Но это ерунда,
И было всё не так.
А. Галич
…И только тот, кто идёт вперёд,
Лишь тот, кто идёт вперёд,
Подошвы – вкривь, и ладони – в кровь,
И пыли набилось в рот.
Ему ни ангелы не указ,
Ни бес ему не указ,
Он с небосвода не сводит глаз
И слышит небесный глас.
И потому, кто всегда в пути,
тому, кто всегда в пути –
Ему не легче, чем нам, идти,
Но легче, чем не идти.
Блажен, кому выпадает путь,
Пред кем отступает жуть,
Во тьму шагнуть и – что будет, будь –
Что будет, уж не минуть.
Ни влево шаг, и ни вправо шаг,
И прямы его стези.
Упрямо голос твердит в ушах,
Что Царство – уже вблизи.
И лишь когда он закончит спор
С дорогою в жизнь длиной,
Услышит: «Шаг твой не зря был спор –
Садись вечерять со Мной».
* * *
Глагол «верить», сам по себе, для христианина чрезвычайно энергичен и динамичен, и одно из афористических определений веры, на мой взгляд, особенно удачно отражает именно это её свойство: «Вера – это то, что мы делаем с тем, что мы знаем». Другие вероучения и вероисповедания часто подчёркивают медитативное и умозрительное свойство религиозного опыта. Вера христиан, прежде всего, деятельна. Православная традиция даже молитвенному (то есть, казалось бы, совершающемуся, прежде всего, в сознании и сердце человека) опыту нашла более энергичное выражение: мы не просто «молимся», где возвратная частица как бы обращает молитву внутрь молящегося, а «творим молитву», совершая, очевидно, некоторый труд и даже производя в результате некоторый плод этого труда. «Самое первое правило, касающееся общения с Богом, правило, которое должен знать каждый: в этом делании нет места воображению. Воображение перекрывает именно те каналы, по которым только и может дойти до нас реальная, действенная (курсив мой – О.В.) благодать», – писал об этом академик С.С. Аверинцев.179
* * *
Этот труд, вместе с тем, вовсе не обязательно должен быть явным и, тем более, признанным. О набожности многих христиан мир узнаёт зачастую лишь после того, как они закончили свой земной путь вполне добропорядочными, как считалось, но не какими-то особенно, как теперь принято говорить, «глубоко» или даже «истинно» верующими людьми. Когда хоронили старого Крамарчука, хозяина ресторанчика восточно-европейской кухни в относительно старой части Миннеаполиса, народу собралось неожиданно много. Сам ресторанчик и магазинчик при нём существовал уже полстолетия и известен был, главным образом, тем, что прямо в его зале, посреди одного из столиков возвышается ни много ни мало памятник пельменю, едва ли ни единственный в обитаемой вселенной, – четырёхгранная стела с нанизанным на неё гигантским пельменем и нанесёнными на её грани десятками названий этого произведения кулинарного искусства на множестве языков мира. Заведение под названием «Kramarczuk’s» было популярно среди любителей польской колбаски и настоящего украинского borscht, сиречь, борща, то есть среди не самой многочисленной части населения штата Миннесота, исторически заселявшегося выходцами, главным образом, из стран Скандинавии и Германии. Каково же было удивление жителей города, когда похоронная процессия, провожавшая в последний земной путь одного из своих достойных сограждан, протянулась в тот день на многие и многие кварталы, и в вечернем выпуске городской газеты появился снимок с вертолёта, с пересекающей едва ли ни половину огромного города чёрной лентой людей и машин, вьющейся от его центра и до самого «русского кладбища» на окраине. Как оказалось из множества интервью, взятых обескураженными корреспондентами у этих людей, все они съехались со своими семьями из разных штатов страны, чтобы выразить свою почтение и свою благодарность человеку, когда-то сыгравшему в их жизни совершенно исключительную роль – дав им их первую в этой стране работу в своём ресторанчике. Мало ступить на берег «страны возможностей» – надо ещё и чтобы кто-то в первый раз поверил в тебя, доверил тебе своё имя, своё имущество и свою репутацию, при этом не зная о тебе лично решительно ничего. Дипломы и рекомендации из стран, которые сами же эти люди по каким-то причинам решили оставить позади, понятно, воспринимаются как чистая формальность, ничего не говорящая о том, с каким человеком работодателю придётся каждый день встречаться, общаться и трудиться. На протяжении своей жизни старый Крамарчук предоставил эту возможность в общей сложности многим сотням людей. При этом довольно скоро выяснилось, что большинство из них не знали друг друга, поскольку проработали у него лишь какое-то недолгое время, получив, таким образом, свою первую американскую строчку в «резюме», после чего находили с её помощью и по рекомендации самого же Крамарчука более выгодную или более интересную работу, освобождая место следующим новоприбывшим иммигрантам. Только услышав о его тихой кончине и собравшись на его похороны, они – а вместе с ними и весь город – вдруг узнали об истинном размахе его ежедневного и незаметного труда веры. А ведь сколько из тех, кого он брал на работу, оказывались нерадивыми или бесчестными людьми, которых ему приходилось гнать взашей, неся при этом убытки и выслушивая жалобы от клиентов. Однако, судя по тому, скольким сотням людям и их семьям он в итоге своей жизни помог, это обстоятельство лишь побуждало его к дальнейшим усилиям веры в Бога и исполнение Его заповедей любви и добродетели. Прихожане местной церкви знали его как видного, не чуждого благотворительности и участия в жизни церкви человека, но, как стало известно лишь по окончании его жизненного пути, истинный труд и подвиг веры старый Крамарчук, на самом деле, совершал никому неизвестным и незаметным образом.
* * *
Итак, «верить» – это глагол, причём, необходимо требующий дополнения, объекта, к которому применяется его действие. Просто верить невозможно, и даже когда в речи мы для краткости опускаем дополнение, тот или иной предмет веры всё-таки подразумевается. Человек может верить или не верить во что-то, в кого-то или кому-то. По мнению Г. К. Честертона, вера в «ничто» тоже совершенно невозможна: «Теряя веру в Бога, человек не становится верующим в ничто. Он становится верующим во что попало».180 По-русски это называется «свято место пусто не бывает», и каждый человек, не найдя или потеряв веру в живого Бога, ищет и находит предмет веры, его более или менее, надолго или накоротко, в той или иной степени устраивающий. Разброс возможностей при этом поистине поразителен: от таких возвышенных объектов личной веры, как наука, искусство и всеобщее благо, до таких вполне приземлённых, как личное благополучие и самоутверждение. Во что же и как же верят неверующие?
* * *
Один мой хороший друг, учёный-физик, как-то спросил меня: «Зачем людям может быть нужна вера, если им дано знание? Как можем мы, обладая разумом, довольствоваться верой?» Признаться, этот разговор возник у нас не случайно, и я уже давно ждал от него подобного вопроса. Мы с ним были знакомы вот уже несколько лет, и у нас обоих было немало случаев убедиться в том, что мы оба − люди вполне практичные, здравомыслящие и, следовательно, разумные. Будучи христианином, я, естественно, не мог не желать, чтобы этот дорогой моему сердцу человек обратился к Богу и обрёл вечное спасение своей душе. Однако если бы я ему вдруг решил воспроизвести по памяти «Четыре духовных закона»181 или зачитать из Писания, скажем, Ин. 3:16182, то на него это, вполне вероятно, произвело бы самое неблагоприятное впечатление. Кому-кому, а уж ему-то было отлично известно, насколько замысловат и многосложен мир, и допустить, что предвечный замысел спасения человечества может быть изложен простым текстом на одной страничке, было бы для него чрезвычайно трудно. С другой стороны, Библия, с содержанием которой он был знаком, как всякий уважающий себя русский интеллигент, не обладала для него никаким особым авторитетом, по сравнению, скажем, с Кораном или Ведой, да и сам факт её древности говорил ему скорее о возможной устарелости её истин, чем об их неизменности.
Две вещи на земле могли повлиять на его мнение: научные факты и произведения искусства. Всю свою взрослую жизнь он занимался добыванием, проверкой, анализом, сравнением и классификацией информации об атомном и субатомном строении мира. Компьютерная база данных, описывающая поведение микрочастиц, которой он оперировал в своей работе, поистине колоссальна, и, кроме того, постоянно пополняется по мере того, как в неё стекаются данные с тысяч приборов, установленных на десятках ускорителей во всём мире, практически не останавливающихся ни днём, ни ночью. И каждое такое показание – неопровержимый научный факт, объективно засвидетельствованный приборами. Даже списав на техническую погрешность некоторый и заранее определённый процент полученных данных, учёный получает возможность делать обобщения и выводить закономерности, с высокой долей вероятности отражающие истинное положение вещей в природе.
Такая методичность и щепетильность высокой науки, на первый взгляд, должна была бы оказаться совершенно несовместимой с искусством, где всё так, наоборот, спонтанно, непредсказуемо и алогично. Мой друг, однако, был весьма тонким ценителем и живописи, и литературы, и музыки, и здорового житейского остроумия. Прекрасное, изящное и гармоничное служило для него не менее авторитетным свидетельством истинности, чем те же показания датчиков. Сделав это наблюдение, я невольно задался вопросом: нет ли чего-то общего между этими, казалось бы, столь разными взглядами на жизнь? Не обладает ли естественнонаучное мировоззрение каким-то качеством, свойственным так же и эстетике? Ведь не случайно же среди выдающихся учёных-естествоиспытателей так часто встречаются люди, одарённые и необыкновенно тонким художественным вкусом. На мой взгляд, этим общим знаменателем для обеих отраслей человеческого знания является то, что называется свободой выбора, а точнее – её отсутствием. Ни в научной деятельности, ни в восприятии произведений искусства моему другу не приходится совершать выбор самостоятельно, то есть выносить решение или суждение об истинности того или иного факта на основании осознанно личного выбора. Ни в том, ни в другом случае он не делает его в силу исключительно своего собственного разумения и благоволения.
Факты, как известно, − вещь упрямая, и естественно-научные данные буквально заставляют человека согласиться с ними, даже если это противно его личным убеждениям или предпочтениям, его жизненному опыту или интуиции. Законы научного мышления сформулированы таким образом, чтобы оставить за учёным минимум, а в идеале − вовсе никакой личной свободы. В академической среде считается едва ли ни дурным тоном, заявлять о своём собственном мнении или личном предпочтении без множества оговорок и условностей. Всё, что может себе позволить учёный, – это представить собранные им данные, выстроив их таким образом, чтобы его аудитории ничего не оставалось, как согласиться с его выводом. Всё, что, в свою очередь, может себе позволить его оппонент, – это представить какой-то иной набор данных или методик. Утверждение принимается в качестве истинного, если оно подтверждается наибольшим или подавляющим количеством внутренне непротиворечивых данных, которые должны буквально припереть оппонента к стенке, и тогда он, не будучи в состоянии выставить сколько-нибудь серьёзных контраргументов, невольно соглашается с предлагаемыми выводами. Ему фактически даже не приходится принимать никакого собственного решения, ибо, как принято считать в науке, «факты говорят сами за себя».
Любопытно, что в области искусства, при всей его кажущейся противоположности научному мышлению, действует тот же самый закон подневольного согласия или, проще говоря, убеждения. Чуткие к миру прекрасного в силу врождённой способности или воспитания люди умеют настолько отдаться власти изящного слова, жеста, звука, цвета или ритма, что гармония формы становится для них абсолютным залогом истинности содержания. Невыразимое никакими словами эстетическое наслаждение и восторг от прикосновения к произведению искусства свидетельствует их душе с ничуть не меньшей силой и неопровержимостью, чем – в научной среде – на них подействовало бы скрупулёзнейшее логическое построение.
Дело, вероятно, в том, что и та, и другая сферы человеческих интересов и увлечений (наука и искусство) отмечены одним и тем же признаком – максимально возможным для разумного человека отказом от ответственности за лично и осознанно принимаемое им решение и, тем более, от самоотверженного посвящения этому решению всей своей жизни. Научное мышление в такой же точно мере, как и эстетическое восприятие мира, требует от человека отвержения своей воли в пользу той или иной, внешней по отношению к нему, силе, будь то непреодолимое давление фактов или сокрушающее душу чувство. Создаётся впечатление, что ни за одно своё решение ему не приходится отвечать лично, и ни в одном из них им в дальнейшем не приходится раскаиваться, ибо ни одно из них он не принял сам, но был вынужден принять, уступив подавляющему его собственные силы воздействию. На случай ошибки имеются надёжно подготовленные рубежи отступления: учёного могут подвести приборы или нелепая случайность, эстета может увлечь и далеко завести игра страстей и образов. Ни тому, ни другому, однако, не приходится винить самого себя, ибо само понятие вины оказывается в таком случае едва ли применимым и уместным. Оно может относиться лишь к решению, принятому человеком по свободному и осознанному выбору, то есть по вере.
Лично, свободно, ответственно и осведомлённо?
Однако возможно ли это? И существует ли тот голос, который не диктует человеку свою волю извне, а принадлежит ему самому? Христианство заявляет, что да, существует, и этот свой собственный голос человек способен и даже обязан отличать от всех остальных, ему лично не принадлежащих. Предполагается, что человеку предоставлена не только полная свобода в выборе решения, но и осведомлённость, достаточная для того, чтобы этот выбор сделать правильно, то есть в соответствии с Божественным замыслом. В душе своей человек всегда способен найти либо одобрение, либо порицание каждого своего шага и каждого принятого им решения, а следовательно, не должен и не может искать оправдания своим ошибкам в подневольности или бессознательности сделанного им выбора. Поступая по вере в этот внутренний (то есть свой собственный) голос, человек тем самым берёт на себя полную ответственность за последствия сделанного им выбора, признавая вместе с тем существование неминуемых противоречий между различными подтверждающими и опровергающими правильность этого решения доводов и аргументов. Отвергая или вовсе не признавая этот голос, человек не делает его несуществующим или менее авторитетным, но, поступая вопреки ему, берёт на себя, таким образом, и ответственность за этот шаг.
Чем же отличается такое христианское сознание от рассмотренных выше образов мышления (научного и эстетического)? Вероятно, тем, что оно честно признаёт и предполагает за человеком способность и даже обязанность принятия собственного решения, а значит, и полную личную за него ответственность. Уже мировоззрение ветхозаветных израильтян полагало всякое без исключения знание моральным, то есть имеющим Божественное происхождение, и поэтому неотъемлемо включающим в себя элемент личной ответственности человека за его утверждение, сохранение, передачу и применение. Христианство наследовало этот образ мышления и пронесло его через столетия, неустанно напоминая о нём всякому, кто пытался спрятаться от него за лозунгами об объективности науки или чистоте искусства.
Очевидно, что эта свобода от необходимости принятия личного решения и в строгом научном мышлении, и при восприятии произведения искусства мнима и иллюзорна. В конце-то концов, от учёного требуется и ожидается, что решение он примет не только благодаря некоторым фактам, но и вопреки некоторым другим, а также в отсутствии некоторых третьих. Строгое следование протоколу научного исследования создаёт лишь иллюзию объективности и личного невмешательства, и, как следствие, иллюзорно же снимает с человека ответственность за акт личной веры, позволяя ему с чистой совестью называть принятое им решение «научным фактом». Так, например, в спорах о состоятельности дарвиновской теории происхождения видов с самого её зарождения и по наши дни, сторонники этой теории приводят в качестве доказательства её истинности множество фактов, её подтверждающих, а противники – немалое же число фактов, ей противоречащих. И тем, и другим, таким образом, известны и те и другие аргументы, но сторонники теории, тем не менее, принимают её на веру, ссылаясь при этом на то, что наука находится в постоянном поиске и её развитие постепенно, но непременно позволит разрешить имеющиеся на настоящий момент противоречия (обнаружатся переходные формы, новые биологические виды и т.д.). Само же систематическое научное наблюдение за биологическим видами в течение нескольких последних столетий, между тем, зафиксировало исчезновение с лица земли нескольких сотен тысяч из них, в том числе довольно крупных высокоразвитых (скажем, млекопитающих) организмов, в то время как появление ранее не наблюдавшихся (!) видов за этот же период времени той же наукой отмечено в количестве буквально единиц, да и то не бесспорных и на уровне бактерий. Другими словами, научным наблюдением эта теория не подтверждается, но объявляется в качестве «общепринятой» и едва ли ни «единственно верной», несмотря на это и множество других (например, пресловутое «недостающее звено») признаваемых обеими сторонами научных наблюдений, свидетельств и фактов, с нею совершенно не совместимых. По мнению части учёных, например, за фактором «случайности» (random selection) кроется не отсутствие упорядоченной причинности и закономерности, а либо заведомый отказ её искать (например, ввиду её ошеломляющей сложности), либо заведомое непризнание той причинности, которая не вписывается в атеистическую картину мира. С другой стороны, теория Божественного творения, разрешающая или снимающая эти противоречия, дарвинистов, по сути, не устраивает по той же самой причине: всякую мистичность и та́инственность, креационистов они воспринимают и понимают как «заведомую неизвестность», мешающую им согласиться с этой теорией. И тем, и другим, таким образом, требуется акт свободного и личного выбора для преодоления в своём решении того зазора, которые неминуемо и неизбежно существует между недостижимым абсолютным знанием и тем объёмом знания, которым здесь и сейчас обладает и оперирует исследователь. Немало учёных, честно и последовательно рассмотрев доводы за и против веры в Бога, приходят к выводу о том, что атеистическая доктрина возникновения и существования вселенной (в особенности жизни и сознания) требовала бы от них пренебрежения гораздо большим количеством фактов, имеющих гораздо большую научную и мировоззренческую значимость, чем теистическая и, в частности, христианская доктрина. «Я недостаточно религиозен, чтобы быть атеистом» – так, не без изрядной доли иронии, назвали свою книгу христианский апологет Турек и богослов Гейслер.183
Тот же самый принцип, по-видимому, оказывается справедливым и в отношении произведений искусства, которые, с одной стороны, воздействуют на ценителя прекрасного помимо его воли, заставляя его неизъяснимо полюбить одного художника и отвергнуть другого, восторгаться одним полотном и остаться абсолютно равнодушным к другому. Однако, с другой стороны, ведь и эстету приходится иметь дело с выбором, хотя, как это часто случается в области искусства, менее осознанным и почти интуитивным. Внимательный к себе и другим человек, тем не менее, заметит за собой, что, например, одному художнику он легко и радостно прощает отдельные неудачи, встречающееся в его работах техническое несовершенство и даже, может быть, какие-то не вполне приглядные эпизоды его личной жизни, а у другого всё то же самое оказывается совершенно неприемлемым и недопустимым.
Мой друг-физик, в конце концов, признался мне, что вопрос о бытии Божием он для себя решил отрицательно просто потому, что ему хотелось решить его для себя как-то так, чтобы более к нему не возвращаться и целиком отдаться своей научной деятельности и академической карьере, а на тот момент отвержение Бога ему представлялось именно таким наиболее, по его словам, практически удобным решением. Мне, конечно, ужасно жаль, что моего свидетельства оказалось недостаточно, но, по крайней мере, он уже не пребывает в заблуждении о том, что какой-то набор фактов или, наоборот, недостаточность каких-то доводов «окончательно уверили» его или «заставили» провозгласить себя убеждённым атеистом – он сам, лично и свободно сделал этот выбор. Надеюсь также, что присущая ему научная и личная честность, а также трезвенность ума будут постоянно напоминать ему об этом и побудят в какой-то момент пересмотреть своё решение.
* * *
Ещё со студенческих времён особенно запомнился мне один из многих и бесконечных споров, которые мы, будущие школьные учителя-филологи, вели между собой и с нашими преподавателями о том, почему и за что мы любим одних писателей или поэтов и не любим других, а также, конечно, почему одним нравятся одни их книжки, а другим другие. Более или менее казённые (важно иметь в виду, что дело происходило в советские времена в «идеологическом» вузе) и классические теории на этот счёт нам по молодости представлялись устаревшими и неудовлетворительными, а житейские мудрости типа «о вкусах не спорят» – неприемлемыми, ибо именно о вкусах-то мы как раз и спорили. При этом, когда речь заходила о поэзии, то Пушкина, по определению, любили все без исключения, но зато все остальные стихотворцы – от античности до современности – расходились, что называется, нарасхват, и почти неизменно находился среди нас хоть кто-то, готовый за своего любимца лечь костьми и, соответственно, кто-то именно этого поэта глубоко презиравший.
В одной из таких баталий мне выпало защищать творчество моего кумира В.С. Высоцкого, в то время ещё живого, выступавшего с концертами, игравшего в театре и в кино, выпускавшего пластинки и лишь немногим известного в качестве собственно поэта, то есть − своим стихами, не положенными на песни, которые распевают под дымок костра или в прокуренных кухнях. Естественно, почитатели более традиционных служителей поэтической музы посматривали на меня несколько свысока и предъявляли мне довольно длинный список того, что им представлялось несовершенствами в его поэзии: несложные глагольные рифмы, смешение жанров и стилей (например, философской лирики и просторечья), фактические неточности (очевидцев не «сжигали на люди кострах») и мн. др. Я, естественно, отчаянно защищал своего любимца, отлично, при этом понимая, что многие из этих претензий вполне основательны и должны бы, казалось, и меня, владеющего некоторым аппаратом литературоведческого анализа текста и воспитанного на вполне классических образцах поэзии, смущать не менее моих оппонентов. Этого, однако, почему-то не происходило. Я переходил на все его спектакли, пересмотрел все его фильмы, по сотне раз переслушал все его песни, перечитал большинство известных на то время его стихов и, конечно, знал и замечал в них и сильные стороны его таланта, и, так сказать, творческие неудачи.
Далеко не во всех спорах рождается истина, и то, что родилось в нашей тогдашней перепалке, тоже, может быть, далеко не бесспорно, но в результате немалых дебатов и препирательств пришли мы тогда вот к какому довольно широкому обобщению: мера любви определяется не столько перечнем достоинств её предмета, сколько тем, как много мы готовы ему простить. То есть любовь – это акт веры, покрывающей тот самый разрыв, который всегда существует между идеалом и его реальным воплощением, будь то любимый актёр, любимая книга или просто – любимый или любимая. Другими словами, любовь – парадоксальна, поскольку она всегда не столько «за то, что», сколько «несмотря на то, что», а значит, в ней неизбежно наличествует и акт веры, свободного личного и ответственного выбора.
* * *
Именно такой образец любви являет нам Своей жизнью и Своей крестной смертью Христос: «Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками».184 Заметим, что умер Он не за то, что мы обладаем185 какими-то качествами и свойствами, достойными Его любви и жертвы, а, как раз, несмотря на то, что мы безнадёжно их лишены. Разговор о вере и неверии человека в Бога оборачивается, таким образом, своей, может быть, отчасти неожиданной стороной – вопросом о вере Бога в человека. Ведь это Ему пришлось совершить акт веры, покрывающий разрыв между тем, что мы являем собой в реальности, и тем, ради чего Христу стоило принимать крестные мучения. Величину же этого разрыва каждый трезво относящийся к себе человек вполне себе представляет, а заблуждающимся на свой счёт стоит лишь обратиться к своим недругам, и завышенная самооценка сразу станет очевидной. «Цените своих врагов, – гласит древняя мудрость, – ибо они первыми замечают ваши недостатки». Настоящий друг, может быть, скорее умрёт за нас, чем доставит нам такую неприятность или разочарует нас в самих себе. Заметим, однако, что для этого истинному другу абсолютно необходимо любовью преодолеть в себе те сомнения и те разочарования, которые мы ему доставляем, – то есть актом свободной и личной веры.
Как часто христиане слышат от неверующих обвинения в безумии, в отвержении доводов разума и погружении во тьму иррациональных и бессмысленных предрассудков. И как часто верующий человек не находит ничего лучшего, как сокрушённо развести руками, слыша доводы, в свою очередь, кажущиеся ему в последней степени наивными и неразумными. Ну как объяснить человеку, в простоте душевной признающемуся вам, что он «не то, чтобы отрицал Бога, но просто не очень религиозен», что подобная попытка уйти от выбора, в свою очередь, является самым что ни на есть настоящим выбором?! Не признавать за Богом Его бытия и, соответственно, Его роли и места в жизни человека – как раз и значит отрицать Его, отказывать Ему в том, что Ему принадлежит по достоинству и по праву. Очевидно, не столько само по себе признание бытия Божия представляет собой затруднение для такого «рационального» человека, сколько тот самый существенный вывод, который из этого решения неизбежно вытекает: если Бог есть, то Он – Господь мой. Можно ещё более или менее безопасно для своей репутации в академических и деловых кругах заявить о своей готовности допустить существование «некоей высшей субстанции», но уступить этой «субстанции» господство над собой оказывается зачастую труднее, чем согласиться на логически совершенно невозможную «нерелигиозность». О таких, представляющих себе веру в Бога в качестве чего-то второстепенного и необязательного, Клайв Льюис писал: «Христианство, если оно ложно, не имеет значения, а если истинно, то имеет бесконечную важность, единственное, чем оно не может быть, – это умеренно важным».186
Но ведь живут же некоторые люди и не задумываются ни над какими богословскими вопросами. Просто растят детей, трудятся и отдыхают, зачастую вполне добропорядочно и как будто вполне благополучно, и, если никто не пристаёт к ним с навязчивыми проповедями, то так и умирают, не решив ни для себя, ни для других этой жизненной дилеммы. Мало того, именно устремлённость к благополучию и добропорядочности делает этих людей настолько занятыми и настолько поглощает всё их время и внимание, что для поисков ответов на все эти вопросы у них просто не доходят руки. Возможно ли вовсе обойтись без веры и, как это принято в естественно-научном обиходе, довольствоваться одними только фактами? А, может быть, дело только за тем, чтобы собрать достаточно свидетельств и фактов для приведения человека к желаемому выводу неминуемо и неизбежно, помимо всякого вмешательства его воли и исключая тем самым всякую необходимость в «человеческом факторе»? Казалось бы, да – ведь наука тем и занимается, что на основании достаточного количества фактов и свидетельств выводит законы, в свою очередь, действующие объективно и независимо от человеческого сознания.
Ни тот, ни другой (ни обывательский, ни высоконаучный) из приведённых обходных манёвров вокруг ключевого вопроса о вере не выдерживают серьёзной критики. Помнится, в старом фильме «Берегись автомобиля», эстонский пастор-Банионис говорит автомобильному воришке Деточкину-Смоктуновскому: «Все верят в Бога. Одни верят, что Он есть, другие – что Его нету». Так уж Он устроил этот мир, что третьего не дано, то есть перед нами то, что называется «бинарная оппозиция». Совершенно бессмысленны и оправдания типа «я ещё не готов уверовать» или «я – на пути к вере», ибо решение произносящим эти слова человеком, таким образом, уже принято, и по нему он уже сегодня (а не по окончании его земного пути) судим Богом. И это не беда, если человек подобно Фоме «неверующему» будет постоянно испытывать свою веру, ища ей всё новые утверждения и, тем самым, укрепляясь в ней. Беда, если он подобно Иуде, отвергнет Христа, ища оправдания своему неверию в каком-то ином «благе»: будь то тленное материальное богатство или не менее тленная земная слава.
В разных людях и в разных жизненных обстоятельствах различные составляющие душевной деятельности человека (разум, чувства, воля) проявляются в различной мере и степени с преобладанием той или иной из них за счёт относительного ослабления других. Отсюда, очевидно, происходит и то великое многообразие человеческих характеров и личностей наряду с объединяющей всех людей потребностью в вере. Одни приходят к вере в Бога, восхищённо слушая «Литургию» Рахманинова, другие – критически исследуя философию Декарта, третьи – не видя и не слыша ничего, кроме подавляющего личного горя или всеобъемлющей радости, четвёртые – да просто, что называется, за компанию!
* * *
Однажды мне показалось интересным и потенциально полезным собрать воедино все известные мне «доказательства» бытия Божия, чтобы при случае предлагать сразу весь перечень ищущему веры в Бога человеку, желающему, подобно персонажу из старой доброй комедии, чтобы я «огласил весь список». Слово «доказательство» по понятным, я думаю, причинам взято мною в кавычки, ибо никакой стопроцентно действующей формулы, в которую можно было вставить свои личные параметры и на выходе получить верующего человека, как только что было показано, в принципе, быть не может. На протяжении истории человечества, однако, подобные попытки предпринимались неоднократно и многим людям, по-видимому, помогали, по крайней мере, соотнести свой собственный духовный поиск с его выдающимися и малоизвестными образцами. Более точно следовало бы, конечно, называть эти доказательства свидетельствами в пользу веры в Бога, но в обиход вошло именно это латинское «argumentum», со времён средневековья употреблявшееся в таких случаях. Не претендуя на полноту и систематичность, это собрание доказательств, тем не менее, обладает некоторой ценностью ввиду того, какую они могут сыграть в духовном пути различных аудиторий и отдельных людей роль. Например:
− первого шага на пути к вере;
− последнего недостающего фактора на этом пути;
− снятия предрассудочных преград;
− расширения кругозора в область духовного и божественного;
− оснащения оружием защиты веры от нападок;
− оснащения инструментом миссии;
− укрепления в вере;
– гимнастики и дисциплины ума.
Начал я с 20 доказательств, приведённых в одном из моих семинарских учебников187, но список этот, естественно, со временем редактировался, пополнялся188 и на сегодня выглядит следующим образом:
Доказательство 1-е (Фома Аквинский, классическое): движение
В природе происходит движение. Ничто не может начать двигаться и изменяться само по себе, для этого требуется внешний источник действия. Следовательно, должно существовать нечто внешнее по отношению к постоянно изменяющейся и движущейся вселенной, являющееся первоначальным источником всякого движения, не будучи само по себе движимо ничем иным. Это и есть Бог – недвижимый Движитель.
Иными словами, если бы не существовало ничего помимо материальной вселенной, то не существовало бы и того, что привело её в движение. Но она движется и изменяется. Следовательно, существует нечто внешнее по отношению к пространству, времени и материи, приводящее вселенную в движение.
Доказательство 2-е (Фома Аквинский, классическое): причинно-следственное
Каждое следствие имеет внешнюю причину, которой оно обязано самим своим бытием. Вселенная существует, следовательно, помимо неё, существует причина, которой она обязана своим существованием и бытие которой не нуждается в причинности. Эта «беспричинная причина», первопричина всего последующего, и есть Бог.
Иными словами, кроме всего сущего есть лишь небытие. Небытие не может быть причиной бытия. Следовательно помимо всего сущего должно также существовать нечто, не нуждающееся для своего бытия в какой-либо причине, но способное быть причиной для существования всего сущего.
Доказательство 3-е (Фома Аквинский, классическое): независимое бытие
Поскольку все предметы мира могут быть или не быть, то рано или поздно в бесконечности времени они перестали бы существовать. Однако, судя по тому, что мир существует, должно существовать нечто, существующее непременно, независимое в своём бытии, и благодаря которому существует и всё остальное во вселенной. Это абсолютно независимое и совершенно самодостаточное и есть Бог.
Иными словами, мы наблюдаем, что всё в этом мире появляется и исчезает со временем, то есть обладает качеством «небытия». Если и когда это качество со временем реализуется, то всё сущее перестаёт быть. Это небытие не может породить бытие, а, поскольку вселенная существует, значит она была порождена тем, что по самой своей природе обладает качеством бытия, т.е., не может не быть.
Доказательство 4-е (Фома Аквинский, классическое): совершенство
В окружающем мире наблюдается последовательное иерархическое возрастание качества и сложности строения явлений, предметов и существ (например, от насекомого до человека), всеобщее стремление к совершенству и полноте бытия. Следовательно, должно существовать нечто абсолютно совершенное, являющееся источником бытия и образцом всякого совершенства. Это и есть Бог.
Иными словами, высшая степень обладания качествами добра, ума, красоты и т.д., которые мы признаём идеалами и полнотой бытия, необходимо требуют и существование обладателя всеми этими качествами в совершенной степени и полноте, т.е. Бога.
Доказательство 5-е (Фома Аквинский, классическое): телеологическое
В окружающем мире наблюдается определённый, целенаправленный на поддержание жизни порядок и стройность, происхождение которых невозможно приписать самому миру. Этот порядок заставляет предположить существование некоего разумного организующего начала, провиденциально установившего этот порядок согласно своему всевышнему замыслу. Это начало и есть Бог.
Иными словами, попытка сложнейшую гармонию мира объяснить в конечном итоге случайным стечением множества непредсказуемых факторов равна отказу от признания его осмысленности и, следовательно, вообще, от возможности понимания природы, настоящего состояния и предназначения жизни. Следовательно, приходится согласиться, что миропорядок был предустановлен высшим разумом в соответствии с его замыслом и волей.189
Доказательство 6-е (Иммануил Кант): нравственное
Всем людям свойственно нравственное чувство/убеждение, категорический императив. Поскольку это чувство не всегда побуждает человека к поступкам, приносящим ему земную пользу, следовательно, должна существовать некоторая норма нравственного поведения, лежащая вне этого мира. Всё это с необходимостью требует существования бессмертия, высшего суда и Бога, учреждающего и утверждающего нравственность, награждая добро и наказывая зло.
Или, словами самого Канта: «Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом: звёздное небо над головой и нравственное чувство внутри».190
Доказательство 7-е (Августин, Кальвин): врождённая идея
Всякий нормальный человек рождается с идеей о Боге, внедрённой в само его сознание, хотя эта идея и бывает подавлена или извращена в людях неправедных. По мере роста человек всё яснее осознаёт её. Критические жизненные ситуации зачастую побуждают человека к её осознанию, осмыслению и принятию (или отвержению). Этой идее о Боге должна соответствовать и реальность Его бытия.
Иными словами, ощущение верности идеи о Боге уже присуще человеку от рождения, и сам этот факт свидетельствует о бытии Божием.
Доказательство 8-е (Апостол Павел): мистическое
Человеку свойствен прямой мистический контакт с Богом, приводящий его в экстатическое состояние. Этот опыт чудесного соединения, встречи с живым Богом настолько уникален и настолько ошеломляющ, что сам по себе уже является свидетельством бытия Божия.
Иными словами, чуда богоявления в жизни человека может оказаться вполне достаточно для его уверования в бытие Божие.191
Доказательство 9-е (Августин): истина
Искать ответа на вопрос о бытии Божьем имеет смысл, только исходя из того, что истина существует. Бог, по определению, является и Богом истины, и истинным Богом, а, следовательно, Он и есть Истина. Эта Истина с большой буквы является необходимым условием существования всякой другой истины, что, в свою очередь, означает и существование Бога.192
То есть, Пилат, задавая Христу вопрос об истине (Ин. 18:38), выражал своё сомнение в бытии Божием самому Богу. Только исходя из того, что истина (та или иная) существует, возможно спорить и о бытии Божием. А сам этот исходный постулат уже свидетельствует о Боге.
Доказательство 10-е (Ансельм): онтологическое
Существование в реальности более совершенно, чем лишь в сознании. Бог, по определению, есть высшая мера мыслимого совершенства. Если бы Бог существовал лишь в сознании, то можно было бы представить и нечто более совершенное, то есть не только мыслимое, но и существующее. Но, поскольку это невозможно, то Бог существует не только в сознании, но и в реальности.
Иными словами, человеку свойственно понятие о бесконечном и совершенном, а существование является обязательной и необходимой частью совершенства. Следовательно, бесконечное и совершенное – то есть, Бог – существует, постольку совершенство по определению и с необходимостью включает в себя и бытие.
Доказательство 11-е (Аристотель): от конечности
Человек осознаёт свою конечность, ограниченность и смертность. Откуда происходит это сознание? Бог постоянно напоминает ему об этом через Свою бесконечность, безграничность и бессмертие. То есть конечность человека сама по себе является доказательством существования бесконечного Бога.
Иными словами, само наше конечное земное существование являет нам образ бесконечного и вечного Бога и, следственно, свидетельство Его бытия.
Доказательство 12-е (Августин): от безутешности
Человек безутешен. Он жаждет благословения. Этой жаждой наделил его Сам Бог, чтобы человек нигде не мог найти утешения, пока не обратится к Богу. Присутствие этой жажды в человеке является косвенным доказательством бытия Божия.
Или, словами, самого Августина из его «Исповеди»: «Ты создал нас для Себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в Тебе».193
Доказательство 13-е (Беркли): от восприятия
Человек способен воспринимать (чувствовать) окружающие его предметы, что не может являться ни следствием каких-либо физических явлений (материя «пассивна»), ни волеизъявлением самого человека. Следовательно, эта человеческая способность к восприятию подразумевает существование Бога как единственного разумного объяснения этой способности.194
Доказательство 14-е: экзистенциальное
Бог являет Себя людям через Евангельское откровение − провозглашение Своей любви, прощения и оправдания человека. Человек, принявший это откровение, сразу узнаёт и Бога. Никакого иного свидетельства не требуется и быть не может. Бытие Божие не столько «доказывается», сколько «познаётся», и это познание не интеллектуально, а экзистенциально.
Иными словами, бытие Божие собственно и «доказывается» неверующему путём провозглашения Христова благовестия о Его любви, прощении и оправдании и его принятия Бога.
Доказательство 15-е: чудесное
Чудо – это явление, единственно объяснимое существованием и непосредственным сверхъестественным вмешательством Бога. Существует множество засвидетельствованных фактов чудесных событий. Следовательно, существует множество событий, единственным убедительным объяснением которых может быть существование и сверхъестественное вмешательство Бога. А, значит, Бог существует.
Иными словам, Бог являет Себя людям путём сверхъестественных событий в их жизни, деятельно участвуя в их жизни, вмешиваясь в ход человеческой истории, и тем самым доказывая Своё бытие.
Доказательство 16-е: интеллектуальное
Мы знаем, что мир устроен разумно познаваемым. Следовательно, либо и познаваемый мир, и наш познающий его разум являются продуктами чистой случайности, либо и то, и другое являются продуктами высшего интеллекта. Случайность нам представляется крайне маловероятной. Следовательно, и разумный мир, и сам разум являются порождением высшего разума, то есть Бога. Значит, Бог существует.
Иными словами, объяснение происхождения и устройства мира и нашего сознания счастливой случайностью является «интеллектуальным самоубийством», т.е., отказом от способности и возможности разумного познания мира и человека.
Доказательство 17-е (К.С. Льюис): от объекта
Каждому нашему естественному внутреннему желанию или стремлению соответствует реальный объект, способный это желание удовлетворить. Однако присутствует в нас и такое желание, которое не может быть удовлетворено ничем временным, ничем земным, ничем тварным. Следовательно, должно существовать нечто превосходящее всё временное, земное и природное. Это «нечто» люди и называют Богом и вечной жизнью с Ним.195
Иными словами, реальность Бога доказывается реальностью человеческого стремления к Нему.
Доказательство 18-е (о. Павел Флоренский): эстетическое
Музыка Баха, поэзия Пушкина, живопись Рублёва и т.д. существуют, следовательно, Бог есть.196
Иными словами, самые гениальные художники признаются в том, что они не сами сотворили свои шедевры, но они им были дарованы, открыты, явлены, ниспосланы, нашёптаны и т.д. свыше, а внимательному, тонко чувствующему и вдумчивому зрителю (читателю, слушателю и т.д.) в них раскрывается высшая гармония и мудрость, которая и есть Бог.
Доказательство 19-е: религиозное
В религии, культуре и искусстве множества людей разных времён и разных стран имеются свидетельства очень схожего опыта их общения с Божественным. Невозможно допустить, чтобы все они настолько одинаково ошибались в описании природы и содержания этого своего религиозного опыта. Следовательно, Божественное существует.
Иными словами, попытки объяснить схожесть духовного опыта разных времён и народов естественными факторами сталкиваются с необходимостью подтасовок и натяжек, в то время как объяснение его общностью самого этого религиозного опыта вполне логично и подтверждается свидетельствами их материальной и духовной культуры. Следовательно этот опыт истинен, и Бог на самом деле есть.
Доказательство 20-е (Секст Эмпирик): общественное
Вера в Бога – в верховное Существо, Которому по праву надлежит поклонение и прославление от всего сущего – является общей чертой истории и культуры практически всех народов мира. Невероятно, чтобы все эти люди были неправы относительно этого самого важного и значительного факта их жизни. Гораздо более вероятно, что они были правы, и, следовательно, Бог существует.197
Иными словами, легче допустить, что некоторые люди в течение некоторого времени ошибались по некоторым малозначительным вопросам, чем то, что большинство людей ошибалось в течение практически всей истории человечества по поводу самого главного в их жизни. А, поскольку атеизм является учением относительно недавним, исповедуется всего десятой частью человечества и не придаёт никакого серьёзного значение вере в Бога, то и доверять ему, конечно, не следует.
Доказательство 21-е: ставка Паскаля
Разумное доказательство существования Бога невозможно, однако то или иное решение о Его бытии-небытии каждый из нас принять вынужден. Если вы решите, что Бог есть («сделаете ставку на Бога»), то вы, во всяком случае, ничего не потеряете, даже если после вашей смерти окажется, что вы были неправы. Если же вы решите, что Его нет, и ошибётесь, то вас ждёт страшное наказание. Если вы, «поставив на Бога», выиграете, то получите всё, если проиграете, то не потеряете ничего, но, по крайней мере, проживёте жизнь порядочного человека. Следовательно, благоразумнее верить в Бога, чем не верить в него.198
Иными словами, «ставка на Бога» является беспроигрышной, а «ставка на безбожие» слишком велика, чтобы человек мог позволить себе ошибиться. Неверие слишком рискованно.
Доказательство 22-е: научно-историческое
Новый Завет является достоверным историческим источником, и описываемые в нём события и факты подтверждаются данными археологии, текстологии и палеографии; в нём описывается исторический факт боговоплощения – явления Бога людям во Христе. Значит, Бог есть.199
Иными словами, если мы, вообще, что-либо достоверно знаем из древней истории, то события земной жизни Христа нам известны из наиболее достоверных письменных источников и артефактов по критериям, выработанным и применяемым ко всем иным историческим событиям самой исторической наукой. Если мы отвергнем его, то нам придётся признать, что мы, вообще, ничего не знаем, а с этим не согласится ни один учёный. Следовательно, это свидетельство о Боге истинно, и Он есть.
Доказательство 23-е: сотериологическое
Жизни множества людей были спасительно преображены личностью Христа Бога. Значит, Бог есть.
Иными словами, свидетельство преображённых и спасённых Христом жизней – преступники стали святыми, трусы стали героями веры, грешники стали праведниками и т.д. – благодаря следованию за Христом является чудом, объяснимым лишь Его Божественностью.
Доказательство 24-е: личная встреча
В жизни людей происходит чудо личной встречи с живым Богом. Значит, Бог есть.
Иными словами, Бог сам жаждет встречи с каждым человеком и является в жизни разных людей под разными образами, в разных событиях или явлениях – зримыми и ощутимыми, во сне или наяву, под видом иного человека или в образе Христа, сокровенно или явно и т.д.
Доказательство 25-е (Перри Маршал): кибернетическое
Всё живое появляется на свет в соответствии со своим информационным генетическим кодом, который, следовательно, предшествует появлению самого организма; науке не известно никакого другого источника информационного кода, кроме разума, значит, всему живому предшествовал живой, разумный, могущественный Программист, т.е. Бог.
Иными словами, без кибернетического кода не была бы возможна жизнь, а любой известный науке информационный код является продуктом разумной деятельности. Следовательно и генетический код всего живого, включая человеческий, был создан разумом, очевидно, не человеческим и несравненно более могущественным, т.е. Богом. Учреждённая в 2019 году П. Маршаллом премия в размере 10 млн долларов за открытие нерукотворного кибернетического кода, который доказывал бы отсутствие необходимости в Боге-Творце, по-прежнему остаётся невостребованной.200
Доказательство 26-е: информационная матрица
Информационная матрица может оставаться неизменной при разрушении одного из её материальных носителей, что подтверждает возможность существования независимой от материального носителя души, следовательно, и высшего духовного Существа, то есть Бога201.
Иными словами, современная кибернетическая наука утверждает, что материя вовсе не является необходимым условием бытия духа как «функции головного мозга» и «продукта высокоорганизованной материей» и т.д., а, следовательно, духовная сущность – душа, Дух и Бог – вполне реальны.
Доказательство 27-е (Вольтер): образованность
Людям образованным Бог не нужен, но он очень нужен людям тёмным, чтобы они не зарезали своих хозяев; поскольку же всем людям свойственно в какие-то мгновения или периоды своей жизни терять, искажать или забывать знание, приобретённое образованием, то Бог нужен всем. Поэтому лучше считать, что Он есть.202
Иными словами, твёрдое представление о бытии Божием это то, благодаря чему человечество до сих пор не самоуничтожилось. А следовательно, его и следует придерживаться, хотя бы ради того, чтобы было кому в нём сомневаться.
Доказательство 28-е (С.Л. Франк): субъектное
Бог познаваем не как объект, а как субъект Его откровения человеку о Себе. Поскольку человек обретает это откровение, то Бог есть.203
Доказательство 29-е (Венедикт Ерофеев): от икоты
«Закон – он выше всех нас. Икота – выше всякого закона. И как поразила вас недавно внезапность её начала, так поразит вас ее конец, который вы, как смерть, не предскажете и не предотвратите: − двадцать две – четырнадцать − всё. И тишина. И в этой тишине ваше сердце вам говорит: она не исследуема, а мы – беспомощны. Мы начисто лишены всякой свободы воли, мы во власти произвола, которому нет имени и спасения от которого – тоже нет. Мы – дрожащие твари, а она – всесильна. Она, то есть Божья Десница, которая над всеми нами занесена и пред которой не хотят склонять головы только одни кретины и проходимцы. Он непостижим уму, а, следовательно, Он есть. Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный».204
Иными словами, Бог является человеку в сверхъестественном, личном, непосредственном, парадоксальном опыте смирения, из которого и вытекает утверждение Его бытия.
Доказательство 30-е (Р. Клаузиус): термодинамика
Вечное бытие противоречит второму началу термодинамики, согласно которому все звёзды во вселенной должны были бы давно погаснуть, а атомы распасться, если бы она существовала вечно. Следовательно, бытие всего сущего поддерживается извне – вечной, всемогущей и всеблагой (бытие = благо) силой, то есть Богом.
Иными словами, энтропия вселенной (необратимое рассеивание энергии) в бесконечности времени приводит к «максиму энтропии», «тепловой смерти» вселенной, а этого до сих пор не произошло, а значит вселенная конечна и своим бытием обязана внешней Силе.
Доказательство 31-е (Майкл. Дж. Бихи): креационистское
В природе существуют сложнейшие организмы, живые системы и органы, которые не могли бы развиться в целое из своих частей, которые функционально связаны друг с другом, то есть могли появиться только одновременно, по единому гармоничному замыслу, в свою очередь, «вписавшему» их в окружающую природу. Источником и «осуществителем» этого замысла может быть только Бог.205
Иными словами, «неупрощаемая сложность» (пример М.Дж. Бихи – жгутик бактерии кишечной палочки) биологических систем и организмов требует их сотворения согласно единому замыслу всемогущего Творца, т.е. Бога.
Доказательство 32-е: от гениальности
Большинство гениев науки, например, Нобелевских лауреатов и выдающихся научных деятелей от древности до современности, верили и верят в Бога, а они мудрее, чем простые смертные. Значит, Бог есть.206
Иными словами, поскольку мы признаём особые дары и таланты выдающихся людей, а они свидетельствуют о своей вере в Бога, то и в этом отношении они для нас должны представлять авторитет и источник мудрости.
Доказательство 33-е: от святости
На протяжении истории святым и праведникам Бог являлся непосредственно и в Своих откровениях о Себе. Стремление человека к чистоте и святости является свидетельством заложенного в него стремления к Богу, а значит, Бог есть.
Иными словами, авторитета личности, жизни и наследия святых и праведников достаточно для того, чтобы уверовать в Бога.
Доказательство 34-е: гуманистическое
Войны под религиозными лозунгами, составляющие абсолютное меньшинство войн в истории (121 из 1642), были менее кровопролитными, чем войны по политическим, идеологическим, экономическим и любым другим мотивам (9 млн. чел. из 443 млн. чел.). Следовательно, даже во времена конфликтов религия благотворна, и верить в Бога следует ради спасения жизни людей.207
Иными словами, вера в Бога даже во времена войн и катаклизмов спасала множество человеческих жизней, а атеизм приводил к массовым военным преступлениям и убийствам. Следовать за Богом и исполнять Его заповеди необходимо уже из чисто гуманистических соображений.
Доказательство 35-е (Дж. Тур): нанобиологическое
Невозможно ни представить себе, ни, тем более, создать условия, при которых клетка, её составляющие и её механизмы могли бы сложиться без участия внешнего могущественного и мудрого воздействия. Причём, чем более наука узнаёт о клетке, её составляющих и её механизмах, тем более могущественным и мудрым оказывается их создатель. Таким образом, нанобиология последовательно приближается к доказательству бытия Божия.208
Доказательство 36-е (Калям): от бесконечности
Всё, что появилось на свет, имело причину своего появления на свет. Вселенная появилась на свет, поскольку, если бы она была вечной, то бесконечная череда предшествующих настоящему моменту причин и следствий не могла бы, будучи бесконечной, привести к настоящему моменту. Однако настоящий момент наступил, следовательно, вселенная конечна, имеет начало и, значит, у вселенной была причина появления на свет, то есть Бог −Творец.
Иными словами, Бог есть потому, что вселенная не бесконечна, что доказывается наступлением настоящего момента времени, который был бы невозможен, если бы ему предшествовала бесконечность, поскольку бесконечная череда причинно-следственных связей не может осуществиться даже в бесконечном времени.209
Доказательство 37-е: от личного доверия
Человек, которому я доверяю, говорит, что Бог есть. Значит, Бог есть.
Иными словами, важна не столько вера в бытие Божие, сколько доверие к Нему, а внушить такое доверие может свидетельство близкого, любимого и доверенного человека, друга, родителей или другого авторитетного лица.
Доказательство 38-е: от сакрального текста
В Библии написано, что Бог есть. Значит, Бог есть.
Иными словами, если я уже верю в Библию, как Слово Божие, как священный и сакральный текст (Sola Scriptura), а в ней описывается история взаимоотношений между человеком и Богом, то Бог, конечно, есть.
Доказательство 39-е: модальная логика
Бог по определению сущий, то есть необходимо обладает свойством бытия. Его невозможно представить ни несуществующим, ни зависимым в Своём бытии от каких-либо условий – это было бы абсурдом.
1. Бог либо существует, либо нет.
2. Бог не может ни обрести бытие, ни его потерять.
3. Если Бог есть, то Он не может перестать быть.
4. Следовательно, если Бог есть, то Он есть необходимо.
5. Если Бог не существует, то Он не может начать существовать.
6. Следовательно, если Бога нет, то Его бытие невозможно.
7. Следовательно, бытие Божие либо необходимо, либо невозможно.
8. Однако бытие Божие невозможно, лишь если понятие Бога внутренне противоречиво.
9. Понятие Бога не является внутренне противоречивым.
10. Следовательно, бытие Божие не является невозможным.
11. Следовательно, исходя из пунктов 7 и 10, бытие Божие необходимо.
Доказательство 40-е: от красоты природы
В окружающей природе присутствует красота, не объяснимая законами самой природы и не сотворённая самим человеком, но воспринимаемая им как красота и гармония. Значит, и эта красота, и способность человека её воспринимать сотворены первоисточником красоты, то есть Богом. Следовательно, Он есть.
Иными словами, невозможно поверить в то, что природная красота совершенно случайно совпала с представлением человека о гармонии природы. Следовательно, и то и другое являются взаимодополняющими частями единого Божественного замысла. А значит Бог есть.
Доказательство 41-е: от мучеников
Свидетельство сонма мучеников, страстотерпцев и исповедников веры, не пожалевших самой своей жизни для свидетельства о Боге, служит достаточным доказательством Его бытия и истинности.
Иными словами, многочисленные подвиги веры в Бога, позволившей мученикам за неё не отступиться от Христа перед лицом страданий и смерти является ярчайшим свидетельством её истинности, а, следовательно, и бытия Божия.
Доказательство 42-е: антропный принцип
Вселенная точно настроена для существования жизни, а, следовательно, её «Настройщик» сотворил её ради человека, способного свободно избрать прославление своего Творца. Значит, Бог есть.
Доказательство 43-е: кумулятивное
Ни одно из доказательств бытия Божия не является достаточным и окончательным, но все вместе они представляют достаточно оснований для веры в Его бытие.
Иными словами, разные доказательства бытия Божия призваны рассмотреть этот вопрос с разных сторон и, благодаря этому, способны составить у человека более полное представление о том, насколько бытие Божие может считаться фактом обоснованным и истинным.
Доказательство 44-е (Д. Кларк): от атеизма
Критика веры в Бога со стороны атеистов настолько несостоятельна и неубедительна, что вера в Него представляется более обоснованной и оправданной.210
Доказательство 45-е: политическое
Политика двух государств, построенных на атеистической идеологии (Китай и СССР), стала причиной самой массовой гибели населения – собственного и других государств – за всю историю человечества. Чтобы избежать этого в будущем, государствам следует поощрять религиозную веру и строить свою политику, исходя из бытия Божия и Его участия в жизни мира.
Иными словами, бытие Божие доказывается тем, что отступление от веры в Него в государственной политике, оборачивается гибелью и страданием множества граждан, как самой этой страны, так и её соседей.
Доказательство 46-е: прагматическое
Законы Божьи действительно работают, исполнение Его заповедей на самом деле выгодно, молитвы и посты реально помогают – следовательно, Бог есть.
Иными словами, если следование за Богом даёт положительные результаты, то неверие в Него, напротив, просто не практично.
Доказательство 47-е (М.А. Булгаков): творческое
Единственное и истинное свидетельство бытия Божия возможно лишь как результат вдохновенного прозрения художника, творческого акта, «угадывания», а не доказательства.211
Доказательство 48-е: церковное
Церковь свидетельствует об истинности веры красотой и богатством своего духовного и богослужебного опыта, накопленного, осмысленного, сохранённого и переданного нам её Священным Писанием.
Иными словами, авторитета церкви, освящённого тысячелетиями апостольской преемственности и традиции, достаточно для утверждения в её вероучении, которое проповедует бытие Божие.
Доказательство 49-е: терапевтическое
Благодаря вере в Бога, участию в богослужениях, исполнению предписываемых вероучением аскетических практик (постов, паломничеств), участию в благотворительных мероприятиях и внесению пожертвований человек чувствует себя лучше, возвышеннее и духовнее, значит, что-то такое есть, и это, наверное, Бог212.
Иными словами сама религиозная практика и регулярное следование ей убеждает человека в бытии Божием.
Доказательство 50-е, предрассудочное: от магии
Благодаря вере в Бога, участию в богослужениях, исполнению предписываемых вероучением аскетических практик (постов, медитаций), участию в благотворительных мероприятиях и внесению пожертвований, у человека налаживается жизнь, ему везёт, у него всё получается, значит, что-то такое есть, и это, наверное, Бог.
Иными словами, раз существует какая-то связь и зависимость между исполнением определённых религиозных требований и обрядов и удачей (счастливой случайностью), значит за этим стоит некая могущественная и благожелательная сила, т.е., Бог.
Доказательство 51-е (Тертуллиан): от абсурдности
«Верую, ибо абсурдно», точнее, «Сын Божий пригвождён ко кресту; я не стыжусь этого, потому что этого должно стыдиться. Сын Божий и умер; это вполне вероятно, потому что это безумно. Он погребён и воскрес; это достоверно, потому что это невозможно».213
Иными словами, христианская вера зиждется не на очевидном и доказуемом, т.е. доступном человеческой мудрости и, вообще, способности к осмыслению явлений, а именно на божественном, и потому заведомо невозможном, чудесном и абсурдном.
Доказательство 52-е: астрономическое
В обозримой вселенной астрономами не найдено ни единой планетарной системы, способной поддерживать органическую жизнь. Следовательно, человечество уникально и сотворено Творцом в соответствии с Его замыслом, известным нам из Священного Писания. Следовательно, Бог есть.
Иными словами, лучшим объяснением того факта, что только на Земле имеются условия для жизни, является бытие Божие и Его замысел творения.
Доказательство 53-е: за неимением лучшего
Бытие Божие признаётся, за неимением лучшего обоснования бытия мира и человека, как обладающее наибольшей объяснительной силой, по сравнению со всеми другими теориями и гипотезами.
Иными словами, все иные, не признающие бытия Божия, мировоззренческие системы и теории, открытые и выработанные человечеством, обладают на сегодняшний меньшей способностью адекватного отражения действительности, чем исходящие из Его бытия.
Доказательство 54-е: пророческое
Из 2500 библейских пророчеств 2000 уже исполнились, а вероятность их случайного «совпадения» равна 1:102000. Следовательно, Библия – книга божественного происхождения, и, следовательно, Бог есть.214
Иными словами, Бог свидетельствует о Себе, раскрывая части Своего замысла о мире и человеке через Своих пророков и Священное Писание, чьи пророчества сбываются в истории человечества. Следовательно Он есть.
Доказательство 55-е: молитвенное
Клинические исследования подтверждают статистически значимое благотворное действие заступнической молитвы о пациентах Богу, а значит, Он есть.215
Иными словами, Бог свидетельствует о Себе, отвечая на молитвы и совершая исцеления по молитвам верующих в Него. Следовательно, Он есть.
Доказательство 56-е (Ч. Колсон): теория заговора
«Я знаю, что воскресение – [исторический] факт, и Уотергейт послужил для меня доказательством этого. Каким образом? Двенадцать человек свидетельствовали о том, что видели Христа, воскресшим из мёртвых, и потом в течение 40 лет провозглашали эту истину, ни разу от неё не отрёкшись. Каждый из них испытал побои, пытки, побиение камнями и тюремные заключения. Они не выдержали бы всего этого, если бы это было неправдой. В Уотергейтский [заговор] были замешаны двенадцать самых могущественных людей на земле – и они не смогли придерживаться лжи в течение трёх недель. И вы хотите сказать, что двенадцать апостолов смогли продолжать лгать в течение 40 лет? Это абсолютно невозможно».216
Иными словами, опираясь на опыт других заговорщиков, представляется совершенно невероятным, чтобы заговорщики-апостолы смогли ни разу не проболтаться о своём заговоре и не признаться в нём даже под пытками до самой своей смерти.
Доказательство 57-е: от случайности
Согласно убеждениям материалистов и других атеистов мир и человек были созданы благодаря «случайности». Таким образом, за ней признаются божественные качества: она всемогуща, она всеведуща (ей должны быть известны все законы мироздания), она вездесуща, она всеблага (ею сотворены законы морали и нравственности) и, следовательно, она достойна поклонения, то есть благодарного признания её величия. А значит, и материалисты верят в Бога, хотя и называют Его иначе.
Иными словами, не верить в Бога невозможно, но некоторым людям (в силу их падшести) по некоторым причинам (гордости) очень не хочется в этом признаться, чтобы избежать ответственности и осуждения избранного ими образа жизни, и поэтому они придумывают Ему какие-то менее обличающие их имена и названия (Слепой Случай, Матушка Природа, Само Собой и т.д.). Он от этого не перестаёт существовать и не перестаёт быть Господом.
Доказательство 58-е: квантовое
Наблюдение является неотъемлемым свойством реальности. Вселенная существует, поскольку наблюдается «абсолютным наблюдателем», то есть Богом, а значит, Он существует.
Иными словами, подобно тому, как при наблюдении квантового объекта происходит редукция его волновой функции, и он предстаёт как частица, окружающий мир материализуется в Его Божественном вúдении.
Доказательство 59-е: от свободы воли
Если бы Бога не было, и человек развился бы естественным путём, то он не обладал бы свободой воли и выбора. Однако человек стоит перед выбором признать Бога или отвергнуть Его, следовательно этой свободой наделил Его Бог Творец.
Иными словами, если за человеком не признаётся свободы выбора, то и вопрос о бытии Божием оказывается совершенно бессмысленным, как, впрочем, и любой другой вопрос, ибо ответы на них в таком случае являются лишь реакциями на некий биохимический процесс в его мозгу, т.е., происходящими без личного ответственного участия человека в принимаемом решении. Признание этого означало бы отрицание смысла, вообще, каких-либо вопросов и ответов. Однако, и данный, и другие вопросы-ответы представляются нам осмысленными.
Доказательство 60-е: сверхъестественные законы природы
Естественнонаучные законы существуют вне самой естественной, материальной природы, то есть вне времени и пространства. Они сверхъестественны, духовны, и, следовательно, духовный мир, руководящий процессами и явлениями материального мира реально существует. Это и есть Бог.217
Иначе говоря, человек, благодаря своей двойной, материально-духовной природе, имеет доступ к сверхъестественной природе естественнонаучных законов. Религия (от. лат. religare – восстановление связи) и есть механизм построения (восстановления) взаимоотношений между человеком и Законодателем мира, Богом.
Доказательство 61-е: промыслительное
Многие из ископаемых организмов обладали органами, совершенно не актуальными в условиях их существования, но действительно необходимыми данному виду через сотни поколений, когда эти условия радикально переменятся. Следовательно, они созданы промыслительно, то есть согласно Божественному замыслу.218
Иными словами, теорией эволюции невозможно объяснить происхождение организмов и их органов, опережающих возникновение условий их развития. Следовательно, они появились не «потому, что», а «для того, чтобы», т.е., по замыслу Божью, телеологически.
Доказательство 62-е: палеонтологическое
Присутствие неразложившихся мягких тканей в окаменелостях в практических всех стратах геологической колонны гораздо более соответствует библейской парадигме творения, чем эволюционной теории. Следовательно, всё живое было создано Богом, а значит, Он есть.219
Иными словами, самые современные палеонтологические открытия и, в частности, обнаружение в костных окаменелостях мягких тканей, доказывают несостоятельность дарвиновской гипотезы о происхождения видов и подтверждают тварность всего живого, и, как следствие, бытие Бога-Творца.
Доказательство 63-е: детское
Если Бога нет, то чья же это коровка?
Иными словами: если любому ребёнку ясно, что мир без Бога невозможен, значит, Он есть.220
Доказательство 64-е: юридическое
Мы осмысливаем мир и себя в этом мире в категориях юридических: законности и ответственности, преступления и наказания, вины и оправдания и т.д. Следовательно, как мир, так и мы в этом мире, не мыслимы ни без Законодателя, учредившего эти законы, ни без Судьи, следящего за их исполнением, то есть Бога.
Иными словами, как упорядоченность вселенной и следование ею «законам природы», так и сознание нами моральных законов и ответственность за их соблюдение, с необходимостью требуют бытия Того, Кто эти законы учредил, т.е. Бога Творца.
Доказательство 65-е: от Туринской плащаницы
Человечеству не известно никакого естественнонаучного объяснения происхождения этого артефакта 1-го столетия. Явление зримого образа крестных страданий Христа именно в эпоху доверия к высоким технологиям и наибольших сомнений в Его истинности является свидетельством Его бытия и благоволения.221
Иными словами, неслучайность явления этого технологически невозможного свидетельства именно в эпоху высоких технологий (и низких нравов) подтверждает не только само бытие Божие, но и Его продолжающееся деятельное участие в жизни сотворённого Им мира людей.
Доказательство 66-е (Дионисий Ареопагит): апофатическое
Подлинное богопознание возможно лишь как «путь отрицаний» или «познание Бога через незнание» методом исключения всех тварных атрибутов и аналогий через аскетический путь очищения, выражающийся в «отрешении» от всего сущего, «осязание Божества», созерцание нетварного Света, соединения с Богом, достижение обожения, которое и есть истинное познание Бога, осуществляемое без человеческих слов и понятий действием Самого Божества.222
Доказательство 67-е: Христос Воскрес!
Факт Христова воскресения из мёртвых, предсказанный как ветхозаветными пророками, так и Самим Христом, подтверждённый множеством независимых свидетелей, и которому несмотря на отчаянные старания как современников события, так и поколениям скептиков, не нашлось сколько-нибудь убедительного опровержения, с уверенностью провозглашает Божественность Христа. Следовательно Бог есть.
Иными словами, Свою Божественность Христос неопровержимо засвидетельствовал, совершив чудо Воскресения из мёртвых, и оставив о нём многочисленные и способные противостоять самой ожесточённой критике, документально подтверждённые достоверными источниками исторические данные. Он воистину воскрес, а, следовательно, обладает властью над жизнью и смертью, каковая по определению принадлежит только Богу.
Доказательство 68-е: любовь
Бог, не будучи ничем принуждаем, мог сотворить этот мир только из любви к Своему будущему творению, то есть не «потому что», а «для того, чтобы». Испытывая на себе эту Его любовь, человек приходит к выводу и о Его бытии.
Иными словами, «Мы узнали и поверили, что Бог нас любит. Бог есть любовь, и тот, кто пребывает в любви, пребывает в Боге, и Бог пребывает в нём».223
Доказательство 69-е: лингвистическое
Для объяснения происхождения вселенной и жизни атеисты неминуемо прибегают к возвратным глаголам типа «появилось», «образовалось», «зародилось» и т.д., тем самым признавая абсурдность самопроизвольного возникновения чего-то не бывшего. Несуществующее не может породить сущее, в т.ч. самоё себя.
Иными словами, возвратная частица «-ся» (-сь) в глаголах «появляться», «образоваться», «зарождаться» и т.д. неизбежно подразумевает, что нечто «появило» самоё себя, «образовало» самоё себя, «зародило» самоё себя, ещё не будучи самим собой. А это абсурд.
Доказательство 70-е: нигилистическое
Отрицать бытие Божие невозможно по двум причинам. Для этого необходимо либо знать всё на свете и нигде, никогда и ни при каких обстоятельствах Его не обнаружить. Либо необходимо доказать, что Его бытие невозможно в принципе, т.е., что даже если бы Его явление было явно, достоверно и очевидно, этот факт всё равно пришлось бы категорически отрицать. Первое (всезнание) недостижимо, второе (отрицание очевидного) абсурдно. Следовательно, с, как минимум, возможностью Его бытия приходится согласиться.
Иными словами атеизм может претендовать лишь на несогласие с бытием Божьим, но не допускать Его бытия у него нет достаточных оснований.
Доказательство 71-е: агностическое
Утверждение агностиков о невозможности познания Бога, во-первых, не исключает Его бытия, и, во-вторых, само по себе уже является ответом на Его поиск человеком и естественное стремление человека к богопознанию, т.е. подтверждает Его насущность и, следственно, реальность.
Иными словами, агностический уход от решения о бытии Божием прямо свидетельствует как о необходимости такового решения, так и о наличии самого «предмета» этого незнания, т.е. Бога.
Доказательство 72-е: от недоказуемости
И вера, и неверие в Бога являются следствием личного выбора, а не результатом научных наблюдений и логических доказательств. Недоказуемость Его бытия свидетельствует о свободе человека в этом вопросе, которая возможна лишь при условии его тварности, а не материалистического эволюционного развития.224
Или, словами Умберто Эко, невозможно «не веровать в Бога и утверждать, что его существование недоказуемо, и в то же время веровать в не-существование Бога и утверждать, что оно-то доказуемо».225
Доказательство 73-е: от очевидности
Всё на свете либо очевидно, либо сомнительно. Бытие Божие самоочевидно, несомненно и не требует никаких дополнительных свидетельств или доказательств. Сомнительным и подозрительным было бы как раз Его отсутствие.
Иными словами, сомнения и вопросы о бытии Божием искусственны, надуманны и, следовательно, праздны.
Доказательство 74-е (М. Эпштейн): от субъектности
Подобно тому, как за миром объектным, великим множеством «что» раскрывается единство материи и законов природы, должно быть и некое предельное «кто» в мире субъектов – Первосубъект, Сверхсубъект, Абсолютная Личность, Перволичность, в обыденном языке именуемый Богом, т.е. «Кто» (с большой буквы), Личность как условие и предпосылка личностности как таковой.
Или, словами М. Эпштейна: «Без Бога никто не мог бы вступать в отношение с собой, сказать о себе “я”, – не было бы того внутреннего пространства и времени внутри нас, которое заполнено бытием субъекта. Без Бога были бы только «они»: тела, объекты, их взаимодействия».226
Доказательство 75-е (М. Эпштейн): технотеистическое
Если в древности человек был вынужден просто поверить во всемогущество слова, бессмертие души, семь дней творения и т.д., то современные научные знания – о ДНК и компьютерных языках, нерушимости информационной матрицы и теории «Большого Взрыва» и т.д. – делают представление о Боге более достоверным и обоснованным.
«Чем превосходнее ум, тем больше он способен признать превосходство над собой другого ума. […] По мере того как возрастает человеческое могущество, способность творить искусственный разум и менять пути эволюции, мы начинаем осознавать и высшую степень могущества, Сотворившего нас самих»,227 т.е. Бога.
Доказательство 76-е (М. Бубер): от 2-го лица
Бог познаётся только в живом акте любви и общении с Ним, т.е. в обращении к Нему «на ты» как к живому и присутствующему, а, следовательно, реально существующему.
Или, словами Мартина Бубера: «Любовь есть ответственность Я за Ты; здесь имеет место то, чего не может быть ни в каком чувстве, а именно равенство всех любящих, от самого малого до самого великого и от человека, защищенного блаженством включения в жизнь любимого существа, до Того, Кто на всю жизнь распят на кресте мира, Кто совершил чудовищно немыслимое и рискнул – Кто отважился любить людей».228
Доказательство 77-е (Палама): от божественного света:
1. сущность непознаваема, а Бог ещё и пресуществен
2. однако Бог причастен твари в её проявлениях, энергиях, сонаправленных Божественным, и совместное действие (синергия) в деле спасения усвояет Бога человеку и человека Богу
3. «через непрестанное моление [человек] прилепляется к Богу» и «при неизреченном посещении усовершающих озарений обретает боготворящее общение Духа» (Г.П.)
Или, словами Григория Паламы: «Человеческий ум, когда становится подобен ангелам бесстрастием, […] тоже может прикоснуться к Божьему свету и удостоиться сверхприродного богоявления, сущности Божией, конечно, не видя, но Бога в Его божественном проявлении, соразмерном человеческой способности видеть, видя».229
Доказательство 78-е: от сновидений
Явление Христа во сне множеству мусульман (в т.ч. номинальных), согласно вере которых сон считается собратом смерти и малой смертью, а во время сна душа покидает тело и временно входит во владения Аллаха, приводит их к вере в Него как своего Господа, Спасителя и Бога.230
Иными словами, свидетельство сновидений в некоторых культурах оказывается достаточно авторитетным и убедительным доводом для признания божественности Христа и истинности веры в Него.
Доказательство 79-е (Клайв Льюис): от раскаяния
Испытываемые человеком угрызения совести и чувство личной ответственности за совершаемое зло открывают ему глаза на милостивого Бога, способного простить его греховные поступки и решения.
Иными словами, только путём признания своей греховности и искреннего покаяния возможно обрести откровение о Боге. Или, словами, К. Льюиса: «Когда вы знаете, что больны, вы прислушиваетесь к врачу. Когда вы поймёте, что ваше положение безвыходно, вы начнёте понимать, о чём говорят христиане».231
Доказательство 80-е (Лейбниц): теодицея
Основанием для отрицания Бога является «проблема зла»: поскольку зло присутствует в мир, то Бог либо не всемогущ, либо не всеведущ, либо не вездесущ, либо не всеблаг, либо не существует. Христианская теодицея (от греч. «богоправдание») – Бог создал человека свободным и нравственным, т.е. творящим зло и осуждающим зло – снимает это противоречие.232
Иными словами, будучи Личностью нравственной и свободной и создав человека по Своему образу и подобию, т.е., тоже свободным и нравственным, Бог тем самым допустил возможность зла в мире, альтернативой которому может быть либо неживой мир, либо небытие (и того, и другого во вселенной предостаточно). Следовательно, это – лучший из возможных миров, и присутствие в нём зла не отрицает бытия Божия, а, наоборот, подтверждает его.
Доказательство 81-е (Ириней Лионский): теозис
Земные, материальные и конечные цели человеческого бытия не достойны тех усилий, которые для их достижения приходится прилагать, и страданий (земных и вечных), которые ради них приходится испытывать. Без Бога жизнь человека несчастна и бессмысленна. Только в обóжении (теозисе) человек обретает цель и осмысление своего собственного бытия. Следовательно, признание бытия Божия необходимо человеку для оправдания своего существования и обретения смысла жизни.
Или, словами св. Иринея Лионского : «Сын Божий стал сыном человеческим для того, чтобы человек сделался сыном Божиим».233 Только вера во Христа, Бога и Человека, позволяет ответить на вопрос «зачем?» – ради достижения человеком обожения, «последней, заключительной стадии человеческой природы» (Иустин Попович).234
* * *
Этот мой список ни в коем случае не является ни исчерпывающим, ни даже сколько-нибудь систематизированным и, конечно, может быть дополнен опытом множества людей и людских сообществ. Мне самому он, однако, помог сделать одно важное наблюдение, когда я предлагал его в разное время и в разных обстоятельствах разным группам людей с просьбой отметить в перечне три самых убедительных и три самых неубедительных, с их точки зрения, «доказательства». Этот, соглашусь, далёкий от лабораторной чистоты эксперимент выдавал, тем не менее, довольно устойчивый результат: те, кому нравилась одна группа «доказательств», на дух не переносили другую, а те, кому нравилась другая группа, последовательно отвергали первую. Сами группы варьировались довольно широко по возрасту, образовательному уровню и другим социокультурным факторам: в молодёжном православном лагере они были, например, совсем иными, чем на курсах повышения квалификации учителей-гуманитариев. Однако контрастность мнений уже свидетельствовала о многом: не может быть и, видимо, не дóлжно искать какого-то единого, раз на всегда данного и стопроцентного средства или некоего универсального «разводного ключа», который подходил бы ко всем без исключения гайкам и болтикам человеческой личности. Только терпеливое, последовательное и ни в коем случае не навязчивое свидетельство о Боге не знающему о Нём или отвергающему Его человеку может привести, в конце концов, к тому, что … он на вас же обратит свои упрёки и даже, возможно, свой гнев. «Почему же вы мне сразу-то об этом не сказали и так долго ходили вокруг да около того единственного аргумента, который, на самом деле, важен и решает всё дело!» − этими или почти этими словами выразил один мой знакомый свою досаду и даже, как он признался, гнев на всех тех, кто в течение всей его на тот момент сорокалетней жизни, учёбы в школе и университете, множества семинаров, лекций и проповедей умудрился ни разу не рассказать ему сколько-нибудь толково о том, что новозаветные события, на самом деле, являются историческими, а сведения о них – исторически достоверными. У нас в семье было принято, когда речь заходила о чём-то маловажном или даже совершенно бессмысленном, с иронией и мнимой досадой восклицать: «Вот ведь, вчера бы помер – так бы никогда об этом и не узнал…» В ситуации с моим сорокалетним знакомым всё было с точностью до наоборот: умри он годом или даже днём раньше, и не случись ему столкнуться с тем свидетельством, которое именно для него оказалось решающим и определяющим, не только в продолжение его земной жизни, но и в жизни вечной потеря могла бы оказаться невосполнимой.
Другими словами, причиной неверия многих людей является не отсутствие вполне убедительных свидетельств и доводов, которые могли бы оказаться решающими в их духовном поиске, а невозможность, неумение или нежелание тех, кто этими свидетельствами и доводами располагает, поделиться ими с человеком. Благодаренье Богу, на невозможность – чисто техническую или какую-то ещё – мы можем списать лишь ничтожное число случаев, когда мы со своей стороны искренне хотели бы поделиться своей верой и сделали для этого всё от нас зависящее, но каким-то фатальным образом разговор этот никак не мог состояться.
* * *
В моей личной миссионерской практике, по крайней мере, гораздо чаще случается прямо противоположное, а именно, возможность поделиться своей верой возникает гораздо чаще, чем я как-то специально её ищу и нахожу, а порой и вовсе без каких-либо с моей стороны усилий. Всё, что мне остаётся – с благодарностью принять этот дар Божий и воспользоваться им по назначению.
Припоминаю ситуацию, когда от меня даже этого не потребовалось, и целая до краёв забитая лекционная аудитория услышала моё свидетельство веры абсолютно без моего ведома и даже желания. Я просто перепутал тему лекции. В тот день я должен был читать в двух разных университетах города одну лекцию по педагогике, и другую − об исторических основаниях христианской веры, но по ошибке (или, иначе сказать, провиденциально) открыл на своём ноутбуке вторую презентацию вместо первой. Не сразу, но до организаторов, очевидно, дошло, что приглашённый лектор читает студентам какой-то другой курс, и они мне стали из зала делать страшные глаза и знаки, которые я сослепу расценил как высшую степень одобрения – для многих моих аудиторий исторические свидетельства, и в самом деле, оказываются совершенно новыми и удивительными. По окончании пары им тоже не сразу удалось пробраться ко мне через плотную стену студентов, окруживших и долго донимавших меня своими вопросами. Только уже на кафедре, за чайком и печенюшками, коллеги со всей возможной деликатностью поинтересовались у меня, почему я вдруг решил изменить тему своего доклада, и мне пришлось совершенно искренне перед ними извиниться за происшедшее недоразумение. Лишь несколько позже, припоминая вопросы некоторых студентов, их лица и их глаза, я вдруг осознал, что, по крайней мере, кто-то из них сегодня услышал и обрёл для себя нечто, чрезвычайно важное и, может быть, решающее. А ведь я и не собирался, и не должен был в этот день читать им эту лекцию, и, обращаясь к ним, я принимал их за совсем других людей – аудиторию, ждавшую меня в совсем другом месте во второй половине дня. Эта «история про рассеянного профессора», конечно, скорее исключение, чем правило в моей лекционной практике, но сам тот факт, что мне дали провести презентацию до конца и потом за неё горячо благодарили, видимо, свидетельствует о том, что возможностей свидетельства и даже потребности в нём нам предоставляется гораздо больше, чем мы себе представляем.
* * *
Гораздо чаще верующий человек ищет себе оправдания в неумении как-то так деликатно и ненавязчиво подойти к этой тонкой материи и толково, но без занудства изложить то, что у него на сердце и на уме. Думается, что и это не случайно, ибо, как говорят, случайность – это псевдоним Бога, когда Он не хочет подписываться Своим собственным именем.235 Далеко не всякая оказия и отнюдь не любая ситуация располагает к такому разговору, и, может быть, медицинский принцип «не навреди» в неменьшей степени применим и уместен также и в отношении духовного здравоохранения. Расположить и настроить ум и сердце человека к слышанию и восприятию свидетельства мы сами, как правило, оказываемся не в состоянии, а потому, наверное, и заповедано верующему, как уже упоминалось, не всюду и везде, к месту и не к месту «отчитываться» в своей вере, но «быть всегда готовым дать отчёт в своём уповании с кротостью и благоговением». Стечением обстоятельств, ходом событий, встреч, размышлений и разговоров Господь создаёт и подготавливает в уме и сердце человека ту почву, в которую в должное время может быть посеяно и свидетельство о Нём Самом – личное, историческое, естественно-научное, мистическое, философское и т.д. Как человек на него отзовётся? Ожесточит ли свою душу, засушит и сгноит этот посев? Или позволит ему взрасти, окрепнуть и принести обильный плод? Это решение принадлежит слышащему, от свидетельствующего же зависит лишь готовность, то есть желание и способность этим свидетельством поделиться.
* * *
Описанному в самом начале этой книги случаю предшествовала ещё одна история, а именно, моего поступления в Джорданвилльскую Семинарию. В эту историю пока ещё ни один человек из тех, кому случилось её услышать, не поверил, хотя странного и сверхъестественного в ней содержится, мне кажется, ничуть не более. Если и стоило чему-то поистине дивиться в тот продувной сентябрьский день, когда мы с моей недавней знакомицей Машей Ш. ступили на святую Джорданвилльскую землю, так это – самой этой земле. Со струистого шоссе, по которому мы с ней приближались к закутанными в осеннюю пестрядь монастырским постройкам, открывался вид, требовавший немедленной перемены мысленного объектива на широкоугольник, а также полного отключения звука ради уже совершенно киношного эффекта сакрального безмолвия и затаённости. Проделав над собой эти нехитрые эволюции внимания, мы продолжали вдвигаться в расширившееся пространство кадра по мере того, как оно обволакивало и нас, и увязавшуюся за нами от самой автобусной остановки дворняжку с задумчивым выражением на морде, по-лошадиному утвердительно кивавшую в такт каждому своему шагу и каждой своей собачьей мысли, до которой, впрочем, нам с Машей не было никакого собачьего дела. Но поразительнее всего были, конечно, не эти сами по себе примечательные игры и фокусы изобретательного бытия, а подспудно присутствовавшее в них особое значение этого места, называемого Джорданвилль. Подсказать нам этот скрытый смысл, похоже, пытались со всех сторон на равном расстоянии окружавшие его погосты – русские, американские и общечеловеческие. Он же угадывался в нарочито неправильных изломах горизонта, разделявшего тут не, как ему полагается, небо и землю, а самую душу человеческую – на вполне дольнее и, наоборот, совершенно горнее. Одним словом, монастырь и он же – семинария, в которую мы с Машей приехали поступать на учёбу.
Понятно, что дали нам с ней от ворот поворот, ибо ни ей вписаться в жизнь и быт этой в остальном мужской обители, ни мне, едва ли ни полному на тот момент атеисту со вполне светским же набором привычек и взглядов на жизнь, влиться в бурсацко-монастырский уклад было решительно невозможно. Так, или почти так, мне и объявил своё высочайшее решение настоятель обители и ректор семинарии митрополит Лавр: дескать, тут не из безбожников делают верующих, а из верующих готовят священников. С чем и выставил за дверь. Мои жалкие аргументы, типа, а я, может, и уверую, как только хорошенько узнаю, во что, владыка даже не удостоил ответом, но пользу из этой первой аудиенции с ним я всё же извлёк. Так, например, я заметил в его глазах лёгкое разочарование, когда, вместо того, чтобы согбенно подойти к ручке за благословением, я, как мне казалось, вполне почтительно пожал ему протянутую руку и по своему интеллигентскому обыкновению осведомился, как, вообще, жизнь, и, в частности, как нравятся ему стоящие нынче погоды. Уже на следующий день, едва закончилась ранняя утреня, я предстал пред владыкой вновь – с тем же самым нижайшим прошением, но в гораздо более достойной момента позе. Не явив внешне ни малейшего удивления моей настойчивости, владыка на этот раз выдворил меня уже не сразу, но, впрочем, и не так, чтобы я опоздал на завтрак.
− Ну, допустим, вы уверуете и даже почувствуете призвание к священническому сану, – продолжил он как ни в чём не бывало нашу вчерашнюю беседу. – Шансов-то у вас всё равно никаких: ведь вы же были прежде женаты, а канон православной церкви запрещает рукоположение разведённых.
− Ага, – подумал я про себя. – Значит, вы, владыка, всё-таки внимательно просмотрели и мои документы, и мои заявления, и мою биографию!
Но это – про себя, а вслух я, нисколько не смутившись, предположил:
− Но разве не случалось в многовековой церковной истории прецедентов, когда от этого канонического правила приходилось отступить?
− Ну, почему же? В отдельных случаях и обстоятельствах, когда исключительная праведность и благочестие являли полное раскаяние и глубокую посвящённость кандидата духовному призванию, Церковь брала на себя такое дерзновение, – он на мгновение отвёл глаза несколько вправо и вверх, как бы перебирая в памяти имена и припоминая те самые особые обстоятельства.
− Ну вот! Значит дело моё не так уж безнадёжно! – радостно возопил я, но уже в следующее мгновение понял, что, кажется, отчасти поторопился, ибо взор настоятеля с очевидным усилием и неохотой вернулся откуда-то с предпоследнего яруса иконостаса и остановился на моём сияющем лике. На мгновение мне даже почудилось было, что он и в самом деле прикидывает, не выйдет ли из этого самодовольного сукина сына со временем какой-никакой святой отец. Но, во-первых, лишь на мгновение, и, во-вторых, только почудилось, и дверь за моей спиной была на этот раз прикрыта неторопливо, но плотно и с двойным проворотом ключа.
Явившись пред настоятелевы очи в третий раз на следующее же утро, я уже был почти уверен, что буду зачислен в бурсаки – настолько неожиданным показалось мне само согласие владыки на эту беседу. Правда, за прошедшие сутки успели произойти две знаменательнейшие встречи, о содержании которых, я уверен, владыка был осведомлён. Дело в том, что свалившись описанным ранее утром с неба в эту хранимую Богом обитель, не имея при себе никаких «верительных грамот» из прихода и не умеючи назвать ни единого имени в качестве поручителя или рекомендателя, я был, похоже, тут же причислен к чину кэгэбэшных шпионов, о чём косвенно свидетельствовала и сама моя неуёмная тяга к учёбе в Джорданвилле – пресловутом оплоте белогвардейского зарубежья и, следовательно, потенциально цэрэушной агентуры. Видимо, в качестве такового я и был познакомлен в тот день с одним из послушников, отличавшихся на эту бесовщину особым нюхом, до поступления в монастырь проведшим немалый срок в их злостном окружении. Ему-то я и выложил всю свою неловкую диспозицию: что вот, мол, ничего почти ни про Бога, ни про Церковь Его путём не знаю, но каким-то чудом я же был и крещён, и воспитан в православии, не иначе как молитвами деда, сельского священника-обновленца, расстрелянного в тридцать седьмом и… На этом месте я был прерван, история моя до третьего колена была выверена по составлявшимся и ведшимся, оказывается, в сём монастыре поминальникам всех за веру убиенных красной сатанинской властью, и чуть ли ни поздравлен в связи с этим обстоятельством. Надо сказать, что сам я себя действительно поздравил несколько позже, когда вышел уже поздним вечером под звёзды, щедро понатыканные по исподу небесной чаши, из тесненькой келейки о. Киприана, изливши в его глуховатые уши много всего ему ненужного, к случаю неуместного и к делу неподходящего. Соблюдая, однако, тайну этой моей собственной исповеди, скажу лишь, что дышать после этого в келейке святого старца было уже решительно нечем, и, если бы не его разрешительная молитва, распахнувшая двери и вынесшая меня вон, не испытать бы мне в жизни ни солоно-сладкой бурсацкой участи, ни горько-приторного иммигрантского счастья. Однако испытал и, думаю, именно вследствие облегчения души у отца-исповедника и именно вследствие моей неожиданной родственной причастности к лику невинных мучеников веры. Владыка Лавр, во всяком случае, смотрел на меня на следующее утро чуть-чуть будто бы благосклоннее и, вместо того, чтобы вытолкать взашей навязчивого просителя, только покивал сокрушённо и, ни слова не говоря, занёс руку для благословения, вписав тем самым в славную историю Джорданвиля строку о зачислении в семинаристы заведомого, как я теперь-то понимаю, невера и дремучего невежду в церковной и, уж тем более, монастырской жизни.
* * *
Миссионером меня впервые назвал в своём интервью прот. Андрей Дудченко.
Епископ Александр (Милеант), За сотни лет до Рождества Христова. Пророчества Ветхого Завета о Христе, www.pravmir.ru/za-sotni-let-do-rozhdestva-xristova-prorochestva-vetxogo-zaveta-o-xriste
Здесь и далее автор отдаёт предпочтение термину «богословие» в ущерб его латинскому синониму.
Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897, www.rg.ru/documents/ 2010/ 12/ 19/ obrstandart-site-dok.html
Воскресенский Александр Гаврилович. Родился в 1882 г., Орловская обл., с. Васильевское Свердловского р-на; священник. Проживал: Орловская обл., Ливенский р-н, с. Екатериновка. Арестован в 1937 г. Приговор: расстрелян. Источник: Книга памяти Орловской обл. – Общество «Мемориал». Жертвы политического террора в СССР, https://lists.memo.ru/d7/f336.htm#n1
И.С. Тургенев, Христос, цит. по www.az.lib.ru/t/turgenew_i_s/text_0920.shtml
The Newton Project, www.newtonproject.ox.ac.uk
Цит. по www.sedmitza.ru/text/2938730.html
Дон Байерли, Настигнут верой, FaithSearch International, Chaska, MN, USA, 2005. Материалы этой книги используются здесь и далее с любезного позволения её автора.
Клайв Льюис, Настигнут радостью, собрание сочинений, Фонд имени Александра Меня, 2006, т. 7, https://azbyka.ru/fiction/nastignut-radostyu
«Кто хочет говорить или слушать о Боге, тот должен знать, что не все, касательно Божества и Его домостроительства, невыразимо, но и не все удобовыразимо, не все непознаваемо, но и не все познаваемо» (Дионисий Ареопагит, Об именах Божиих, 1. Григорий Богослов, слово 31, Migne, s. gr. t. XXXVI, coll. 156–157. Перевод стр. 99−100) – Святой Иоанн Дамаскин Точное изложение Православной веры. Книга Первая. Глава 2. О том, что можно выражать словами и чего нельзя, что можно познавать и что превосходит познание.
«Следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание, а целеуказающий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить: к Богу!» – Религия и естествознание, Макс Планк. Доклад, прочитанный в мае 1937 года в Дерптском университете, https://pravoslavie.ru/1331.html
Ольга Седакова. Церковнославянский язык в русской культуре. Актовая лекция в Свято-Филаретовском Институте, 2 декабря 2004, www.pravmir.ru/cerkovnoslavyanskij-yazyk-v-russkoj-kulture
«Если на самом деле виды произошли друг от друга, постепенно развиваясь, то в таком случае, почему мы не сталкиваемся с бесчисленным количеством переходных форм? Почему в природе все на своих местах, а не в хаосе? Геология не смогла выдвинуть поэтапного процесса, не обнаружила переходных форм и, возможно, в будущем это будет самым веским аргументом против моей теории». – Ч. Дарвин, Происхождение видов. Раздел: Затруднения теории, цит. по https:// tech.wikireading.ru/ hMdG9EkI4o
«Разум! Разум! И клянут его, и хвалят. Но и те, кои клянут его, знают, что без разума ничего не поделаешь; и те, кои хвалят, видят, что он много городит никуда не годных вещей. И вере тоже без разума нельзя, но если пустить его сюда, как козла в огород, он тут много накуролесит; надо его в руки взять и в область веры его вводить надо, только всюду на привязи держать». – Феофан Затворник, святитель. Собрание писем. Из неопубликованного. – М., 2001, стр. 159, цит. по https://foma.ru/aleksej-osipov-bez-rassuzhdeniya-net-dobrodeteli.html
«Неверие веру известную роди… Иоанн на перси Слова возлеже, Фома же ребра осязати сподобися…Фома во огненная ребра руку Иисуса Христа Бога, не опалися осязанием. Души бо зловерство преложи на благоверие… О, доброе неверие Фомино, верных сердца в познание приведе» – Цветная Триодь.
«Человек – «венец природы» и «звучит гордо»,– это неоспоримо, но также неоспоримо, что он бывает мерзавцем, убийцей вождей пролетариата, предателем родины, изумительным лицемером, врагом рабочего класса, шпионом капиталистов, – в таковых его качествах он подлежит беспощадному уничтожению» – Максим Горький, Литературные забавы. 1934, http://gorkiy-lit.ru/gorkiy/articles/article-147.htm
«Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача» – И. В. Мичурин, «Итоги шестидесятилетних трудов по выведению новых сортов плодовых растений», изд. 3-е, Москва. 1934.
«И в самом деле, насколько жалкими и маленькими, насколько бессильными мы, люди, должны себе казаться, если вспомнить о том, что Земля, на которой мы живем, есть лишь мельчайшая пылинка в поистине бесконечном пространстве космоса, то есть фактически ничто, и насколько странным, с другой стороны, должно нам казаться то, что мы, крошечные существа на произвольно малой планете, в состоянии познать пусть не сущность, но хотя бы наличие и размеры элементарных кирпичиков всего огромного мироздания» – Макс Планк, Религия и естествознание, цит. по http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/PHIL2.HTM
«No design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference» – Dawkins, R., River out of Eden, Weidenfeld and Nicolswi, Chapter 4, 1995.
Лев Николаевич Толстой, Исповедь, цит. по http://az.lib.ru/t/tolstoj_lew_nikolaewich/text_0440.shtml
К. Э. Циолковский, цит. по А.Л. Чижевский Беседы с Циолковским, цит. по https://pub.wikireading.ru/22903
Телепрограмма «Тем временем» за 28 мая 2017 года: www.youtube.com/watch?v=M-poHIMB9cQ
Стихотворение «26 мая 1828 года», цит. по http://alexanderpushkin.ru/stikhi/17–26-maya-1828-stikhotvorenie-1828.html
Митрополиту Московскому Филарету Пушкин посвятил написанные полгода спустя (19 января 1930 года) знаменитые «Стансы»:
В часы забав иль праздной скуки,
Бывало, лире я моей
Вверял изнеженные звукиˆБезумства, лени и страстей.
Но и тогда струны лукавой
Невольно звон я прерывал,
Когда твой голос величавый
Меня внезапно поражал,
Я лил потоки слез нежданных,
И ранам совести моей
Твоих речей благоуханных
Отраден чистый был елей.
И ныне с высоты духовной
Мне руку простираешь ты,
И силой кроткой и любовной
Смиряешь буйные мечты.
Твоим огнем душа палимаˆОтвергла мрак земных сует,
И внемлет арфе СерафимаˆВ священном ужасе поэт.
Цит. по https://religion.wikireading.ru/224105
«Наш успех в христианской жизни зависит от того, как будем мы собственную нашу волю покорять Божьей воле. Чем искреннее будет наша покорность воле Божественной, тем обильнее сделается преуспеяние нашей христианской жизни» – Илиотропион или сообразование воли человеческой с Божественной волей. Митрополит Тобольский и всей Сибири Иоанн (Максимович). Библиотека Золотой Корабль, цит. по www.golden-ship.ru/load/bogoslovie/iliotropion/40–1–0–510
Antony Flew, There Is a God: How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind, HarperOne, 2009, www.litres.ru/audiobook/roy-vargeze/bog-est-kak-samyy-znamenityy-v-mire-ateist-izmenil-svoi-vzglya- 64855976
Христиане: 31,2%, мусульмане: 24,1%, индуисты и буддисты: 22%, иудаисты: 0,2%, другие религии: 6,5%, атеисты и агностики: 16%, Pew Research Center, Report April 5, 2017, The Changing Global Religious Landscape, www.pewforum.org/2017/04/05/the-changing-global-religious-landscape
Francis A. Schaeffer, The Complete Works of Francis A. Schaeffer: A Christian Worldview, vol. 1: A Christian View of Philosophy and Culture (Westchester, IL: Crossway Books, 1982), стр. 101 и далее
В. Соловьёв, Оправдание добра, цит. по А.В. Журавский, Очерки христианско-мусульманских отношений, СФИ, Москва, 2015, стр. 136–137 или https://litmir.club/br/?b=122661&p=61
Dialogical Apologetics: A Person Centered Approach To Christian Defense. Baker Books, 1993
Герман Наумович Фейн. Роман Л. Н. Толстого «Война и мир». Целостный анализ. Издательство «Просвещение», Москва, 1966.
Следует оговориться, что ввиду древности этих религий и их распространения преимущественно в устной традиции (рукописи во влажном климате юго-восточной Азии хранятся в открытом виде 15−20 лет), их учение представлено великим многообразием различных школ и направлений – от «почти христианских» до, по сути, совершенно атеистических – так что всегда найдётся какое-то из их ответвлений, в каком-то из своих аспектов не подпадающее даже под самое широкое их определение и описание.
Танах (Ветхий Завет), текст которого подтверждается, в частности, кумранскими рукописями (III век до Р.Х.). Мидраш – «пропуски» в Танахе (манускрипты III−XII в.в. по Р.Х.), Талмуд – раввинистическое учение на Танах (манускрипты III−VI в.в. по Р.Х.).
«…В отличие от других, наша цивилизация всегда многого ждала от своей памяти. Этому способствовало все – и наследие христианское, и наследие античное. Греки и латиняне, наши первые учителя, были народами-историографами. <…> Христианство исторично ещё и в другом смысле, быть может, более глубоком: судьба человечества – от грехопадения до Страшного суда – предстаёт в сознании христианства как некое долгое странствие, в котором судьба каждого человека, каждое индивидуальное «паломничество» является в свою очередь отражением; центральная ось всякого христианского размышления, великая драма греха и искупления, разворачивается во времени, то есть в истории». Марк Блок. Апология истории, https://royallib.com/book/blok_mark/apologiya_istorii.html
В чём новизна Нового Завета, проповедь ректора СФИ священника Георгия Кочеткова на Вечерне в канун Рождества Христова (Евр 1:1–12), январь 2018 года, www.ogkochetkov.ru/publikacii/detail/v-chem-novizna-novogo-zaveta
Прот. Александр Мень, Таинство. Слово. Образ, www.lib.ru/HRISTIAN/MEN/tso.txt
Митр. Антоний Сурожский, Слово после Рождества, 13 января 1985 года, цит. по www.mitras.ru/inname/in_23.htm
Прот. А. Шмеман. За жизнь мира. Нью-Йорк. 1983. стр. 100–101 или https://kateheo.ru/library/books-for-missionaries/za-zhizn-mira
«Христианство не выводится из философских споров о рождении Вселенной; оно – сокрушительное историческое событие, увенчавшее долгие века духовной подготовки. Это не система, в которую надо как-то втиснуть факт страдания; это − факт, с которым приходится считаться любым нашим системам». К.С. Льюис, «Боль», Изд: «SGP», Chicago, Russian Edition, 1987 или www.azbyka.ru/fiction/stradanie
«Христианство на самом деле является единственной из мировых религий, построенной исключительно на уникальном историческом утверждении. <…> Однако любой проницательный и скрупулёзный историк признает, что это утверждение совершенно не похоже на любое другое. И уж точно в нем нет никакого сходства со смутными фантазиями бездарных энтузиастов или ловкими махинациями беспринципных шарлатанов. Это отчёт людей, потерпевших сокрушительное поражение из-за смерти своего любимого Учителя, но через очень короткое время засвидетельствовавших непосредственный опыт Его живого присутствия вне гроба; и эти люди, как видно, готовы были пойти на лишения, тюремное заключение, пытки и смерть, но не отречься от этого опыта. Среди них и свидетельство человека, который не знал Иисуса до распятия и в прошлом преследовал последователей Иисуса, но тоже уверовал...». Дэвид Харт, Иллюзии атеистов. Христианская революция и её новомодные критики, Москва, Никея, 2001, стр. 33.
С.С. Аверинцев, Слово Божие и слово человеческое. Римские речи, https://knigi-online.org/ other/ page-10–19748-slovo-bozhie-i-slovo-chelovecheskoe-rimskie-rechi-sergei.html
Исх 3:14: «Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам».
Прот. А. Мень. Христианство. Лекция, прочитанная на открытии Православного университета 8 сентября 1990 г. в кн. Радостная весть. Москва, 1991, стр. 16, 19 или https://lib.ru/HRISTIAN/MEN/radvest0.txt
«Не принимайте моё учение просто из веры или из уважения ко мне. Подобно тому, как купец на базаре при покупке золота проверяет его: нагревает, плавит, режет − чтобы убедиться в его подлинности, так же проверяйте и моё учение, и только убедившись в его истинности, принимайте его!» Цит. по: Терентьев А.А. Буддизм. Энциклопедия религий под ред. А. П. Забияко, А. Н. Красникова, Е. С. Элбакян. Москва, Академический проект, 2008, стр. 203−212.
С.Л. Франк, Смысл жизни, гл. 5, цит. по: www.azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/smysl-zhizni/5
Святитель Иннокентий (Вениаминов), «Указание пути в Царство Небесное» (1833 г.), ч. 3, http://azbyka.ru/otechnik/Innokentij_Moskovskij/ukazanie-puti-v-tsarstvo-nebesnoe
Clay Jones, The Bibliographical Test Updated, Article ID: JAF4353, Christian Research Journal, volume 35, number 03 (2012), www.equip.org/article/the-bibliographical-test-updated
Alfred North Whitehead, Process and Reality, Free Press, 1979, p. 39, цит. по www.age-of-the-sage.org/philosophy/footnotes_plato.html
Андрей Десницкий, В поисках синтеза.
Протоиерей Александр Мень, Сын Человеческий, www.lib.ru/HRISTIAN/MEN/son.txt
Global Orthodox: www.gorthodox.com/news-item/novoe-issledovanie-turinskoj-plashanicy-novejshim-metodom-dokazalo-chto-ee-vozrast-dve-tysyachi-let
Цит. по Geisler, Norman and William Nix. A General Introduction to the Bible. Chicago: Moody Press, 1986. стр. 475.
Frederic G. Kenyon Our Bible and the Ancient Manuscripts, New York, Harper. 1958, 4th ed, стр. 55
Из-за проблем с разделением сур на аяты мусульмане насчитывают разное их количество – от 6204 до 6600, а, кроме того, никто точного подсчёта до сих пор не производил ввиду ограниченности доступа к этим артефактам со стороны их владельцев и хранителей.
Сура 24. Свет, 2-й аят: «Прелюбодейку и прелюбодея − каждого из них высеките сто раз. Пусть не овладевает вами жалость к ним ради религии Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. А свидетелями их наказания пусть будет группа верующих».
Гайслер Норман и Салиб Абдул, Сын свободной, Казань: Заман, 2002, стр. 260, www.answeringislam.org/russian/authors/geisler/answeringislam.html
А.Г. Дунаев, Рецензия на книгу: Carsten Peter Thiede. Jésus selon Matthieu: La nouvelle datation du papyrus Magdalen d’Oxford et l’origine des Évangiles. Examen et discussion des dernières objections scientifiques. P.: François-Xavier de Guibert, 1996, www.danuvius.orthodoxy.ru/Tiede.htm
Прот. Александр Мень, Библиологический словарь, собр. соч. в трех томах, СПб., 2002, https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/bibliologicheskij-slovar-tom-1/
См. подробнее: www.ancient-origins.net/news-history-archaeology/researchers-extract-papyrus-text-mummy-mask-oldest-bible-020172, а т.ж. www.christianitytoday.com/2018/05/mark-manuscript-earliest-not-first-century-fcm
Т. Костюкова, О. Воскресенский, К. Савченко, Т. Шапошникова: Основы православной культуры. 4 класс. Учебник. РИТМ. ФГОС. Дрофа. Москва, 2012, www.rosuchebnik.ru/product/osnovy-pravoslavnoy-kultury-4–5-klassy-uchebnik-424207
Lost Scriptures: Books that Did Not Make It into the New Testament, Bart Ehrman, Oxford Univ Prs, 2003.
Philip Jenkins, The Many Faces of Christ: The Thousand-Year Story of the Survival and Influence of the Lost Gospels, Basic Books, 2015.
Евангелие Петра, https://txt.drevle.ru/text/evangelie_petra-svencickaya
Свенцицкая И.С., Тайные писания первых христиан. М.: Политиздат, 1980 г., www.lib.ru/HRISTIAN/ATH/sv_tain.txt
Свенцицкая И., Скогорев А. Апокрифические сказания об Иисусе, Святом Семействе и Свидетелях Христовых, www.gumer.info/bogoslov_Buks/apokrif/Usp_Marii.php
«[Господь] и последняго милует, и первому угождает, и оному дает, и сему дарствует, и дела приемлет, и намерение целует, и деяние почитает, и предложение хвалит» – из огласительного слова св. Иоанна Златоуста на утрени в первый день Пасхи, www.azbyka.ru/bogosluzhenie/ triod_ tsvetnaya/ zvet00u.shtml
Б.М. Мецгер и Б.Д. Эрман, Текстология Нового Завета. Рукописная традиция, возникновение искажений и реконструкция оригинала. Пер. с англ. (Серия «Современная библеистика»), Москва, Издательство ББИ, 2013, www.pstgu.ru/download/1166096534.Tekstologia.pdf
Свенцицкая И.С., Раннее христианство: страницы истории. От общины к церкви, М., Изд-во политической литературы, 1989. с. 336, www.litmir.club/br/?b=95504
Высоцкий Владимир, Певец у микрофона, www.mychords.net/en/visotskiy/74379-vysockij-vladimir-pevec-u-mikrofona.html
Греч. ἄγγελος – вестник
Слово о пълку Игореве, Игоря сына Святъславля, внука Ольгова (оригинальный текст), www.azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/slovo-o-polku-igoreve/#1
Ф.Ф. Брюс, Свидетельства текстов Нового Завета, Фонд “Лютеранское наследие”, 2001, www.sbible.ru/books/brus02.htm
М.А. Булгаков, Мастер и Маргарита, Эксмо, 2016
Владимир Марцинковский, Достоверно ли Евангелие?: На основании первоисточников. Прага, 1926, 2-е издание, М.: Либрис, 1991, www.orthodoxbible.ru/articles.php?id =2&ysclid= m0ixwsjxft300954849
Джордж Эрнест Райт, Библейская археология, www.azbyka.ru/otechnik/Biblia/biblejskaja-arheologija-rajt
R. Steven Notley, Pontius Pilate. Sadist or Saint?, Biblical Archeology Review, vol 43 #4, Jul/Aug 2017 стр. 41−49, https://old.biblicalarchaeology.org/biblical-archaeology-review/43/4/4
Роман начинается эпизодом с незадачливым русским профессором в Америке, перепутавшим поезда по дороге на лекцию в университете соседнего города. В. Набоков, «Пнин», www.librebook.me/pnin/vol1/1
R. Steven Notley, op. cit. стр. 59.
Brother of Jesus Inscription is Authentic, Biblical Archeology Review, Jul-Aug 2012, стр. 26−33, 62, 64, www.biblicalarchaeology.org/daily/news/brother-of-jesus-proved-ancient-and-authentic
Иосиф Флавий, Иудейские древности, www.azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/iudeiskie_drevnosti
Lemaire A. Israel Antiquities Authority’s Report Deeply Flawed, цит. по Rahmani L .Y. A Catalogue of Jewish Ossuaries in the Collection of the State of Israel . Jerusalaim, 1999, стр . 293
Arutz Sheva Staff, Rare chalkstone vessel workshop discovered in Israel's north, www.israelnationalnews. com/News/News.aspx/233716
«Ещё один пример важности этих находок относится к 14 главе книги Бытия, которая в течение долгих лет считалась исторически ненадёжной. Победа Авраама над Кедорлаомером и месопотамскими царями считалась вымыслом, а пять городов Равнины (Содом, Гоморра, Адма, Севоим и Сигор) – легендарными.
В архивах Эблы, однако, были обнаружены ссылки на все эти пять городов, а на одной табличке они перечислены в том же порядке, что в книге Бытия 14. Содержание табличек отражает культуру патриархального периода и описывает – как и книга Бытия – процветание этой области до катастрофы, о которой повествуется в Быт. 19.» – Дж. Макдауэлл. Неоспоримые свидетельства. М, СП Соваминко 1992. www.azbyka.ru/otechnik/konfessii/neosporimye-svidetelstva
Иосиф Флавий, Иудейская война, гл. 9. См. т.ж. Have Sodom and Gomorrah Been Found?, Biblical Archaeology Review, 6:5, September/October 1980, www.baslibrary.org/biblical-archaeology-review/6/5/2
Biblical Sha’arayim: Khirbet Qeiyafa’s Second Gate Discovered, The two city gates at Biblical Sha’arayim, Robin Ngo, 01/05/2017, BAR, www.biblicalarchaeology.org/daily/biblical-sites-places/biblical-archaeology-sites/biblical-shaarayim-khirbet-qeiyafa-second-gate), а т.ж. Rejected! Qeiyafa’s Unlikely Second Gate, by Yosef Garfinkel, Saar Ganor and Joseph Baruch Silver, January/February 2017 BAR
Vassilios Tzaferis, “Crucifixion – The Archaeological Evidence,” Biblical Archaeology Review 9 (Jan/Feb 1985), стр. 44–53, или Вассилис Цаферис, Археологическое свидетельство распятия https://bogoslov.ru/article/645201?ysclid=m0iyuwmhc2175057222
Репродукция из книги фламандского филолога Юстуса Липсиуса De Cruce libri tres (1629), https://commons.m.wikimedia.org/wiki/File:Justus_Lipsius_Crux_Simplex_1629.jpg
А. ван Дейк. Христос на кресте. 1628–1630, www.museothyssen.org/en/collection/artists/dyck-anthony-van/christ-cross
Barbet, Pierre. Doctor at Calvary: The Passion of Our Lord Jesus Christ As Described by a Surgeon, New York: Image Books, 1963, а также Cross and the Shroud: A Medical Inquiry into the Crucifixion (Updated Edition), by Frederick T. Zugibe, Hardcover, 236 Pages, Published 1988, а также Zugibe, Frederick T. The Crucifixion Of Jesus: A Forensic Inquiry. – New York: M. Evans and Company, 2005
Санкт-Петербург, Эрмитаж, www.spbfoto.spb.ru/foto/details.php?image_id=1142
Прот. Ростислав (Снегирёв), Библейская археология, Москва, 2007, стр. 91, www.azbyka.ru/otechnik/Biblia/biblejskaja-arheologija-snigirev
Археология Евангелия (прот. Александр Тимофеев), www.pravmir.ru/archeologia-evangelia
Exclusive: Christ's Burial Place Exposed for First Time in Centuries, www. nationalgeographic. com/ culture/article/jesus-tomb-opened-church-holy-sepulchre
William M. Ramsey, St. Paul the Traveler and Roman Citizen, New York: G. Ptunam’s Sons, 1894, стр. 8 или William M. Ramsey, St. Paul the Traveler and Roman Citizen, Kregel Classics, 2001
Biblical Archeological Society. Digs, www.biblicalarchaeology.org/digs
Brad Macdonald, Has Eilat Mazar Discovered Archaeological Evidence of Isaiah the Prophet? – The Trumpet: February 21, 2018, www.thetrumpet.com/16947-has-eilat-mazar-discovered-archaeological-evidence-of-isaiah-the-prophet
Lawrence Mykytiuk, 30 People in the New Testament Confirmed, BAR volume 43, #5, Sep/Oct 2107, www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/people-in-the-bible/new-testament-political-figures-the-evidence
Митрополит Антоний Сурожский, Избранные проповеди, Неделя 13-я по Пятидесятнице. Притча о злых виноградарях, www.mitras.ru/sermons/serm5.htm#13
Свящ. Александр Мень, Сын Человеческий. Цит. по www.azbyka.ru/syn-chelovecheskij/3
цит. по Свящ. Александр Мень, Исагогика, www.alexandrmen.ru/books/tom6/6_predis.html
Евангелие от Фомы, Апокрифы древних христиан: Исследование, тексты, комментарии / Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Ин-т науч. атеизма; Редкол.: А. Ф. Окулов (пред.) и др. – М.: Мысль, 1989. стр. 219–262. http://khazarzar.skeptik.net/books/kat_thom.htm
Ориген, Против Цельса. Ч. 1. Кн. 1–4. / Пер. Л. Писарева, М.: Учебно-информационный экуменический центр ап. Павла, 1996, www.pstgu.ru/download/1254131387.16.pdf
Прот. Георгий Флоровский, Жил ли Христос? Исторические свидетельства о Христе, YMCA PRESS PARIS, Издательство «Добро», Варшава, 1929, www.pravbeseda.ru/ library/index.php?page= book&id=322
Миллард Эриксон, Систематическое богословие, https://abv.hristianski.net/pluginfile.php/863/mod_resource/content/1/Ериксън.pdf
Словарь Вебстера, www.merriam-webster.com/dictionary/babushka
Jon A. Buell, O. Quentin Hyder, Jesus: God, Ghost or Guru?, Grand Rapids, MI: Zondervan, 1978), стр. 102.
Прот. А. Шмеман. За жизнь мира. Нью-Йорк. 1983, стр. 100–101, www.kateheo.ru/library/books-for-missionaries/za-zhizn-mira
C.S. Lewis, Case for Christianity, Touchstone, New York, 1996, стр. 45.
Сергей Аверинцев, Несколько соображений о настоящем и будущем христианства в Европе, В сборнике: Нравственные ценности в эпоху перемен. М., 1994, www.azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/izbrannye-stati/#0_11
Наум Коржавин, Стихи, https://rustih.ru/naum-korzhavin-ot-sozidatelnyx-idej/?ysclid=m08rsjua 2g 555237904
Клайв Льюис, Расторжение брака, гл. 9, https://avidreaders.ru/book/rastorzhenie-braka.html
Михаил Жванецкий, Год за два, Москва, Искусство, 1989, стр. 224 или https://imwerden.de/ pdf/ zhvanetsky_god_za_dva_ 1989__ocr.pdf
100 Years of. Nobel Prizes. Baruch Aba Shalev. Atlantic Publishers & Dist, 2003, а также https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Religion_of_Nobel_Prize_winners_between_1901_and_2000.png
Макс Планк, Религия и естествознание. Доклад, прочитанный в мае 1937 года в Дерптском университете, http://vivovoco.astronet.ru/VV/PAPERS/ECCE/PHIL2.HTM
Прот. Александр Шмеман, Воскресные беседы, М.: «Паломник», 2002. стр. 12–16, а т.ж. www.azbyka.ru/vera_i_neverie/o_vere/shmeman_o_vere_ob_otkrovenii_1-all.shtml Далее в тексте: «[Некоторые люди] считают, что религия полезна и нужна для человеческого общества, для нации, для семьи, для детей, для умирающих и больных, для поддержания честности и морали, которые, иными словами, сводят религию к приносимой ею пользе».
Л. Н. Толстой. Война и мир. том IV, часть III, гл. XVIII, https://ilibrary.ru/text/11/ p.312/index. html?ysclid=m08ydcldub209589355
C.S. Lewis, God in the Dock, стр. 28, (http://www.alor.org/Storage/Library/PDF/Lewis%20CS%20-%20God_in_the_Dock.pdf).
Джером Сэлинджер, Над пропастью во ржи, https://nukadeti.ru/rasskazy/nad-propastyu-vo-rzhi?ysclid=lzm7rg8uv5756202046
См. т.ж.: «Представьте себе детей, играющих на ровной, покрытой травой вершине какой-нибудь скалы в океане. Пока вокруг их островка была стена, они могли забавляться самой неистовой игрой и превращали свою скалу в самую шумную из всех детских комнат. Но стену разрушили, и обнажился угрожающий отвесный обрыв. Дети не упали, но в ужасе сбились в кучку, и песня их смолкла» в Гильберт Честертон, Ортодоксия, www.azbyka.ru/fiction/ortodoksiya
Ф. Достоевский, Братья Карамазовы, книга 5, гл. 5, http://az.lib.ru/d/dostoewskij_f_m/text_0110.shtml
Блаженный Августин, Исповедь, Книга первая, гл. I, www.azbyka.ru/otechnik /Avrelij_ Avgustin/ ispoved/#0_2
Мартин Бубер, Я и Ты, Библиотека философа, Высшая школа, 1993, http://lib.ru/ FILOSOF/ BUBER/ihunddu2.txt
Сергей Худиев, Уверенность в Спасении, Изд-во «Путь», 2002, с. 17, http://lib.ru/ HRISTIAN/hudiew.txt
Сергей Аверинцев, Мы призваны в общение, www.azbyka.ru/otechnik/Sergej_Averincev/my-prizvany-v-obshenie
Вероятно, эта цитата вот уже почти столетие (первое упоминание в 1922 году) ошибочно приписывается Г.К. Честертону, но вот его собственные слова на эту же тему, из которых, по всей видимости, она и сложилась: «Немедленным результатом неверия в Бога является потеря всякого здравого смысла» («Вещая собака») и «Все вы, упёртые материалисты, балансируете на самом краешке веры – веры практически во что попало» («Чудо “Полумесяца”»)/
Разошедшийся по миру в более чем полутора миллиардах экземпляров миссионерский буклет, выпущенный крупнейшей международной евангельской молодёжной миссионерской организацией «Campus Crusade for Christ», содержащий краткое изложение евангельского вероучения о спасении во Христе. http://jesuschrist2012.ru/issues/WhoIsJesus/four.htm
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» – Ин 3:16.
Norman L. Geisler, Frank Turek, I Don't Have Enough Faith to Be an Atheist, Crossway Books, 2004, www.archive.org/details/norman-l.-geisler-frank-turek-i-dont-have-enough-faith-to-be-an-atheist
Греч.: ὅτι ἔτι ἁμαρτωλω̃ν ὄντων ἡμω̃ν Χριστòς ὑπὲρ ἡμω̃ν ἀπέθανεν, то есть, буквально: «потому что грешных сущих нас Христос ради умер».
С.S. Lewis God in the Dock, www.orcuttchristian.org/Lewis%20CS%20-%20God_in_the_Dock.pdf
Питер Крифт, Рональд Тачелли. Справочник по христианской апологетике. – Христианский научно-апологетический центр, 2011.
Воскресенский О.В., Доказательства бытия Божия в применении к миссии, www.cyberleninka.ru/article/n/dokazatelstva-bytiya-bozhiya-v-primenenii-k-missii
«Этот прекрасный порядок в солнечной системе не мог возникнуть из хаоса по законам природы, но был создан разумным и могущественным Существом, которое управляет им и всем, что находится в нем» – Исаак Ньютон, «Математические начала натуральной философии», https://djvu.online/file/wCBIlGHJY68zQ
Имануил Кант, Критика практического разума, https://books.yandex.ru/books/bnG2BlgM. См. т.ж.: «Совесть – это пульсация Бога внутри нас, это единственное данное нам в ощущении доказательство бытия Бога» – Фазиль Искандер, Беседа с писателем // Литературная газета. – 1999, 3 марта.
Аврелий Августин, Исповедь, https://azbyka.ru/otechnik/Avrelij_Avgustin/ispoved
«Несравненно большая часть воспринимаемых нами идей или ощущений не произведены человеческими волями и не зависят от них, есть, следовательно, некоторый другой дух, производящий их», поэтому «каждое мое ощущение» возникает «извне, т. е. независимо от моей воли, доказывает бытие Бога... т. е. непротяженного, бестелесного духа, всеведущего, всемогущего и т. д.» – цит. по Быховский Бернард Эммануилович, Джордж Беркли, www.litmir.me/br/?b=176746&p=18
«Ничто живое не рождается на свет с такими желаниями, которые невозможно удовлетворить. Ребенок испытывает голод, но на то и пища, чтобы насытить его. Утенок хочет плавать: что ж, в его распоряжении вода. Люди испытывают влечение к противоположному полу; для этого существует половая близость. И если я нахожу в себе такое желание, которое ничто в мире не способно удовлетворить, это, вероятнее всего, можно объяснить тем, что я был создан для другого мира. Если ни одно из земных удовольствий не приносит мне подлинного ублаготворения, это не значит, что Вселенной присуще некое обманчивое начало. Возможно, земные удовольствия и рассчитаны не на то, чтобы удовлетворить ненасытное желание, а на то, чтобы, возбуждая его, манить меня вдаль, где и таится настоящее. Если это так, то я должен постараться, с одной стороны, никогда не приходить в отчаяние, проявив неблагодарность за эти земные благословения, а с другой стороны, мне не следует принимать их за что-то другое, копией, или эхом, или несовершенным отражением чего они являются. Я должен хранить в себе этот неясный порыв к моей настоящей стране, которую я не сумею обрести, прежде чем умру. Я не могу допустить, чтобы она скрылась под снегом, или пойти в другую сторону. Желание дойти до этой страны и помочь другим найти туда дорогу должно стать целью моей жизни». – Льюис К.С., Просто христианство, Op. cit.
«Из всех философских доказательств бытия Божия наиболее убедительно звучит именно то, о котором даже не упоминается в учебниках; примерно оно может быть построено умозаключением: “Есть Троица Рублева, следовательно, есть Бог”» – Иконостас, П. Флоренский, ч.7, СПб.: Пальмира, 2023
«Почти все люди, греки и варвары, признают существование божественного и поэтому единодушно приносят жертвы, молятся, воздвигают храмы богам, причем, однако, разные люди делают это по разному, как бы одинаково веруя в существование чего-то божественного, но имея не одно и то же представление о его природе, – если бы такое представление было ложно, то не все сходились бы в этом воззрении в такой степени. Следовательно, боги существуют». Секст Эмпирик (ум. 250 до Р.Х.). Сочинения в двух томах. Т. 1. М., «Мысль», 1976, стр. 254.
Паскаль Блез, Мысли, раздел VIII «Разумнее верить, чем не верить в то, чему учит христианская религия», https://web.archive.org/web/20180205072141/http://bookwu.net/book_mysli-o-religii_698/9_statya-viii
Байерли Д., Настигнут верой, https://slovo.net.ru/book/45043
Perry Marshall, Evolution 2.0: Breaking the Deadlock Between Darwin and Design, https://archive.org/details/evolution20break0000mars
Михаил Эпштейн, Религия после атеизма. Новые возможности теологии
«Даже если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать» – Вольтер, «Послание автору книги „О трёх обманщиках“» (1769), www.whitman.edu/VSA/trois.imposteurs.html
«Искание Бога есть уже действие Бога в человеческой душе» – Семён Людвигович Франк, «Смысл жизни» гл. 5, https://azbyka.ru/otechnik/Semen_Frank/smysl-zhizni/5
Венедикт Ерофеев, Москва – Петушки, https://librebook.me/moskva___petushki/vol1/1
Мichael J. Behe, Darwin’s Black Box, https://michaelbehe.com/books/darwins-black-box
Wikipedia Commons, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/Religion_of_Nobel_Prize_winners_between_1901_and_2000.png
Scott Smith, Is Religion Responsible for the Most Wars and Deaths in History?, www.thescottsmithblog.com/2019/05/is-religion-responsible-for-most-wars.html
«Происхождение первичной жизни, таким образом, является тем «гвоздём, который держит крышку гроба закрытой» в отношении теории биологической эволюции. Без этой первичной жизни или простой клетки, требующей четыре молекулы разных типов плюс информацию, всякие предположения о биологической эволюции лишены основания называться жизнеспособными. А без жизни трудно говорить о биологии» – Джемс Тур, www.jmtour.com/personal-topics/evolution-creation
Калям (тростник, писчий инструмент), в отличие от религиозной догмы, является жанром разумного истолкования исламского учения.
«Люблю спорить с атеистами. Слабость их нападок на веру как ничто другое утверждает меня в её истинности» – Дэйвид Кларк, из личной беседы.
«Иван ничего и не пропускал, ему самому было так легче рассказывать, и постепенно добрался до того момента, как Понтий Пилат в белой мантии с кровавым подбоем вышел на балкон.
Тогда гость молитвенно сложил руки и прошептал: – О, как я угадал! О, как я все угадал!» – Булгаков М.А., Мастер и Маргарита, https://lit-ra.su/mihail-bulgakov/master-i-margarita
«Много людей обращается к Богу в страхе, в несчастье, в страдании, но проходят эти минуты, и люди возвращаются к жизни, никакого отношения к вере не имеющей, и живут так, как если бы никакого Бога не было. Еще больше людей верит не столько в Бога, сколько, как это ни странно – в религию. Им попросту хорошо, уютно, успокоительно в храме, многие из них с детства привыкли к этой «священности» храма и обрядов. Здесь все красиво, глубоко, таинственно – не то что в уродливом и злом повседневном мире… Эта их религия дает хорошие и чистые «переживания», помогает жить. И все же религия здесь сама по себе, а жизнь сама по себе» – прот. Александр Шмеман, Воскресные беседы, М.: «Паломник», 2002. стр. 172–5; 12–16 или https://azbyka.ru/o-vere-ob-otkrovenii
Цит. по Владимир Легойда, Верую, ибо абсурдно. К истории одной ложной цитаты, www.pravmir.ru/veruyu-ibo-absurdno-k-istorii-odnoj-lozhnoj-citaty
Elan Lowne, Eternal Persuasion, Saelig Books, 2010, стр. 52.
Felix Chin, Ryan Chou, Muhammad Waqas, Kunal Vakharia, Hamid Rai, Elad Levy, David Holmes, Efficacy of prayer in inducing immediate physiological changes: a systematic analysis of objective experiments, National Library of Medicine, 2021, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33544510
Charles W. Colson, Born Again – Chosen Books, 2008.
Alexei Tsvelik, Six Days: Reason as a Cosmic Phenomenon, Bagriy & Company, 2019, стр. 20.
«И, – чего уже совершенно не в состоянии объяснить дарвиновская эволюционная теория, – исследования ископаемых организмов показали, что многие из них обладают органами, на тысячелетия предвосхищающими внешние условия среды, органами, которые в актуальных условиях существования этих животных абсолютно бесполезны, но действительно понадобятся данному виду через сотни поколений, когда условия существования радикально переменятся! Возникает правомерный вопрос, на который у современной эволюционной теории нет ответа: откуда у лишенного разума тела может быть такое удивительное пред-знание грядущих перемен и как оно может само вызывать в себе требуемые благоприятные мутации?! Этот поразительный факт однозначно указывает на наличие в мире определенной и разумной программы развития, то есть Провидения, которое и называется Промыслом Божьим» – Георгий Хлебников, 16 доказательств бытия Бога. Журнал «Фома», https://foma.ru/16-dokazatelstv-byitiya-boga.html
Брайян Томас, Про что на самом деле говорят мягкие ткани в окаменелостях? https://creacenter.org/ru/news/ubeditelnye-otvety-na-myagkie-tkani-v-okamenelostyakh , а т.ж. Buckley et al., “Comment on ‘Protein Sequences from Mastodon and Tyrannosaurus rex Revealed by Mass Spectrometry,’” Science 319 (2008), стр. 33
Христос, будучи Богом во плоти, призывал именно к этому: “если не обратитесь и не будете как дети, не войдёте в Царство Небесное” (Мф. 18:3), “ибо таковых есть Царствие Божие” (Мк. 10:14), “Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам” (Мф. 11:25).
«Физика противоречит химии, и химия противоречит физике» – Гарри Хабермас, интервью https://youtu.be/bh74T2OvBEM?si=0FjeB3_Ev7R0WdxE
«Апофатическое богословие путем отрицания всего, что не есть Бог, приводит к пониманию непостижимости Бога, Его абсолютной трансцендентности. Апофатическое Богословие соответствует пути богопознания как совлечения рационального познания и умолкания перед тайной, выразить которую человеческое слово не в силах» – митрополит Иларион (Алфеев), цит. по https://azbyka.ru/apofaticheskoe-bogoslovie
«Атеизм не является знанием о небытии Божием, но лишь пожеланием, чтобы его не было, дабы можно было грешить без осуждения и самовосхваляться, не встречая возражений». – Фултон Шин, www.ncregister.com/blog/on-the-choice-of-nihilism-or-god
Умберто Эко. «Пять эссе на темы этики», imwerden.de/pdf/eco_pyat_esse_na_temy_etiki_2003__ocr.pdf
М. Эпштейн, Религия после атеизма. Новые возможности теологии
Ibid.
Мартин Бубер, Я и Ты (Ich und Du)
Григорий Палама, Триады в защиту священнобезмолвствующих, www.azbyka.ru/otechnik/Grigorij_Palama/triady-v-zashhitu-svjashhenno-bezmolvstvujushhih
Что говорится о сне в исламе? – URL: https://islam.az/ru/33276/chto-govoritsya-o-sne-v-islame
C.S. Lewis, Case for Christianity, B & H Pub Group, 2000, стр. 27–28.
В.С. Ольховский, Проблема зла и теодицеи (как она решается в христианстве и других мировоззрениях) www.azbyka.ru/problema-zla-i-teodicei-kak-ona-reshaetsya-v-xristianstve-i-drugix-mirovozzreniyax
Ириней Лионский, Обличение и опровержение лжеименного знания (Против ересей), www.azbyka.ru/otechnik/Irinej_Lionskij/protiv-eresej
Иустин (Попович) Челийский, Подвижнические и богословские главы, www.azbyka.ru/otechnik/Iustin_Popovich/podvizhnicheskie-i-bogoslovskie-glavy
Елена Пацкина, Беседы с мудрецами. А. Франс, www.proza.ru/2011/10/26/1477
