Католикос востока и его народ
По поводу обращения сиро-халдейского епископа Мар-Ионы в православие 25 марта 1898 года
Очерки из жизни сиро-халдейцев-несториан в Персии и Турции
Содержание
Глава I Глава II Глава III. Сиро-халдейское духовенство Глава IV. Богослужение у сиро-халдейцев Глава V. Таинства в их совершении и приложении к жизни Глава VI. Календарь, праздники и посты у сиро-халдейцев Глава VII. Сиро-халдейские воззрения, богословие и язык
Глава I
Торжество православия 25 марта 1898 года. – Обращение в православие сиро-халдейской депутации и интерес к народу. – Краткие исторические сведения о нём. – Зависимость от Антиохии. – Церковь в Персидской монархии. – Тамерлан. – Внутренние раздоры. – Настоящие географические и политические разделения. – Аширеты и райя.
Состоявшееся весной 1898-го года, в знаменательный день Благовещения Пресв. Богородицы, присоединение к православной церкви депутации сиро-халдейских несториан во главе с епископом супурганским преосвящ. Мар-Ионой естественно возбуждает живой интерес к этой восточной отрасли христианского мира. Эта отрасль в течение полутора тысяч лет находилась в полном отчуждении от вселенской церкви, жила своею особою жизнью, имела времена процветания, когда она своим богатством, пространством и численностью превосходила и восточную и западную церкви вместе взятые, но затем подвергалась страшному бедствию и в течении веков едва в состоянии была бороться за своё бедственное существование с жестоким фанатическим исламом, под игом которого она томится и доселе. На этой ветви христианства лежит вековое пятно тёмной ереси – несторианства, которое собственно и повело ее к отчуждению от православной церкви; но века испытаний не прошли бесследно: они укрепили в народе нравственный дух, очистили его религиозное сознание и поэтому в нем проявилось сердечное желание вновь воссоединиться с тою матерью-церковью, от которой он некогда отпал по недомыслию и гордости своих вождей. Состоявшееся 25 марта, в Александро-Невской лавре, присоединение депутации служит конечно только началом этого знаменательного движения, которое может достигнут желаемой цели только при дружном и любовном содействии церкви и общества. По настоятельной просьбе новоприсоединившихся сиро-халдеев в Урмию назначена правильно организованная русская духовная миссия, которая возбуждает много надежд, но которая может успешно трудиться только именно под условием живого внимания и интереса к её делу и со стороны всего русского общества. К сожалению, для нашего общества всё это движение среди сиро-халдеев явилось с такой внезапностью, то для многих вопрос этот кажется весьма неясным, – тем более, что и о самом народе сиро-халдейском имеются лишь самые смутные сведения. С целью ближе познакомить наших читателей с этим народом, так искренно заявившем свое тяготение к православно-русской церкви, с любящим сердцем матери принявшей его представителей в своё лоно, мы представим несколько очерков, в которых будет более или менее подробно обрисована внешняя и внутренняя и, конечно, главным образом церковно-религиозная жизнь этого народа. В ней так много своеобразного, многие черты её отзываются такой патриархальностью, напоминающей чисто библейские времена, что помимо всяких практических соображений знакомство с нею может быть далеко небезынтересным, – особенно для наших пастырей, так как эти очерки дадут возможность познакомиться с таким укладом жизни, который покоится на древней восточной патриархальности, значительно уцелевшей там и до настоящего времени.1
Народ, составляющий предмет настоящих очерков, представляет собою остаток великой и широко распространенной церкви, которая теперь составляет лишь тень её прежнего величия. Основанная, как говорит Предание, св. ап. Фомой, в сотрудничестве с св. Адаем, одним из семидесяти апостолов, и св. Марием, его учеником, эта церковь в средние века обнимала всю центральную Азию и дала Европе рассказ о пресвитере Иоанне. В первые века, эта «церковь востока», как она себя называла, находилась в зависимости от патриархата антиохийского. Об этом свидетельствуют её собственные исторические летописи. Она основана была в восточном округе Римской империи, с его главной резиденцией в Селевкии-Ктезифоне, двойственной столице Персии. Епископы её подчинены были Антиохии; но, с течением времени, вследствие политического разъединения стало невозможным и церковное единение. Вследствие трудности посылать избранника в митрополичий сан для посвящения, как это требовалось обычаем прежнего времени, в патриарший город на берегах Оронта, Селевкии дана была известная независимость, и её митрополит с этого времени стал известен под названием католикоса. Это разделение было на руку персидскому правительству, и потому когда в Римской империи возникла несторианская ересь и патриарх константинопольский Несторий был отлучен собором Ефесским в 431 году, персы с радостью воспользовались благоприятным случаем положить грань разделения между христианами, побудив под их владычеством христиан порвать всякое общение с своими западными единоверцами. Но каковы бы ни были причины этого, во всяком случае кафедра Селевкии окончательно стала на сторону Нестория и отказалась признать осудивший его собор. В то же время или вскоре после того католикос принял титул патриарха.
С того времени Сиро-халдейская церковь начала отчуждённую от остального христианского мира жизнь. В истории её был период высокого процветания и могущества так что в IX -XI веках влияние её простиралось на Китай, Индию, центральную Азию и другие страны востока, и несториане представляли собою наиболее многочисленную церковь в христианском мире2.
Но в XIV веке их постигло страшное бедствие от рук Тамерлана или Тимура. Правда, они часто терпели жестокие гонения и от своих прежних правителей, которые попеременно то покровительствовали им, то угнетали их; но всё это было ничто по сравнению с этим позднейшим бичом. От этого ужасного разгрома уцелела только одна горсть от них. Под влиянием бедствия начались и внутренние смуты, довершившие падение этой некогда цветущей церкви. По случаю одного спора по вопросу о патриаршем престоле, они разделились в XVI столетии на две партии; из них большая партия, именно жители Курдистана и северо-западной Персии, стали принимать главенство Мар-Шимуна, который называется «патриарх востока», а меньшая партия, состоящая из жителей равнины Мосула и окружающих холмов, принимает Мар-Элию, называющегося «патриархом вавилонским». Эта последняя партия после продолжительных колебаний соединилась, наконец, с римскою церковью и известна под названием «униатско-халдейской церкви».
В настоящих очерках мы намерены познакомить читателей лишь с судьбой и жизнью первой из этих двух общин, именно с народом, признающим духовное, а отчасти и гражданское главенство своего наследственного патриарха, всегда носящего одно и то же имя – Мар-Шимуна, т.е. господина или Кир Симона. В своих очерках мы будем называть этот народ сиро-халдеями или, как он чаще называет сам себя, сирийцами; но так как может произойти смешение между ними и иаковитами, т.е. западными сирийцами, то будем присоединять, когда нужно, и другое название, употребляемое также народом, т.е. название «восточные сирийцы». Это двойное название иногда употребляет и сам народ, когда ему нужно отличить себя от иаковитов.
Чтобы сделать последующее изложение более понятным, необходимо объяснить, что восточные сирийцы (те, которые находятся под властью Мар-Шимуна), разделены на две части, из которых одни живут в Турции, а другие в северо-западной Персии, в провинции Азербайджан. Жизнь этих частей весьма различна, хотя церковная организация и богослужение всего народа одинаковы. Азербайджанские сирийцы живут, главным образом, в равнинах, примыкающих к озеру Урми3, а также в холмистой стране между этими равнинами и персидско-турецкой границей. Та часть народа, которая находится под властью турецкого султана, живёт в Курдистане и, главным образом, в округе или санджаке Гаккиари, в вилайете Ван. В свою очередь, они разделяются на аширетов, т.е. родовых сирийцев, и райю, т. е., подданных. Первые полунезависимы от турецкого правительства, живут в горных твердынях Тиари-Тхумы и соседних округов и только по временам платят дань. Турки имеют над ними мало власти, и только при посредстве Мар-Шимуна могут держать их в подчинении и взимать дань. Они очень воинственны и часто могут поспорит с курдами, если только последние не выдвигают против них подавляющей силы, как это было в 1843 году, когда Бедр-Хан-Бек произвел между ними большое избиение. Турецкие власти могут проникнуть в их область не иначе, как с их доброго согласия. Райи, с другой стороны, живущие в более открытой местности, находятся под непосредственным управлением турок и ведут в высшей степени жалкую жизнь, находясь в полной зависимости не только от курдов, но и от всякого хищного турецкого чиновника, желающего нажить деньгу тем или другим способом. Как патриарх Мар-Шимун, так и митрополит Мар-Хнанишу, живут в стране райи, хотя резиденция первого Кочанис считается принадлежащей аширетам.
После этих предварительных замечаний проникнем в самую резиденцию католикоса Мар-Шимуна, и посмотрим, как он живет там и в каком положении находится его паства.
Глава II
Обыденная жизнь в горах Курдистана. – Кочанис. – Патриарший двор. – Жизнь без часов. – Связи патриарха. – Его посетители. – Его одежда. – Рабан Ионан. – Средневековый шут. – Митрополит или матран.
Резиденция патриарха сиро-халдеев-несториан Мар-Шимуна – Кочанис есть в полном смысле деревня. Она примостилась на высоком треугольном альпообразном пастбище на 7000 футов над уровнем моря и с двух сторон закрыта глубокими оврагами, на дне которых бурлят горные потоки. Как раз пониже деревни, эти потоки сливаются в одно русло и вместе впадают в реку Забе или Заву, отождествляемую народом с библейским Фисоном. Третья или верхняя сторона этой альпийской возвышенности закрыта обрывистыми горами; по другую сторону оврагов возвышаются другие горы, и таким образом вся местность в высшей степени красива. На скале, на нижнем конце деревни, стоит патриаршая церковь Маршалита, вокруг которой лежат покойники многих веков. Другая церковь, посвященная Моисею, стоит в развалинах, верстах в полутора отсюда, на площадке. В деревне неуклюжий патриарший дом или келья, как он называется (килаита), отличается от других зданий башней. Там живёт патриарх не в пышности и не в такой обстановке, какие обыкновенно рисуются у вас в воображении при этом названии, но в скромном достоинстве, высоко почитаемый всем своим народом. Там он обыкновенно принимает своих многочисленных посетителей, прибывающих к нему по своим делам из всех местностей страны. Иногда он делает прогулку или отправляется за гору в Джуламерке, в резиденцию турецкого правителя, или делает объезд своей епархии. Но обыкновенно он по целым дням сидит в своей комнате. Часто он принимает у себя до двадцати и более посетителей, и среди них можно видеть горцев-аширетов, с кремневыми ружьями, палашами и щитами, или райю, которой удалось спастись от разбойников в дороге, епископов и других лиц из Персии, которые задержаны были правительственными чиновниками или опасностями дороги. Некоторые приходят для того, чтобы принести ему свои подати или подарки; другие добиваются от него назначения на должность маликов (местных начальников), канкайев (старост), или сирдаров (попечителей) для тех церквей в горах, которые наделены землёй. Многие являются ко главе церкви и «народа» по делам каноническим, а также для решения некоторых вопросов бытового закона. Некоторые аширеты приходят просить патриарха о ходатайстве пред правительством по поводу угнетений, убийства или хищничества со стороны курдских соседей. Райи обыкновенно приходят жаловаться, что им становится невозможно жить в своих деревнях, так как какой-нибудь курдский бек Гибуилла жестоко угнетает их, захватывая или истребляя их хлебные поля и скот и не позволяя их священнику ни венчать их, ни посещать их больных; или, что другой курд Шиан-ага угрожает наложить на них штраф за позволение турецким солдатам иметь стоянку в своей деревне во время их похода, предпринятого под мнимым предлогом арестовать его. Тут можно видеть и брачных гостей, которые, имея на себе только шапки без тюрбанов и хлопчатобумажные рубашки и панталоны, прибыли к своему духовному главе с просьбой, чтобы он довел до сведения правительства в Джуламерке о том, что по дороге с брачного пиршества они были совершенно ограблены и почти догола раздеты курдами. Заходят сюда и жандармы или правительственные чиновники, чтобы провести полдня или ночь на своём пути в какое-нибудь другое место. Появляются также и курды с коварной целью устроить ловушку для Мар-Шимуна и уговорить его, напр., стать во главе противодействия какому-нибудь указу из Константинополя касательно новой переписи или налога, причём уверяют, что если он сделает это, то все курды сделаются его преданными слугами (пока, конечно, не переменится ветер). Его святейшество (да и все вообще, кому известно положение дел) совершенно подавлен ежедневно повторяющимися рассказами об угнетениях и неправдах, от которых он бессилен защитить. Неудивительно, если самые возвышенные стремления его подрываются тяжестью таких испытаний. И со стороны миссионеров даже жестоко просить его подвергать себя риску гнева правительства, когда ни одно из европейских государств ничего не делает в пользу его или его народа для облегчения их тяжелого положения.
При всей тяжести своего положения сиро-халдейцы однако не ропщут на свою судьбу и с чисто детской верой и покорностью всё предоставляют воле Небесного Отца и Царя. У них нередко можно слышать: «Бог разгневался на нас за наши грехи и поэтому попускает нам терпеть это»; и обыкновенно к этому прибавляют: «Да будет воля Господня: слава имени Его».
Мар-Шимун человек весьма умный и быстро умеет приспособляться к туркам, курдам и христианам, с которыми ему приходится иметь дело. Окружающая его обстановка отнюдь не содействует оптимистическому настроению; но когда он не слишком угнетён рассказами о неправдах, то бывает весьма оживлён и приятен в разговоре, и относится с живым интересом ко всему, что слышит, будет ли это какая-нибудь интрига в Турции или какие-нибудь изобретения в Европе, и вообще весьма быстро понимает или оценивает всё, что сообщают ему.
Всякий посетитель, по прибытии к патриарху, целует ему руку, а большинство становится пред ним на колени; иные просто пожимают ему руку, а другие, люди более низкого звания, благоговейно касаются его руки только своими устами.
Внешность сиро-халдейского патриарха чрезвычайно своеобразна. Он одевается в широкие шаровары и короткую куртку темно-синего цвета. Под курткой надет более светлого цвета жилет и затем шёлковый многоцветный пояс. Хотя борода у него совершенно чёрная, но волосы совсем белые; он постоянно имеет на себе шапку и тюрбан из черного шёлка, которые снимает лишь при входе в церковь. В своём одеянии он весьма опрятен и наблюдает за чистотой своих пальцев, и часто зовет своего служителя, приказывая ему стряхнуть пыль или какой-нибудь сор со своего ковра. Он обыкновенно сидит на мохнатом грубом ковре на полу, хотя не со скрещенными ногами, а по персидскому обычаю, сложив под себя колена, так что, в сущности, сидит на своих ногах. Два или три кресла стоят обыкновенно для европейских посетителей или турецких чиновников. Курды и простые солдаты при посещении патриарха занимают место выше христиан, за исключением родственников патриарха. Мар-Шимун понимает по курдски, но не говорит на этом языке. Но он прекрасно знает турецкий язык. Он может свободно читать на древнем и новом сирийском языке и красиво пишет; но все его письма обыкновенно пишутся особым писцом, так как для высокопоставленного лица на востоке считается ниже достоинства писать собственноручно. Он хорошо знает свои богослужебные книги, всегда рано совершает утренние молитвы и с одинаковой точностью совершает и вечерние молитвы. Во время литургии, он вместе с одним или двумя из своих спутников, стоит в алтаре и принимает причастие в дверях между алтарем и святилищем.
Рядом с домом патриарха живут его родственники, составляющие своего рода неформальный собор, – именно его сводный брат Ишай (Иессей) и его двоюродные братья Мар-Аурагам, нареченный патриарх4, Авишалум (Авессалом), Нимрод, Шмуел (Самуил) и Шлимун (Соломон), с их женами и семействами. Интересно наблюдать, какой строгий этикет соблюдается в патриаршем кружке. Каждый сидит на своем особом месте, согласно со своим достоинством, на войлочных ковриках, расстилаемых по сторонам комнаты патриарха, причем сам Мар-Шимун сидит обыкновенно на мохнатом ковре, во главе всех. Членам этого совета предоставляется высказывать свои мнения, когда это оказывается нужно по каким-нибудь настоятельным и важным делам; по временам патриарх даёт им также поручение отправиться в ту или другую деревню, или в тот или другой округ для исполнения патриаршего дела – уладить какую-нибудь распрю, выслушать жалобы или собрать подать. Один из них шамаша (диакон) Нимрод состоит членом турецкого совета, мутасерифа, в соседнем городе Джуламерке, и ему поручаются многие гражданские дела патриархата.
Как жизнь самого патриарха-католикоса, так и его народа в Кочанисе проходит с чисто патриархальной монотонностью и простотой. Новейшая европейская цивилизация еще не успела коснуться этого малодоступного уголка, и там народ живет в лоне природы, обходясь даже без такой по-видимому необходимой вещи, как часы. Время измеряется просто по небесным светилам, но к этому нужно привыкнуть западному человеку. Когда светит солнце, то конечно можно делать известные соображения о времени. Даже и во время дождя положение солнца также приблизительно можно определять в стране, незнающей густых туманов. Но уже становится трудно определять время в течение ночи, в виду того, что коварная луна ежедневно переменяет свое положение. Быть может поэтому, время утреннего богослужения в Кочанисе бывает так неправильно летом, что трудно сказать, когда собственно оно начинается или кончается. После богослужения, знатные люди деревни, а также и иностранные посетители, желающие повидать Мар-Шимуна, отправляются в дом патриарха и там пьют кофе, курят трубки или папиросы, и затем уже, если это рабочий день, отправляются на свои занятия. Приблизительно около 9 часов наступает время «завтрака рабочих людей», а обед обыкновенно бывает уже гораздо позже полудня. Люди работают почти до заката солнца, когда набожные отправляются в церковь, а другие совершают молитвы в своих домах, предварительно умыв себе лица и руки, не просто с целью сделать их чистыми, но в смысле особого обрядового действия. Довольно любопытно заметить, что чесание волос часто совершается во время самой молитвы. Ужин обыкновенно подается уже после зажжения ламп; но в аширетских округах летом часто он подается во время сумерек или даже раньше их.
Питье чая и кофе составляют непременную принадлежность обыденной жизни патриарха и его родственников, и этой же роскошью обыкновенно угощают своих посетителей и некоторые именитые лица среди райи.
Сводный и двоюродные братья патриарха занимают настолько высокое положение, что уже не работают сами и иногда они занимаются важными церковными или гражданскими делами. По временам, они ходят на охоту за медведем, ловят куропаток или делают прогулку верхом, хотя вообще не предаются этим удовольствиям с каким-нибудь увлечением. Иногда, впрочем, они исполняют замечательные конные упражнения на открытых равнинах за деревней. Однажды посетить главу своего народа прибыло много сирийцев из Сура-д'Мамерая, деревни, лежащей в окрестностях озера Вана. По-видимому, это были люди зажиточные, как по крайней мере можно было судить потому, что на них были пышные тюрбаны и расшитые халаты. Они забавляли деревню всевозможными видами наездничества, изображая нечто в роде средневекового турнира. Вооруженные копьями до двенадцати футов длиною, они набрасывались друг на друга и пытались сбить тюрбаны друг с друга. Многие из этих горцев, подобно курдам, великолепные наездники и могут балансировать на коне почти во всяком положении, в то же время метко стреляя из своих ружей. Но аширеты ездят верхом немного: их страна не пригодна для наезднических упражнений. Среди развлечений в Кочанисе пользуется большой популярностью игра в шахматы. Все члены патриаршего дома играют хорошо, Мар-Шимун, Мар-Аурагам и шамаша Шлимун, считаются первыми игроками. Правила игры те же самые, что и у нас. Многие из шахматных названий, употребляемых нами, употребляются также сирийцами5.
Одной из самых замечательных личностей в Кочанисе был человек, который пользовался огромным уважением и к которому все обращались за советом в церковных делах. Это рабан Ионан, монах Иона, который жил в небольшой келье при патриаршей церкви Маршалита и был одним из немногих остающихся там монахов. Маленький ростом, с седыми волосами, в высокой конической шапке и черном тюрбане, он имел чрезвычайно приятную улыбку на лице и красивое выражение, которое внушало любовь и уважение к нему со стороны всех, кто видели его. Большую часть своего времени он провел в переписывании богослужебных книг и других древних творений своего народа; можно сказать, он вполне жил среди своих книг и был самым ученым человеком между сирийцев. У него было много учеников, которые, высказывая какое-нибудь толкование на Св. Писание, обыкновенно с гордостью заявляли: «я научился этому от рабана Ионана». Все относились к нему с величайшим почтением, и он пользовался своего рода почетным преимуществом, ставившим его выше всех кроме патриарха: где бы только ни были сирийцы, имя его они упоминали с почетом и любовью. На него ссылались во всех вопросах учености, и интересно, что иногда священники останавливались посредине службы, чтобы посоветоваться с добрым старцем, что следует делать дальше. Он внезапно был отозван к своему вечному покою, когда купался в минеральном источнике, в некотором расстоянии от Кочаниса, с целью излечиться от ревматизма: по-видимому, в воде с ним сделался удар. Рассказывают, что он имел предведение об ожидающей его кончине, потому что перед тем, как отправиться к источнику, он зашел в палатки своих знакомых, и торжественно прощался с ними. Погребение его совершилось на следующий день в кладбищенской церкви патриарха, и на нем присутствовали все сельчане, которые громко и долго оплакивали своего усопшего рабана.
В Кочанисе есть и еще весьма важная личность: это Шлимун, шут патриарха, – человек, способный на все руки. Подобно его предшественникам в средние века, ему предоставлено право совершать разные проделки над всеми, но также подобно им, он и сам делается мишенью издевательств со стороны всякого. Он поддерживает оживление во всем селении, и все искренно сожалели бы, если бы лишились его.
Вторым после патриарха по важности своего сана и значения в церкви считается митрополит или матран Мар-Хнанишу («милость Иисуса»). Он живет в одной из красивейших местностей в Курдистане, на краю весьма крутого склона, у подошвы которого далеко внизу шумит поток, направляющийся к югу и впадающий в реку Заб. Это собственно не селение, а просто обнесенное стеной местечко, в котором находятся дом самого матрана (древний монастырь) и церковь, посвященная Мар-Ишу (Господу Иисусу); рядом с ним находятся два-три дома, принадлежащих соседним пастухам. Склоны покрыты разными деревьями, между прочим – большими грецкими орешниками и тутовыми деревьями, плоды которых, впрочем, довольно безвкусны. Местность эта находится в округе Шамздин, в стране райи, и митрополит постоянно испытывает скорбь при виде того, как его народ грабят и даже убивают курды. Даже его собственные овцы часто угоняются, и хищникам легко избегать правосудия, в случае если их начинают преследовать, так как без затруднения уходят за персидскую границу. Этот округ находится под властью сына покойного шаха Обейдуллаха, который в 1880 году сделал нашествие на Персию и между этим курдом и номадами геркикурдами матрану с его диоцезом приходилось, по временам, так плохо, что у него неоднократно являлась мысль последовать за некоторыми из своих пасомых, которые от невыносимой жизни и разорения бежали в Персию.
Близость границы служит причиной бесконечных тревог для христианских селений, находящихся близ неё по обеим сторонам. Деревни, находящиеся в Турции, расхищаются, в своих стадах, курдами из Персии, а деревни, находящиеся в пределах Персии, грабятся курдами из Турции. Когда консулу предъявят протесты против такого хищничества, то между турецкими и персидскими правительствами начинаются переговоры, которые долго тянутся и обыкновенно дело кончается ничем, так как соперничество между персами и турками удерживает чиновников от принятия энергичных мер. Да и что им особенно беспокоиться? – Ведь в конце концов, говорят они, все дело ограничивается таким пустяком, как страдание нескольких христиан! В общем, персы более склонны, чем турки, понуждать курдов возвращать похищенных овец; но это и легче для них вследствие большей доступности самой страны. Персы часто говорят туркам: «мы не сделаем распоряжения о возвращении ваших овец, если вы не заставите возвратить наших». Но так как турки или не могут принуждать курдов со своей стороны, или даже если и могут, то слишком испорчены, чтобы заняться делом справедливости, то дела обыкновенно остаются в своем обычном положении, и христиане страдают кругом. Особенно сильно терпят они весной и осенью, когда номады-курды передвигаются с своих летних пастбищ и подобно саранче истребляют все на своем пути.
Бедность райи весьма велика. В одной большой деревне, неподалеку от Кочаниса, английские миссионеры хотели купить курицу, яиц или чего-нибудь подобного, чтобы закусить. Но женщина, к которой они обратились, слезливо ответила им: «курды и между ними турки забрали у нас все, что только было; у нас самих нечего есть, а тем менее чего продать»: что осталось от разбойников, захвачено было солдатами.
Матран – высокий красивый мужчина, с большою, как смоль, черной бородой, и отличается в своих манерах чрезвычайною любезностью, а вместе и достоинством. Он человек весьма доброго сердца, он набожен и предан церкви и религии. Он не поколеблется порвать всякую дружбу с теми, кого заподозрил бы в пренебрежении к религии. Он очень строг в деле соблюдения поста и других установлений церкви, и это отнюдь не фарисейство, потому что он, насколько можно судить, человек весьма благочестивый и старается от всего сердца служить Богу. Весь тон и атмосфера его дома проникнуты глубокой церковностью обнаруживающее в нем истинно набожного человека. Это настроение господина всецело отзывается и на его слугах, которые отличаются необычною для такого класса людей серьёзностью, и в своих разговорах и во всех своих действиях обнаруживают сознание того, что они служат набожному господину и сами должны быть таковыми же. Из дома матрана выносится весьма приятное впечатление, подтверждающее истину, что религия имеет глубоко облагораживающее влияние даже во внешней обстановке жизни.
Глава III. Сиро-халдейское духовенство
Три степени священства и девять подразделений. – Сравнение с чинами ангелов. Теперешний глава сиро-халдейской церкви. – Его полный титул. – Преимущество в патриархате и на кафедрах. Власть Мар-Шимуна. – Митрополит. – Прежние провинции и миссии сиро-халдеев. – Епископы. – Прежние методы избрания. – Обязанности служения епископа. – Приходской священник, его обязанности и положение. – Одежда духовенства. – Избрание приходского священника. – Нищенство в Европе. – Диаконы и их обязанности. – Низшие должности. – Монастыри.
Сиро-халдейцы делят свою иерархическую систему сообразно с чинами ангелов: они считают собственно три степени – епископство, пресвитерство и диаконство, но каждую степень разделяют еще на три чина. Так, диаконство состоит из чтецов, на обязанности которых лежит совершать чтение из Ветхого Завета и Деяний Апостольских, иподиаконов, заведующих церковью, охраняющих двери и зажигающих светильники, и диаконов (шамаши), которые произносят ектении за литургией и другими богослужениями. Но первые два из этих подразделений теперь не существуют более. Равным образом, священство состоит просто из священников, на обязанности которых, говорит сиро-халдейская книга церковного устава, так называемый Сунгадус (книга 6, параграф 1) лежит совершение жертвоприношения (евхаристии); из хорепископов, которые в в прежнее время посещали деревни и монастыри в качестве представителей епархиального епископа, – и архидиаконов, самое название которых, как понимают сиро-халдейцы, означает «глава служения» и которые, поэтому, состоят надзирателями в епископской церкви. Должности хорепископа не существует больше, и даже когда книга Сунгадус получила свою теперешнюю форму (вероятно в ХIII столетии), должности этой уже не существовало, хотя её обязанности были исполняемы так называемыми «периадутами», («посетителями»), которые раньше были уполномоченными хорепископов. Епископство также разделяется (в данном случае как в книгах, так и в практике) на три чина; оно состоит из простых или епархиальных епископов, которые «рукополагают всех чтецов, иподиаконов, диаконов и пресвитеров, дают благословение периадуту и произносят молитву над архидиаконами»; из митрополитов, которые «рукополагают своих викариев», хотя в действительности все епископы рукополагаются патриархом, – и из патриархов, которые рукополагают митрополитов и утверждают епископов6. Эти различия важны в том смысле, что показывают, в какие из этих степеней совершалось рукоположение и в какие нет. Не было особых рукоположений для архидиаконства, которое было не более, как простым титулом чести, даваемым влиятельному приходскому священнику, а также для должности хорепископа. Эти должности всегда были занимаемы священниками, на которых лишь возлагаются некоторые особые обязанности. Но все три чина епископов получаются чрез рукоположение или посвящение (на сиро-халдейском языке есть только одно слово для этих двух выражений), и в уставе существует особая форма рукоположения для каждого из них. Так как перевод с одного места на другое во всех обычных случаях запрещен, то всякий, назначенный в сан патриарха, митрополита или просто епископа, имеет сан не выше простого священника и нуждается в посвящении. Каноны указывают на отказ св. Григория Назианина сделаться епископом константинопольским на том основании, что он уже быль возведен в епископство, а также и на некоторые другие случаи, на основании которых не позволяются переходы с одной епархии на другую; но они прибавляют, что если епископ силою изгнан, против своей воли, с кафедры, то он может быть переведен на другую, даже на митрополичью. Сомнительно, какого рода посвящение совершалось в таком случае. Вероятно произносились только молитвы, предназначенные для митрополита. Каноны не дают в этом отношении никаких пояснений.
Несколько другой распорядок иерархии дает «Книга небесных разумений и церкви на небе и на земле», ошибочно приписываемая Мар-Шимуну Барсебаю и включенная в Ашитский Сунгадус7. В этой книге хорепископы ставятся выше архидиаконов, и последние включаются в разряд посетителей – саури. При возведении в сан хорепископа совершается благословение, «не подобное рукоположению», но архидиакон и посетитель в прежнее время, рукополагались, хотя этого уже не было в то время, когда написана была книга. Последовательность иерархии в этой книге дается следующая:
I. а) Католикосы или патриархи = херувимы.
б) Митрополиты = серафимы.
в) Епископы = престолы.
II. а) Хорепископы = господства.
б) Посетители = силы.
в) Священники = власти.
III. а) Диаконы = начальства.
б) Иподиаконы = архангелы.
в) чтецы = ангелы.
Интересно заметить, что, по утверждению сиро-халдейцев, Сам Господь прошел все эти девять подразделений трех степеней: Он был чтецом, когда читал в синагоге в Назарете (Лк.4:17); иподиаконом, когда «изгнал всех торгующих и покупающих из храма» (Мф.21:12); диаконом, когда проповедовал8: «покайтесь, ибо приблизилось царство небесное» (Мф.4:17) и умывал ноги ученикам (Ин.13:5); священником, когда крестил в Еноне, близ Салима (Ин.3:23), и когда совершал евхаристию; посетителем, когда посещал деревни и города, исцеляя больных и изгоняя бесов, а также посылая на проповедь двенадцать и семьдесят учеников; архидиаконом, когда устанавливал порядок их служения (Лк.9: 2; 10:1); епископом когда рукополагал апостолов (Ин.20:22); митрополитом в то же самое время и когда давал им поручение крестить (Мф.28:19), а также , когда велел ап. Петру утвердить своих братьев (Лк.22:32), и патриархом, когда давал обещание ап. Петру (Мф.16:18, 19) и когда повелел ему «пасти своих овец» (Ин.21:15–18). Книга Сунгадус прибавляет, что ни один епископ не может совершать богослужение, хотя бы даже он был рукоположен, пока не будет утвержден патриархом, потому что апостолы отправились на проповедь не раньше, как, утверждены были. Св. Духом в день Пятидесятницы9.
Все эти подразделения трех степеней входят в один термин священства – канута, и таким образом диакон, хотя он и не в собственном смысле кана – священник, есть член кануты. Св. Евфрем Сирин был только диакон, и, однако, он говорил о себе, как принадлежащем к «священству». Это иногда приводило переводчиков творений св. Ефрема в заблуждение.
В настоящее время глава сиро-халдейской церкви носит династическое имя Мар-Шимуна, что буквально значит «мой господин Симон». Данное ему при крещении имя есть Руил (Рувим), и он надписывает свои письма словами: «Руил-Шимун». Его преемник, когда он вступит на патриарший престол, будет также называться Мар-Шимуном, полный титул которого таков: «достопочтенный и высокочтимый отец отцов и великий пастырь, Мар-Шимун, патриарх, католикос Востока». Но предписанная форма в Ашитском Сунгадусе дает ему еще более длинный титул, который необходимо выписывать при письменном обращении к патриарху. Этот титул читается так: «Отец отцов, верховный пастырь, глава надзирателей, разрешенный и разрешитель разрешенных, святый, помазывающий первосвященников и священников при посвящении, земной ангел и телесный серафим, Петр нашего времени, Павел нашего века, Тимофей наших дней, избранный среди апостолов и возлюбленный среди отцов, раздаятель благостыни, изобилующий разрешениями, владыко наш и отец, Мар-Шимун, католикос, патриарх Востока» и проч. Весь этот титул благоговейно выписывается теми, кто обращаются к патриарху с письмом, причем сущность того, что они хотят излагается уже в самом конце письма.
Преемство в патриаршем престоле обыкновенно совершается так. В числе родственников патриарха всегда есть несколько молодых людей, которые никогда не едят мяса и не женятся, и матери которых не ели мяса во время своей беременности. Один из этих нзири, как они называются (т. е. назореи), или еще при жизни, или при смерти патриарха, избирается в качестве его преемника. Другие, оставшиеся не при чем, кандидаты после этого иногда начинают есть мясо и женятся, и таким образом теряют право на занятие епископской должности. Подобный же порядок существует и при назначении преемников епископам. Епископ, как и его преемник, не могут есть мяса или вступать в брак, т. к. они считаются монахами, хотя это и не всегда было так. В XIII столетии епископы «вообще избирались из монахов»10, но в канонах говорится, что народ «не должен искать себе епископа среди богатых людей, а избирать всякое достойное лицо, будет ли это чужой человек или нет. Если избран монах, нужно обращать больше внимания на то, православный ли он».11
Этот своего рода наследственный епископат, по-видимому образовался в последние три или четыре столетия и является своего рода злоупотреблением. Порядок этот, несомненно, находится в противоречии с канонами, которые устанавливают, что «епископ не может назначать себе преемника»12. Но едва ли можно сомневаться, что при теперешнем положении народа нельзя бы найти более пригодного для него порядка. Всякое народное избрание среди угнетенного народа, которому некогда было научиться как следует пользоваться правом голосования повело бы ко многим смятениям. Теперешняя же система имеет еще ту выгоду, что создает среди народа аристократию в лучшем смысле этого слова, чего иначе у него совершенно не было бы. Во всяком случае таков существующий порядок, и народ сильно предан ему и неохотно согласился бы на перемену. По давнему обычаю, у каждого епископа имеется один или несколько племянников или двоюродных братьев, которые живут при нем в качеств назореев и которых он воспитывает в качестве своих преемников, и обычай этот оказывается весьма хорошим при данном состоянии вещей.
В случае необходимости заместить должность патриарха в прежние времена, когда необходимо было избирать ему преемника, для этого сходились два больших независимых племени Тиари и Тхума, избирали одного из назореев из патриаршего рода, и это постоянно вело к различным спорам и распрям. Далекий восток не представлял исключения из правила, что народное избрание на епископскую должность всегда является причиной народных волнений и распрей.
Когда преемник избран, он посвящается митрополитом. Это остаток старого порядка, который известен только канонам. Когда патриархи жили в Селевкии-Ктезифоне, на южном Тигре, было в обычае, что епископ кашкарский, один из епископов патриаршей провинции, или, если его не было в живых, то епископ забский, письменно созывал четырех митрополитов, которые считались главными, хотя, по свидетельству некоторых, к ним присоединялись еще двое других. Сопровождаемые тремя епископами, они собирались между собой и, с согласия населения патриарших городов Селевкии и Ктезифона, избирали, рукополагали и возводили на престол избранную личность в великой церкви Кухи. При этом, по крайней мере, обязаны были присутствовать три митрополита, но во время гонения считалось достаточным двух, в сослужении епископов патриаршей провинции, причем главенствовал митрополит еламский или елимаидский из юго-западной Персии13.
Все правила и титулы теперь существуют лишь в воспоминании. В сиро-халдейской церкви имеется один только митрополит, и увы! почти никогда не прекращается «время гонений».
Мар-Шимун располагает как духовной, так и светской властью, особенно над племенными или независимыми сиро-халдейцами в долинах центрального Курдистана. Его светская власть в значительной степени признается турецким правительством, которое из политических видов дает ему ежегодную субсидию. Турецкое правительство часто может проявлять свою власть над его народом не иначе, как чрез его посредство и по его желанию.
Патриарх считается источником всех даров церкви, держит в своих руках все степени и должности и раздает их по своему собственному соизволению. Его название «католикос» обыкновенно истолковывается в смысле «содержатель всего», потому что он имеет все степени священства и держит в своих руках всю власть. Митрополиты и епископы не могут отменить того, что он постановил: «он имеет власть над всем, как мозг и череп над членами, вязать и решить на небе и на земле, и он, держит ключи высоты и глубины»14.
Та же книга говорит, что никто не может судить его, так как судья его – Христос. В том же отделе, впрочем, постановляется, что «его должны судить его братья-патриархи». Но здесь, очевидно, разумеется весь христианский мир; и еще в одном месте назначается патриарху, в виде наказания, низложение15.
Сиро-халдейцы насчитывают пять патриархатов: римский (первый), александрийский, ефесский, впоследствии переведенный в Константинополь, антиохийский и селевкийский (их собственный). Они не относят к этому числу Иерусалим, но говорят, что Иерусалиму принадлежит особая честь, и он не подчинен Кесарии. Быть может, здесь имеется в виду 7-й никейский канон. Сиро-халдейцы признают, что Селевкия некогда зависела от Антиохии и что митрополиты ее отправлялись туда для посвящения, но этот порядок был изменен вследствие оснований, приводимых в одном послании, будто бы посланном четырьмя западными патриархами церкви Востока: «Сначала Селевкия была первой митрополичьей кафедрой, и ее митрополит рукополагал епископов на всем Востоке – в Ассирии, Мидии и Персии – и был их правителем. Но теперь, вследствие новейших смут, когда два патриарха (sic) с Востока были распяты на дверях церкви антиохийской иудеями и манихеями, мы предоставляем ей независимость, занимающий ее да будет патриархом и может по своей воле посвящать в митрополиты, с согласия присутствующих при нем двух епископов, и число три не должно быть уменьшаемо... По смерти патриарха, пусть соберутся митрополиты и епископы в возможно большем числе и рукоположат патриарха, и он будут нашими служителями, так как мы действуем чрез них. Ему предоставляется вся церковная власть и все рукоположенные митрополитами епископы должны быть утверждаемы им, получать от него грамоту, прежде чем рукополагать или совершать какое-либо епископское действо. Если будет какое-нибудь обвинение против него, дело должно быть исследовано другими патриархами, а не его учениками, и если время мирное, Персия исполнит наши определения». Послание это, будто бы, было принесено Агбатой, епископом еламским (из юго-западной Персии), и поэтому, он сделан был первым митрополитом, и председательствовал при избрании патриарха, и посвятил его16.
Патриарх есть судья как митрополитов, так и епископов. Митрополиты, по-видимому, никогда не имели никакой принудительной власти над своими суфраганами. «Если митрополит может умиротворить спор или обвинение против епископа дружелюбно – хорошо, а если нет, то обязанность католикоса решить его. Митрополит не может управлять своими братьями и епископами силою, а только убеждением»17. Но, по видимому, даже католикос может действовать только чрез посредство собора. «Патриарх не может отрешать какого-нибудь епископа или митрополита без согласия трех митрополитов: еламского, низибийского и бусрского, а если кого-нибудь из них нет в живых, то митрополита ассирийского»18. Для этого митрополиты собирались в патриарший город сначала ежегодно, а позже раз в каждые четыре года для рассмотрения всех жалоб: но самые отдаленные митрополиты просто посылали письма с выражением своего согласия раз в течение шести лет19. Анафемы также могли произносить лишь соборы. Областной собор мог низлагать не иначе, как с соизволения патриарха. Эти соборы собирались в митрополичьем городе дважды в год и занимались только второстепенными делами20. Митрополит не мог рукополагать в епархии одного из своих соподчиненных епископов. Один только патриарх есть судья всех и может рукополагать, где ему угодно, потому что он есть «всеобщий отец»21.
Отлучение, совершенное патриархом, еще и теперь считается весьма серьезным наказанием, и особенно в горах, где никто не будет говорить с тем, кто находится под отлучением Мар-Шимуна. Отлучение, однако, всегда может быть снято, «так как согрешившему предоставляется покаяться». Низложение, с другой стороны, «делает человека мертвым, и оно совершается только над духовенством. Если низложенное духовное лицо раскаивается, оно не получает уже своей степени обратно»22.
Среди епископов, признающих власть Мар-Шимуна, имеется один только митрополит, обыкновенно для краткости называемый матраном, династическое имя которого Мар-Хнанишу, т. е. «мой господин, милость Иисусова». Его личное имя, данное ему при крещении есть Исаак. Он подписывается: Исаак Хнанишу. По своему сану он считается вторым лицом в церкви. Теперь нет уже провинций, как было в древности, и Мар-Хнанишу не располагает даже и ограниченною митрополичьей властью, как она признается канонами. По соседству он имеет двух епископов, которые более или менее зависят от него и которые, пожалуй, могут быть названы его суфраганами; но его известная честность дает ему уважение и влияние, которые идут гораздо дальше его непосредственного соседства. Ему именно принадлежит право посвящать в сан патриарха, и он может также рукополагать епископов; но в действительности, это вообще делается самим патриархом.
Митрополиты, по толкованию сиро-халдейцев, назначены были ап. Павлом в главные города, а епископы – в меньшие. Сначала Селевкия была митрополичьим городом; но когда она сделалась патриархатом, были сделаны следующие провинции, имевшие преимущества сообразно с порядком их появления: 1) Элам или Элимаида (в юго-западной Персии); 2) Низибия; 3) Нижний Евфрат или Бусра; 4) Ассирия или округ Мосульский и Арбельский. Эти четыре митрополичьи кафедры были учреждены будто бы, еще до собора никейского. 5) Битгармай; 6) Парис или Фарс (в южной Персии); 7) Мерв; 8) Хульван (Халах?); 9) Гарю (Герат?); 10) Индустан; 11) Китай; 12) Самарканд; 13) Армения; 14) Шам или Дамаск. Было еще четыре других, которые уничтожились. Это число и отдаленность митрополичьих кафедр свидетельствуют о миссионерской ревности предков сиро-халдейцев в то время, когда «их численность, вместе с иаковитами, превосходила греческую и латинскую церкви». И действительно, в одно время в сиро-халдейской церкви считалось 28 митрополитов, и теперь едва ли можно сомневаться, что древние миссии этой церкви распространялись до Китая, где на знаменитом памятнике Синганфу «излагается история несторианской церкви от первой миссии в 636 году до текущего 781 года». Последний год совпадал с временем католикоса Хнанишу, и памятник этот был воздвигнут Естбуздом, священником и хорепископом Чумдана, тогдашней столицы Китайской империи. Из этих митрополитов, епископ Парисский или Фарсский имел особые обрядовые преимущества и мог носить бируну или митру, а также и посох до конца литургии, подобно патриарху, как на кафедре, так и в алтаре23.
В настоящее время, кроме митрополита и патриарха, имеется три епископа в Персии и семь в Турции: но некоторые из них имеют только номинальные епархии. Патриаршая епархия, с другой стороны, огромна, гораздо больше по объему, чем может управлять один человек, особенно в виду гористого характера страны. В нее входит большая часть племенных сирохалдеев. Другие диоцезы, по-видимому, разделены весьма неудобно и подлежат частым переменам. В равнине Урмии, в различные времена, было по несколько епископов, но, или при их смерти не оказывалось назореев, или по какой-либо другой причине вакансии не замещались, и эти различные епархии были соединены в две. При таком случае вакантная кафедра отходит к патриарху, и он распоряжается ею по своему усмотрению24.
О теперешнем способе замещения епископских кафедр было уже сказано выше. Старый способ был совершенно другой. По смерти епископа, митрополит созывал епископов своей провинции, отправлялся в город и созывал собрание; все собрание затем избирало подходящую личность, причем выбор, большей частью, падал на монаха. Митрополиты и епископы затем рукополагали избранника, все возлагали на него свою правую руку, а митрополит совершал самое богослужение. Новый епископ затем отправлялся с особой грамотой к патриарху для утверждения. Собирать требовалось несколько епископов, по крайней мере, трех, и если в данной провинции не оказывалось епископов, то митрополит мог призывать епископов и из других провинций. Особые постановления были сделаны против избрания лица против его воли; человека, который осужден за какое-нибудь преступление; против назначения епископом себе преемника; и, касательно низложения епископа, получившего свой сан посредством симонии. Когда епископ был рукоположен, митрополит посылал своего хорепископа возвести его на трон в его епархии, и в пределах юрисдикции епископа никто не мог сделать этого. Согласно с некоторыми свидетельствами, кафедральный город должен дать свое согласие на назначение всякого, кого желает митрополит; по другим, митрополит должен рукополагать того, кого избирает кафедральный город25. Преимущество епископов признавалось не по времени их рукоположения, а согласно с древностью основания их кафедр; и преимущество провинций признавалось подобным же образом. Все епископы старшей провинции занимали место выше епископов новейшей провинции. Епископ в книгах и грамотах называется епископом, но народ попросту называет его абуна, т. е., отец наш. В равнине Мосульской это последнее название придается также и главным священникам. В Урмии, в обращении к епископу, называют его маму, т. е., дядюшка. В горах его называют «отец мой», «возлюбленный мой» (и это название наиболее частое), или «достопочтеннейший мой».
Обязанности сиро-халдейского епископа довольно сложны и многочисленны, так как ему приходится близко соприкасаться с народной жизнью. Значительная часть его времени проходит в улаживании споров, в примирении врагов, в расследовании бракоразводных, а часто, особенно в горах, и других судебных дел. По временам, ему приходится совершать любопытную обязанность приведения человека к присяге. Присяга не всегда требуется от свидетелей, но на нее смотрят как своего рода испытание, и ей придается большая важность. Она не считается просто формальным делом, а совершается епископом с разными увещаниями и назиданиями. Иногда, когда мусульманский правитель в Урмии не сомневается касательно известного дела или равнодушно относится к нему (будучи одинаково подкуплен обеими сторонами), он отправляет одного из тяжущихся к епископу для совершения присяги. Епископ ведет его в церковь и, после нескольких молитв, заставляет его клясться па Евангелии и дает удостоверение в этом смысле. Взятая таким образом клятва считается в высшей степени священной как христианами, так и мусульманами. Вообще, когда тяжущихся двое, а сила доказательств лежит на стороне одного, другому предоставляется на выбор: или самому подвергнуться испытанию присяги, или заставить поклясться своего противника26.
Каждый епископ был обязан созывать свой епархиальный совет дважды в год при посредстве своих хорепископов, причем жители всех деревень приходили к нему выразить ему свое почтение и получить от него причащение.
Многие обыкновенно приходили раз в год. Единственный остаток этого обычая заключается в существующем обычае поселян приходить в праздники Рождества и Пасхи для получения от епископа праздничного благословения.
Едва ли можно ожидать, чтобы бедный народ, в роде сиро-халдейцев, давал значительные суммы на содержание своего духовенства, и поэтому даже епископы часто весьма бедны. Большинство из них имеют небольшие поля или виноградники, которые обрабатываются их братьями и племянниками, а в некоторых случаях и ими самими. Большая часть дохода епископов, однако, получается от так называемой ришиты или первых плодов, которые поселяне добровольно уплачивают ежегодно. Раз в три года все деревни, по правилу, делают приношение патриарху, и один из его родственников обыкновенно обходить различные округа с этою целью. Так содержится весь патриарший дом. Что касается доходов приходских священников, то они весьма ничтожны; часто священник ровно ничего не получает от своих прихожан, кроме тех доходов, которые удастся получить по случаю свадеб и крестин27. Вследствие этого, рукоположение у сиро-халдейцев не считается препятствием к занятию мирским трудом, и большая часть сельского духовенства находить себе существенное подспорье в торговле или других подобных занятиях.
Главная обязанность епископа состоит в рукоположении пресвитеров и диаконов; так как меньшие степени иподиаконов и чтецов вышли из употребления, то епископы рукополагают юношей прямо в сан диакона. Прежде, говорит книга, приписываемая Мар-Шимуну Барсебаю, хорепископы могли рукополагать чтецов и иподиаконов, но не священников или диаконов: но этот обычай был отменен «собором халкидонян». Нельзя не отметить при этом анахронизма в книге, относящейся, будто бы, к четвертому веку.
В деяниях халкидонского собора нет такого канона. При всех рукоположениях как епископов, так пресвитеров и диаконов, на голову рукополагаемого возлагается только правая рука; об этом прямо говорится в уставе и не раз указывается и в старых сирийских книгах28. Быть может, это объясняется тем, что, по их толкованию, выражение ап. Павла «дали руку общения» (Галат. II, 9) относится к рукоположению. Рукоположение совершается у дверей святилища, причем епископ сначала простригает волоса рукополагаемого в форме креста. Рукоположение не может совершаться в неосвященном месте; но когда были еще диаконисы, они рукополагались в баптистерии или в «доме диакона», который находится на южной стороне святилища и соединяется с ним дверью. Священники и диаконы постепенно возводятся в алтарь епископом, который произносит молитву на каждой ступени. Они несколько раз делают земные поклоны перед алтарем и принимаюсь от епископа целование в щеку, причем сами целуют ему руку. После богослужения, все друзья и знакомые рукоположенных лиц целуют их и говорят: «да будет благословенно твое рукоположение». Это очень древний и некогда бывший всеобщим обычай29. В равнине Урмии за рукоположением обыкновенно следует пиршество.
В настоящее время канонический возраст для рукоположения очень низок. Сунгадус говорит: «чтецы не могут быть рукополагаемы до прошествия отрочества, как бы ни были учены, иподиаконы – когда почти уже взрослые; диаконы – немного позже, а священники – около восемнадцати лет. Но по древнему правилу – не раньше тридцати лете» 30. С этим последним правилом согласуется и «Книга небесных разумений». На практике священники редко рукополагаются в восемнадцать лет, но обыкновенно возрастом для диакона считается семнадцать лет. Иногда также в сан епископа рукополагаются совершенно молодые люди или даже дети, когда их предшественники умирают, а между тем не оказывается другого назорея; и не редкость, что в сан диакона посвящаются мальчики, когда им не более десяти лет.
Хотя приходской священник получает мало вознаграждения, однако он пользуется высоким уважением в деревне; в действительности, он вообще главное там лицо и ему оказываются значительные почести; прихожане целуют ему руку и почтительно называют его «рабби» или «рабби каша»31 и на праздничных обедах он занимает главное место. Обязанности его многочисленны. он «совершает крещение и приносит жертву (евхаристию), читает Евангелие на амвоне, обручает женщин, погребает мертвых, разрешает грешников и совершает все необходимые части священнического служения, за исключением освящения алтаря елеем, преступников принимает в общение, разрешает грешников чрез покаяние, вяжет и решит, потому что он получил священство. Он возлагает руку на больных к их выздоровлению». он должен улаживать небольшие распри в согласии С своими «белыми бородами» (старшины), которые, нужно заметить, оказывают значительное влияние на действия священника. Но все более важные дела подлежат решению епископа, как в действительности, так и по закону. Священник не может совершать отлучения, когда неподалеку находится епископ32.
Священник почти всегда рукополагается в той деревне, где он воспитался, и, в действительности, он на всю жизнь остается в той же самой деревне. Строго говоря, раз человеке посвящен служению в известном приходе, он не может оставить его и уйти на другое место; равным образом, с другой стороны, священник не может поставить вместо себя кого-нибудь другого, за исключением какого-нибудь важного преступления, за которое он обвинен по суду. В этом случае низложенный священник не может искать себе другого места. Но если священнике не ради выгоды желает оставить свой приход и перейти на другое место, то епископ или посетитель может дать ему отпуск. Священник таким образом занимает прочное положение, и обыкновенно для епископа всегда оказывается весьма трудно сместить его; но он не может искать повышения в видах получения большего материального вознаграждения.
Приходские священники весьма часто сыновья местных же священников, причем священство в известной деревне таким образом часто держится в руках одного и того же дома из поколения в поколение. Касательно их брака нет каких-либо ограничений. Безбрачие духовенства отменено в 499 году собором в Селевкии, при католикосе Бабее, когда даже католикосам дозволено было вступать в брак33. Сунгадус косвенно допускает брак духовенства, говоря, что монахи не могут вступать в брак, подобно остальным духовным и мирянам34. в действительности, безбрачных священников почти не встречается; во всяком случае, их можно пересчитать по пальцам одной руки. Духовенству позволяется вступать в брак и после рукоположения. В чине брака есть особое песнопение, которое назначено петь, когда женихом бывает священник. Нет запрещений и против повторительных браков.
Священники в настоящее время не носят особой одежды в своей повседневной жизни, хотя в горах часто или даже вообще отличительным их признаком служить черный тюрбан. Для западного человека, пожалуй, несколько странно видеть достопочтенное духовное лицо, с большой белой бородой, одетым в короткую куртку, как это постоянно можно видеть в горах Курдистана. в равнине Урмии священники одеваются в цветные халаты и носят меховые шапки, но епископы носят тюрбаны и длинные одежды и выглядят совершенно по духовному. Каноны говорят, что все духовные лица должны отличаться от мирян одеждой и пострижением, а также опоясыванием чресл; они не должны носить колец или ножей за поясом. Один священник (каша Даниил), в деревне Цаити в Тиари, имеет наследственное право носить кинжал, потому что он один из рода «стражей» (вероятно, против курдов соседнего округа Бервера). Быть может, это идет с того времени, как в 1843 году Бедр-хан-бек произвел большое избиение среди христиан.
Древний закон Константина Великого, что духовенство должно быть свободно от налогов (что побудило многих недостойных лиц искать низших степеней священства), все еще продолжает сохраняться в постановлении персидского правительства, по которому приходские священники могут не платить поголовной подати, взимаемой со всех христиан, вместо обязательной военной службы. Хотя с этим связывается сбережение только каких-нибудь полутора рублей в год, однако привилегия эта ценится высоко и часто служит причиной жалоб правительству, когда деревенский старшина или его уполномоченный взимает подать вопреки этому закону.
Изложенный порядок избрания приходского священника и теперь исполняется почти в точности, за исключением того, что епископ действует в качестве своего собственного хорепископа. Когда умирает священник, хорепископу дается приказ отправиться в данную деревню, собрать поселян и заставить их избрать себе приходского священника. Когда это сделано, епископ рукополагает его. Избранник может быть рукоположен только своим собственным епископом, и даже митрополит не имеет на это права; но патриарх может рукополагать всякого, кого он хочет. По правилу, всякая деревня, имеющая от 30 – 60 домов христиан должна иметь своего священника. Но, в действительности, в то время, как во многих деревнях, особенно в равнине Урмии и в округах райи в Турции, нет ни одного священника, так что с требами они должны обращаться к чужому священнику отдаленных местностей, во многих других деревнях имеется значительное число лишних священников, которые, быть может, в течение всей своей жизни ни разу не имеют случая совершить евхаристию. В деревне Ашита, в округе Тиари, имеется не менее шестнадцати священников и более семидесяти диаконов при одной церкви. Это, конечно, нелепость, но по деревням часто бывает много священников и диаконов, которые нередко рукоположены без надлежащего испытания и без всякого титула. Епископу иногда только в субботу вечером приходить мысль рукоположить кого-нибудь во священника, и уже утром в воскресенье он рукополагает его. Он знает способности человека по личному знакомству или по слухам, – так как рукоположенный должен будет прожить всю свою жизнь в одной и той же деревне; и если он умеет читать на древнем сирийском языке и потому совершать службу, то епископ рукополагает его без всяких дальнейших испытаний. Это, впрочем, не такое зло, как может показаться западному человеку, так как всякий знает достоинства кандидата гораздо лучше, чем это возможно на Западе, где жители неизмеримо подвижнее; да епископе притом значительно руководится общественным мнением. Он едва ли бы рукоположил священника, а пожалуй и диакона, если бы этого не желали его поселяне. Гораздо худшее зло заключается в наклонности многих священников равнины Урмии отправляться нищенствовать в Россию, а часто и в другие европейские страны. Русские власти делают похвальные усилия остановить это нищенство; но для собравшегося на это поприще человека очень легко перейти границу под видом мирянина и затем пользоваться своим священным саном для получения щедрой милостыни от русских крестьян. Многие из этих попрошаек идут под названием поклонников к святым местам (мукдуси): и из их похождений рассказывается много разных анекдотов. Так однажды они нашли мертвого осла и, взяв одну из его ног, обваляли ее в земле, чтобы она казалась долго лежавшей там, и, придя в одну деревню, стали рассказывать, что это нога того самого осла, на котором Спаситель совершил Свой вход в Иерусалим, уверяя, что они принесли ее с собой из Св. Града. Получив за эту ногу значительную сумму, они затем продали три других ноги в других деревнях и нажили немало денег. После этого им, конечно, следовало бы возвратиться домой, но алчность их разыгралась, и они нашли другого осла и опять стали продавать еще ногу. Но, на их несчастье, к этому времени весть об этом распространилась по всем окружающим деревням, и так как даже всякий невежественный мужик знает, что у осла не бывает пяти ног, то мнимые паломники были схвачены, вся их добыча была отнята у них, а сами они заключены в тюрьму. Анекдот этот, вероятно, старый, но он хорошо иллюстрирует те рассказы, которые народ передаете друг другу. Печально, что героями этих рассказов почти всегда бывают священники, и еще печальнее, что многие получают рукоположение только с целью отправиться в Россию и нищенствовать. Но, как говорит автор «Небесных разумений», хотя в церкви есть и дурные священники, однако путь Божий, лежащий по их головам, верен и приношение, которое они совершают, есть чистое, потому что его освящает Св. Дух, и их крещение есть также истинное, потому что благодать Божия не разрушается и народ не терпит ради непригодности священника, а терпит только сам священник.
Диаконы у сиро-халдейцев совершенно необходимы, так как ни евхаристия, ни крещение не могут быть совершены без них, и кроме того им принадлежит определенная часть во всяком богослужении. Отсюда диаконов в сиро-халдейской церкви много, и рукополагаются они в раннем возрасте,– так что почти каждая деревня имеет, по крайней мере, одного диакона. Те деревни, в которых нет диакона, пользуются диаконом из соседней деревни. Священник также не может совершать евхаристии без диакона, как и диакон без священника, хотя если служат два священника, один может служить в качестве диакона. Диакон, в сущности, не более, как аколуф; на практике ему никогда не позволяется крестить, и только в недавнее время, в равнине Урмии, епископы стали позволять более ученым диаконам произносить проповеди. Таким образом, по-видимому, нет оснований, почему диаконы не должны бы быть рукополагаемы в слишком юном возрасте. Рукоположение их не служит препятствием к их мирским занятиям или ко вступлению в брак. Едва ли есть такой диакон, который бы не работал сам на поле или не занимался каким-нибудь промыслом. В оправдание этого они указывают на примерь ап. Павла. Диаконство не считается простой ступенью к священству. У сиро-халдейцев рукоположение во священника считается великим шагом. Человек часто остается диаконом в течение всей своей жизни, и часто не повышается и даже не ищет возведения на высшую степень. Добрый, старый рабан Ионан, умерший диаконом, обыкновенно говорил, что он не достоин рукоположения в сан священника.
Обязанности диакона состоять в том, чтобы помогать священнику при служении литургии, произносить молитвы, а также ектении. Сиро-халдейский диакон также зажигает свечи и совершает каждение, ударяет в цимбалы, отдергивает завесу, произносить «мир вам» от лица священника народу; он может также делать священные хлебы для освящения и для антидора, и приготовлять чашу, хотя все это собственно делается священником; он убирает святилище и «украшает алтарь»; читает «Апостола» в тех, впрочем, редких случаях, когда он читается вообще, льет воду на руки священника при умывальнике; и один диакон, облачаясь в священные одежды, держит в руках большую тарелку для священника при причащении народа, причем другой держит самую чашу.
Каноны говорят, что юноша не может быть посвящен даже в иподиакона, пока он не знает псалмов наизусть. Как ни поразительны в этом отношении способности сиро-халдейцев, однако можно сомневаться, может ли кто-нибудь из них прочесть всю Псалтырь без книги, даже среди священников. Диаконы, прежде чем получить рукоположение, должны получить на это согласие своего приходского священника и мирян своей деревни. Каноны также говорят, что в одной деревне или городе должно быть не более семи диаконов. Но это постановление давно составляет мертвую букву.
Когда-то у сиро-халдейцев были диаконисы, которые уцелели только в весьма немногих местностях. Они должны иметь шестьдесят лет от роду, и обязанность их состоит в служении при крещении взрослых женщин.
В сиро-халдейских церковных книгах кроме иподиаконов и чтецов, признаются еще: 1) заклинатели, которые должны быть монахами; они не рукополагаются, но просто получают полномочия со стороны епископа. Теперь их не существуете больше; 2) сакристаны, которые должны быть диаконами или священниками. Они заботятся о святилище, заготовляют материалы для чаши, и вместе се священником потребляют то, что остается от св. Таинства; 3) экономы, которые заведуют церковной утварью; 4) привратники, которые заведуют оградой, созывают народ на молитву, ударяя в семантрон (накуша), т. е. в продолговатую доску, которая в старинных церквях заменяете место колокола, и они также возвещают верным, когда кто-нибудь умирает, чтобы все могли присутствовать при погребении. Три последние должности существуют, и в настоящее время.
Монастырей у сиро-халдейцев теперь не имеется. Старые монахи не ели мяса и имели только одну полную трапезу в течение дня. При этом они руководствовались правилами, изложенными к книг Сунгадус. Монастыри принадлежали епархиям и находились. под надзором посетителей (периадуты), которые были представителями епископа и несли перед ним ответственность за них. Но некоторые монастыри были независимы и находились под управлением патриарха. Никакой посторонний епископ, ни даже митрополит не мог входить в них, кроме исключительных случаев и в качестве гостя, и они, в строгом смысл, считались независимыми от епархиального управления35.
Глава IV. Богослужение у сиро-халдейцев
Семантрон созывает народ на молитву. – Часы молитвы. – Внешний и внутренний вид церквей. – Снимание обуви. – Всенародное пение. – Богослужение по воскресным п праздничным дням. – Освещение во время богослужения. – Молитва за угнетателей. – Призывание святых.
Каждое утро и вечер, перед восходом и заходом солнца, все сиро-халдейцы, чуткие к своим религиозным обязанностям, собираются в церкви для ежедневных молитв. В этом отношении они могут устыдить западных христиан. Они не считают достаточным присутствовать за богослужением по воскресным дням; даже в будничные дни многие деревенские церкви наполняются благочестивыми богомольцами из народа, одетого в свое повседневное платье. Даже одетые в лохмотья, они не считают стыдом стоять в церкви и возносить свои молитвы и славословия Творцу. Женщины, правда, в будничные дни обычно заняты своими домашними делами: но мужчины, перед началом и по окончании своего дневного труда, обычно собираются в церковь, когда призываются на молитву ударами семантрона. «Как Ной», говорит автор «Небесных разумений», «бил деревом о дерево, предостерегая народ входить в ковчег завета, так и мы бьем в семантрон. Это есть образ труб судного дня». Можно даже пожалеть, что это старинное орудие теперь постепенно уступает место новейшему колоколу, который вводится из России.
Как только раздаются всем известные удары семантрона, народ со всех сторон начинает двигаться к церквям, которые на первый взгляд далеко не похожи на то, что мы называем, церквями. Многие из церквей райи в Турции и в равнинах Урмии весьма бедны и невзрачны, почти не имеют никакого убранства, занавесей и даже книг. Но есть и церкви, которые построены еще до Магомета и представляют собой более видные здания. Патриаршая церковь Мар-Шилита в Кочанисе может быть принята за образец церкви по форме и расположению. Но она отличается от других теме, что расположена на скале, даже отчасти вделана в нее, и главный корпус построен из тесаного камня. Корпус церкви представляет собою правильноугольный параллелограмм, длинные стороны которого идут с запада на восток, и в церковь входят через низкую дверь, на несколько футов поднятую над почвой, так что собственно в церковь можно входить при посредстве лестницы. Нужно заметить, что и вообще в большинстве церквей входные двери устраиваются таким же образом, именно весьма высоко от земли, и притом весьма малого размера. Это объясняют желанием предохранить святилища от осквернения со стороны мусульман, которые в прежнее время не стеснялись всячески издеваться над христианскими церквями, например, загоняли в них свой скот, а всадник прямо на коне въезжали в церкви. Подобное бесчинство и было устранено тем, что двери стали строит весьма маленьких размеров, и притом на значительном возвышении от почвы. Едва ли нужно говорить, что на крыше этих церквей нигде не видно креста, который тщательно скрывается из опасения оскорбить мусульманский глаз, и единственным знаком христианства с внешней стороны здания служит лишь небольшой крест над дверью, к которому благоговейно прикладываются все входящие в церковь. В горах церкви иногда строятся у обрывистого отвеса холмов, так что одна стена состоит из природной скалы. А в одной бедной церкви в южном Бервере природная пещера составляет даже главное святилище храма, так что искусственно построены только пристройки для крещальни и наружных помещений. В каждой церкви содержится хотя часть мощей святого, имя которого она носит. В некоторых находятся гробницы одного или нескольких святых; обыкновенно они хранятся в стене у восточного конца святилища.
Большинство церквей в равнинах, да и в горах, сравнительно новейшего происхождения, и большая часть из них в высшей степени жалки по своей внешности. Издали невозможно и подумать, что это церкви, и единственно чем они отличаются от овечьих загонов или других подобных зданий, это тем, что он обыкновенно снаружи выкрашены в белое, или несколько повыше. Ни один европеец не мог бы узнать, что это за здания; и всякий, узнав, что это церковь, невольно приходите к ужасному сознание того печального положения, в котором находятся христианский народ и сама христианская религия под игом магометан. И смотря на это жалкое состояние храмов Божьих, не нужно удивляться, если церковь и по своей внутренней силе несколько потеряла в своей нравственной красоте и достоинстве. По этой же причине не нужно слишком строго судить и о ее сынах, если иногда бывает, что они оказываются недостойными своего призвания и заразились от той нравственной атмосферы, которая образовалась под влиянием развращающего примера господствующей расы и собственных, нравственных и материальных страданий народа. Но это именно тяжелое положение народа и делает его в высшей степени набожным, так как в церкви только он и находит себе подкрепление и надежду.
Так как в стране этого первобытного народа обыкновенно нет часов, то богослужения распределяются по указанию солнца. В горных деревнях, например, вечерние молитвы начинаются в тот момент, когда солнце достигает известного пункта. На горах однажды все были в большом негодовании, когда, благодаря одной случайности, мальчики миссионерской школы были созваны на молитву, только после захода солнца, между тем как муэдзин на ближайшей мечети раньше созвал своих учеников па молитву. «О равви», восклицали школьники, «зачем ты так долго оставлял нас без молитвы? Для нас грешно начинать после того, как начали уже мусульмане»!
Чтобы показать, как совершаются богослужения у сиро-халдейцев, опишем вечернее богослужение. Первое, что требуется сделать при входе в церковь, как и при входе во всякую комнату, это снять сапоги и оставить их у дверей. По окончании богослужения, всякий выбирает именно свои сапоги, подобно тому, как в наших деревенских церквях крестьяне выбирают каждый свою шапку. Снятию шапки они не придают особенного значения. Хотя, в отличие от мусульман, они и снимают свои шапки или тюрбаны во время самого богослужения, но не считают непристойным иметь на себе шапки в церкви, когда в ней не идет богослужения. Но, по их мнению, было бы грубым неблагоговением войти в церковь в сапогах. Они буквально понимают повеление Моисею снять сапоги со своих ног: «ибо место, на котором ты стоишь, свято»; равно и «начальник сил Господних сказал Иисусу Навину: сними сапоги с ног твоих; «ибо место, на котором ты стоишь, свято» (Исх. 3: 5; Иис. Нав. 5: 15). Один ученик миссионерской школы, присутствуя при богослужении европейских миссионеров, однажды сказал: «Что особенно удивляет меня в вашем богослужении, так это то, что вы не снимаете сапог». Но это, по-видимому, не всегда было так, потому что книга Сунгадус запрещает священникам входить в церковь или какое-нибудь общественное собрание без сапог или чулок, или совершать божественное богослужение без священнического облачения, или в сандалиях; но она предписывает для этого особые сапоги, если их можно достать.
В Тиари и некоторых других горных округах обычай несколько разнится от только что описанного. Там вообще не носят сапогов, а носят кожаные или войлочные сандалии, которые привязываются к ноге; эти сандалии не снимаются при входе ни в дом, ни в церковь. Но духовное лицо, желающее войти в святилище, заменяет их особыми туфлями, имеющимися в крещальне. Кинжалы и другое оружие, трубки и палки не берутся с собою в церковь.
При входе в церковь народ прикладывается к кресту над дверью и затем входит (или вернее – влазит) в самую церковь, где, кладя на себя крестное знамение и делая поклоны, благоговейно целует крест, лежащий на аналое. К этому кресту сначала подходите епископ или старший священник, делает крестное знамение и, прикладываясь, говорит: «Слава Богу в вышних (трижды), и на земле мир, и добрая надежда людям, во все времена и во веки». Затем он становится у северной стороны храма близ креста, и все по порядку подходят, целуют крест и затем руку священника, и становятся позади друг друга в линию. Если есть и другие священники, то диакон и миряне целуют также и им руки. В это же самое время они произносят молитву Господню, усложненную следующим, своеобразным способом:
«Отче наш, иже еси на небеси, да святится Имя Твое. Да приидет царство Твое. Свят, свят, свят еси. Отче наш, иже еси на небеси. Небо и земля исполнены величия славы Твоея. Ангелы (букв, «бдительные») и мужи взывают к Тебе. Свят, свят, свят еси. Отче наш, иже еси на небеси, да святится Имя Твое. Да приидет царство Твое. Да будет воля Твоя на земли, якоже и на небеси. Хлеб наш насущный (букв, хлеб нам нужный) даждь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое есть царство, и сила, и слава во веки веков, аминь. Слава Отцу, и Сыну, и Св. Духу, во веки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небеси, да святится Имя Твое. Да приидет царство Твое. Свят, свят, свят еси. Отче наш, иже еси на небеси. Небо и земля исполнены величия и славы Твоея. Ангелы и люди взывают к Тебе. Свят, свят, свят еси».
Молитву Господню всегда произносят с славословием, иногда просто, а иногда в усложненной форме, как сказано выше. По окончании ее диакон говорит: «Будем молиться, мир будет с нами», и священник начинает богослужение.
Так как богослужение все совершается на древнем сирийском языке, то миряне, особенно старики и старухи, не могут вообще следить за ним, за исключением общеизвестных мест. Но все, кто умеют читать по старым книгам, продвигаются к книгам, которых всегда бывает не более двух, а часто и всего одна, и становятся около них. Для них безразлично, как по отношению к ним лежит книга, вверх ногами или боком, – они в состоянии разбирать ее почти с одинаковой легкостью со всех сторон. Таким образом, десять или двенадцать человек могут читать по одной книге, крупно напечатанной, причем одни смотрят через плечи другим. Эта легкость в чтении книги, даже когда она лежит по отношению к чтецам вверх ногами, объясняется тем, что язык им вполне знаком.
Певцы разделяются обыкновенно на два хора, которые попеременно, один за другим, поют значащиеся по уставу песнопения. Обычай петь двумя хорами приписывается правилу св. Игнатия, который в видении видел, как ангелы пели антифонно, и научил церковь антиохийскую, а чрез нее и всю церковь Востока, делать то же. Так как церкви почти всегда темны, то перед книгами обыкновенно держать в руках грубо сделанные восковые свечи. Так как подобного рода свечи скоро темнеют, то нагар с них снимается рукой, и самое состояние манускриптов, залитых воском, свидетельствует скорее о ревности певца к пению своих песнопений, чем о предосторожности не закапать книги. Сиро-халдейцы вообще любят общественное богослужение. Все их богослужение состоит преимущественно из песнопений; и все, кто могут читать, принимают участие в песнопениях во всю силу своего голоса, хотя часто не в тот же самый тон и не в полном согласии с другими. Но все вообще отдаются этим песнопениям с полною сердечностью и увлечением. Богослужение, состоящее из простых чтений, они сочли бы не стоящим времени и недостойным места.
Сиро-халдейцы всегда молятся по направленно к востоку, потому что Господь наш, говорят они, явится оттуда при Своем втором пришествии. «Ибо как молния происходит от востока и видна бывает даже до запада; так будет пришествие Сына человеческого (Матф. 24:, 27). Предание говорит, что когда Господь наш вывел Своих учеников в Вифанию и, воздев руки, благословлял их перед Своим вознесением, лицом он стоял к западу, и ученики поклонились Ему, обращаясь к востоку (Лук. 24: 50, 52). Таково происхождение этого обычая, по объяснению книги Сунгадус. В сочинении, заданном в школе ученикам, о пророке Ионе, один из учеников заметил, что кит повернулся к востоку, чтобы дать пророку больше возможности помолиться.
Изображений или икон в церквях не допускается, и о них нет упоминания в Сунгадусе и подобных книгах.
Причиной устранения икон, несомненно, было магометанство, которое ожесточенно преследовало всякие подобные изображения. Сиро-халдейцы больше подлежат таким магометанским влияниям, чем их соседи армяне, которые достаточно сильны, чтобы противодействовать им, и больше также имеют соприкосновения с Европой. Но, вероятно, иконы вообще мало употреблялись в восточных сирийских церквях. Место их занято крестом, к которому народ относится с величайшим благоговением. Все прикладываются к кресту над дверью, при входе в самую церковь, а также и к кресту, положенному в церкви, перед началом и после богослужения. Для женщин часто кладется еще особый крест, чтобы сделать целование креста доступным каждому. Крестное знамение у сиро-халдейцев в весьма частом употреблении. Они знаменуют крестом все, что подлежит освящению, а также хлеб, который они едят за обедом; и того, кто не кладет на себя крестного знамения, считают мусульманином или язычником. Поднося сложенные в крестное знамение пальцы ко рту, они говорят: во имя, затем, кладя их на лоб, прибавляют: Отца: на грудь – и Сына; на правое плечо – и Святаго, и на левое плечо – Духа.
Молятся сиро-халдейцы, как и другие восточные христиане, стоя. Обычай коленопреклонения почти вышел у них из употребления. Каноны, правда, говорят, что от Троицы до Пасхи должно совершаться коленопреклонение, за исключением воскресных дней и праздников, когда оно не допускается, потому что обозначает скорбь и печаль; но на практике сиро-халдейцы преклоняют колена лишь на несколько моментов перед призыванием Св. Духа за литургией и во время особых богослужений постом, да и тогда коленопреклонение у них выродилось в сидение. Для тех, кто имеет обычай сидеть на своих ногах на земле, это, впрочем, совершенно естественно; но несколько несообразно то, что наиболее торжественные части богослужения теперь связываются с этим именно наиболее удобным и легким положением. Миряне часто во время богослужения кланяются в землю, произнося благоговейные восклицания.
Среди замечательных особенностей сиро-халдейского богослужения можно отметить трогательные молитвы за угнетателей, в роде например следующей: «Испрашиваем также Твоего милосердия Господи, для всех наших врагов и всех ненавидящих нас; за всех умышляющих зло против нас: не о суде или мщении молимся Тебе, Господи Всемогущий Боже, но о сострадании и спасении, и отпущении всех грехов, ибо Ты хочешь всем человекам спастися и в разум истинный идти. Ты научил нас, чрез Твоего возлюбленного Сына, Иисуса Христа, Господа нашего, молиться за наших врагов и за тех, которые управляют нами с неправедным угнетением».36
К симпатичным особенностям сиро-халдейского богослужения нужно отнести глубокое благоговение к мученикам, а также и к Пресвятой Богородице, причем употребляемый в нем язык замечательно прост и чужд всякой риторики. Вот как, например, молитвы возносятся к Богородице:
Приидите и услышите, и Я скажу вам. Слушайте и удивляйтесь, мудрые. Дева родила в Вифлееме Свет всего мира, и ее память прославляется шествиями во всех четырех частях света и на небе ангелами.
Слава Отцу, и проч. Да будет сила, сошедшая С высоты, освятившая ее и украсившая честью, дабы она принесла истинный свет, надежду и жизнь тварям, – да будет с нами... Да будем мы, нашедшие убежище в молитве благословенной Марии, св. Деве, Матери Иисуса, Спасителя нашего, сохранены ею от лукавого, и да победим все его ухищрения. И да настанет тот великий день испытания, когда добрые, будут отделены от злых. Да удостоимся мы иметь радость с нею в чертоге Царя Небесного.
Сиро-халдейское богослужение отличается многочисленностью прошений, которые почти обнимают все стороны их жизни, и среди этих прошений есть прошение за их церковь, за патриарха, митрополита и епископа, которые все упоминаются по имени, по крайней мере два раза ежегодно, и о своих обыденных нуждах, а также возносится прошение за всех «сынов святой католической церкви в этой и во святой стране», за угнетателей, как сказано было выше, «за священников, царей и правителей, дабы они пребывали в мире церквей и в безопасности во всех концах мира», а также за «всех отошедших, которые отделены от нас и упокоились среди нас».
Привязывания святых в сиро-халдейских богослужебных книгах значительно развиты, имеют различные формы, и вообще отличаются здравым пониманием значения святых, как посредников между Богом и грешными людьми, как это истолковывается здравым богословием. Эти привязывания, отличающиеся вообще простотою и отсутствием излишней риторики, имеют три формы: 1) форму непосредственной молитвы к Богу о том, чтобы святые помолились за нас; 2) желания чтобы они сами молились за нас; 3) непосредственного обращения к ним. Вот образцы всех трех родов этого привязывания:
Слава Отцу, и проч. О Мария, матерь Царя, Царя царей, помолись Христу, происшедшему из твоей утробы, чтобы Он смиловался над нами Своею благодатью и удостоил нас Своего царства.
Но веки веков. О, Христе наш Спаситель, молитвою Твоих святых, пророков, апостолов, мучеников и всех праведников, сохрани Твоих верующих от всякого зла.
И весь народ да скажешь аминь и аминь. Святый наш Авва, будь нашим руководителем в добрых делах, угодных Твоему Господу, дабы чрез Твои молитвы мы получили помощь, и с Тобою имели радость.
И да будут ваши молитвы за всех нас. Да будут молитвы Гадая, Маккавея и Терсая, Хеврона, и Иисона, и Вакха, и Ионадава, седьмого сына, и их учителя Елеазара, и их матери, верной Шмуни, стеной для нас.
Изыде вещание их во все концы земли. Матфей, Марк, Лука и Иоанн, да будут молитвы ваши стеной для наших душ.
Взыщите Господа и силу Его. Вы мученики, просите милости для мира, который имеет свое истинное убежище в силе ваших мощей.
Глава V. Таинства в их совершении и приложении к жизни
Три литургии и их древность. – Приготовление материалов для евхаристии. – Сказание о святом хлебе. – Смешение чаши. – Причащение народа. – Сиро-халдейская проповедь о причащении. – Исповедь и отпущение. – Крещение и миропомазание. – Имена и прозвания. – Погребение умерших. – Кладбища. – Омовение после погребения. – Памятники.
Хотя, с богословской точки зрения, крещение бывает раньше причащения, но в сиро-халдейском богослужении порядок обратный. Крещение всегда совершается по окончании литургии; и в священническом служебнике (Тахсе) чин крещения помещается после трех литургий. Следуя этому порядку, сначала мы опишем причащение.
У сиро-халдейцев литургия совершается сравнительно редко, обыкновенно только в главные праздники в честь Спасителя и наиболее известных святых, особенно накануне Рождества, в самый день Рождества, в день Богоявления, в среду общественного моления ниневитян, три раза в течение поста, в Вербное Воскресенье, в Великий Четверг, накануне Пасхи, в самую Пасху, в день Вознесения, в Троицу, в день Воздвижения Св. Креста (14 сентября), и еще, пожалуй, в день св. Фомы (3 июля), Успения Пресвятой Марии (15 августа), Мар-Шимуна Барсебая и двух-трех других, а также в день святого покровителя церкви. В весьма многих деревенских церквях литургия совершается даже и еще реже; но, с другой стороны, в некоторых церквях в горах она правильно совершается по всем воскресным дням. Литургия всегда начинается рано, за исключением постных дней, когда причащение бывает поздно, часто даже после- полудня, с тою целью чтобы все могли поститься побольше, и, конечно, перед причащением никто не прикоснется к пище. По правилу, литургии должны предшествовать вечернее, ночное и утреннее богослужения, и ни один священник или диакон не может принимать участия в богослужении, если он не присутствовал также за этими тремя богослужениями. Но на практике, чтобы не было длинного перерыва между окончанием утреннего богослужения и началом литургии, священнодействующий и один из диаконов пекут хлеб и приготовляют чашу, между тем как остальные совершают утреннюю молитву.
По правилу, в церкви в один день может быть совершена только одна литургия. Но иногда в Великом посту, в области Тиари, совершаются две литургии; одна – рано для детей, которые не могут долго оставаться без пищи, и другая – после полудня для взрослых, которым предписывается не касаться пищи до самого причащения. Священник, которому приходится служить в нескольких церквях, может, по крайней мере в горах, совершить богослужение два или три раза в день в такие праздники, как Пасха или Рождество, по одному в каждой деревне.
У сиро-халдейцев имеется три литургии, приписываемые апостолам – Мар-Адаю, одному из семидесяти, и его ученику Мар-Марию, которые были «просветителями Востока», – Феодору Толкователю и Несторию. Крайне невероятно, чтобы, последние две были написаны этими двумя лицами, потому что в них не содержится ни малейшего намека на несторианство, и кроме того, он чисто восточно-сирийского происхождения и сильно отличаются, по плану, от литургии, употребляемых в Мопсуесте и Константинополе. Правда, что третья литургия носит на себе много признаков константинопольского влияния, но это можно объяснить тем, что какой-нибудь сиро-халдейский автор, при составлении своей литургии, имел пред собою какую-нибудь константинопольскую литургию и руководился ею. В прежние века отдаленные сиро-халдейцы находились в частых сношениях с греками, как это можно видеть из множества вошедших в их язык греческих слов, особенно церковных слов. И это было не только в самые первые века, но и в то время, когда могли быть введены в употребление такие слова, как патриарх, митрополит, архидиакон, иподиакон и другие. Вероятно, поэтому, что в течение четвертого или в начале пятого века, какие-нибудь ученые сиро-халдеи, из которых один, по крайней мере, имел доступ к греческим литургиям, и составили эти литургии, которые известны под именами и Феодора и Нестория. Крайне невероятно, чтобы они возникли позднее возникновения Несториевой ереси, и почти невозможно, чтобы патриарх константинопольский, который, как можно предполагать, ничего не знал о литургии Селевкии и Ктезифона, мог составить часть литургии по плану, столь не похожему на то, к чему он привык. Но сходство третьей литургии с литургией Василия Великого может служить достаточным, объяснением того, почему она приписывается Несторию. Обыкновенно объясняют, что третья литургия есть подлинное произведение Нестория, и что восточные сирийцы, найдя ее столь похожею на свою собственную литургию, сразу порешили, что автор ее должен быть православен, и стали на его сторону.
Этот исторический очерк совпадает, с расхожим предположением о происхождении различных литургий. Каждый из апостолов, по народному верованию, написал особую литургию для той местности, где он трудился, и поэтому насчитывается собственно двенадцать христианских народов. При наступлении кончины мира, апостолы или предстоятели церкви все соберутся опять в Иерусалим и сравнят свои литургии, и та, которая окажется наилучшей, сделается литургией всего мира! Не трудно угадать, на долю которой, по сиро-халдейскому воззрению, выпадет эта честь.
Старая литургия христиан св. Фомы, или так называемых малабарских христиан, принадлежит к этому чину и, в действительности, представляет собою лишь новую редакцию литургии сиро-халдейских апостолов. Это показывает, как далеко простиралась миссионерская деятельность Селевкии. Но Мар-Шимун теперь уже не имеет себе приверженцев в Индии; живущие там христиане или римо-католики, или иаковиты. Теперешний Мар-Шимун рукоположил для Индии епископа или митрополита, как он назван был, но неизвестно, что сталось с ним.
Из трех литургий, первая, так называемая литургия апостолов, употребляется во все обычные дни и вообще можно сказать, всегда, кроме воскресных дней, от Рождественского поста до Вербного Воскресения включительно, когда употребляется вторая литургия, приписываемая Феодору Мопсуестскому; а в пять дней в году совершается третья, приписываемая Несторию, именно в праздник Богоявления, в день св. Иоанна Крестителя, в день так называемых греческих учителей, в среду моления ниневитян и в Великий Четверг, каковые все дни приходятся между Рождеством и Пасхой.
Сиро-халдейцы с особенной тщательностью заготовляют материалы для св. причащения. Они придают особенное значение непрерывности евхаристии через единство употребляемого для нее хлеба, всякий раз, как изготовляется хлеб для евхаристии, он не только заквашивается частью теста от последнего печения, как это делается со всяким хлебом, но также и небольшою частью священной закваски, которая из века в век передается во всякой церкви. Существует даже особое сказание касательно этой закваски, которая по народному верованию, передана сиро-халдейцам основателями их церкви, Мар-Адаем и Мар-Марием. Вот что говорится по этому поводу в одной древней рукописи.
«При крещении нашего Господа св. Иоанн собрал воду, падавшую с его тела, в сосуд, и перед Его смертью отдал ее Его ученику, Иоанну сыну Зеведееву, чтобы он сохранил ее, пока она не потребуется. Во время тайной вечери Спаситель дал по одному ломтю каждому из учеников, но св. Иоанну он дал два и велел ему один съест, а другой хранить для священной закваски. Когда воин пронзил бок Господа на кресте, из него вышли вода и кровь, и Иоанн видел их; кровь есть знак тайн тела и крови, которые суть в церкви, а вода есть знак возрождения верующих. Один только Иоанн заметил отделение крови и воды, и взял кровь на ломоть, который он сохранял от Пасхи, и воду в сосуд, который дал ему Иоанн Креститель. После сошествия Св. Духа, ученики вспомнили, что Господь повелел им в течение сорока дней приготовить закваску, которую они взяли от Его тела, и они взяли крещальный сосуд и примешали к нему оливкового масла, причем каждый взял из него по рогу для масла, употребляемого при крещении, и ломоть, который пропитался кровью Спасителя, они размололи на части, перемешали с мукой и солью, и разделили между собой, чтобы он мог навсегда служить закваской тела и крови Христовой в церкви».
Эта закваска время от времени возобновляется посредством особого чинопоследования, совершаемого священником, и диаконом в Великий Четверг; что остается в сосуде, смешивается с тестом, солью и оливковым маслом, и заквашивает все; и без этой закваски не может совершаться никакая евхаристия. Сиро-халдейцы рассказывают, что причина, почему «западные» ненавидят Нестория, заключается в том, что когда он бежал из Константинополя, то захватил с собою закваску и оставил их ни с чем! Некоторые писатели считают эту закваску даже таинством, но касательно числа таинств у сиро-халдейцев нет единогласия. Некоторые считают только два таинства, крещение и причащение. Другие насчитывают семь и прибавляют к двум главнейшим таинствам еще священство, святую закваску, разрешение, елеосвящение и знамение креста. Миропомазание составляет нераздельную часть крещения.
Хлеб и вино заготовляются еще до начала литургии, и только когда уже заготовлено все, раздаются удары семантрона и начинает собираться народ, который, впрочем, не спешить к самому началу богослужения, а большинство приходят лишь к половине службы, причем мужчины становятся впереди, а женщины сзади. После освящения даров совершается самое причащение; священник совершающий освящение, се своим первым диаконом выходят из алтаря в святилище, и народ приступает к причащению. Давая часть священного хлеба священнику, священнодействующей говорит: «Тело нашего Господа смиренному священнику во отпущение грехов». Давая диакону он говорит: «Дракону Божию», и мирянину: «бдительному верующему». Народ принимает святое причастие или в руку, или прямо в рот. В этом отношении нет особых правил в уставе. В то же время другой диакон подходите к отверстию в низкой двери с северной стороны и преподаете причастие из чаши говоря: «Драгоценная кровь во отпущение грехов, духовное брашно для вечной жизни смиренному священнику, или диакону Божию, и всякому согласно с его степенью». Все набожные вытирают себе губы после причащения цветным платком, подаваемым диаконом. Мужчины причащаются первыми, а за ними женщины. Трогательно видеть, с каким усердием приносятся к причащению маленькие дети. Те, которые едва могут ходить, подводятся их родителями или братьями, а младенцы подносятся матерями на руках, во исполнение заповеди Того, Кто сказал: «не возбраняйте детям приходить ко Мне». Дети получают причастие под обоими видами сразу от священника, дающего им хлеб, с этой целью обмакнутый в чашу, и уже не причащаются отдельно из чаши. Не особенно назидательна бывает картина, когда, по большим праздникам и в дни народных святых, в церкви бывает слишком много народа и когда часто происходит много толкотни и даже борьбы из-за желания первым подойти к причастию. Но нужно сказать, что народ этот по своему благоговеен, хотя благоговение его и не всегда проявляется в торжественном безмолвии. Вообще богослужение отличается значительной красотой, которая невольно поражает всякого постороннего наблюдателя.
Так как причащение занимает довольно долгое время, то богослужение продолжает идти независимо от него. Но нельзя не пожалеть, что большинство причастившихся уходят из церкви до окончания богослужения. Причастившись, они получают от священника или диакона часть священного хлеба или антидора и затем уходят из церкви. После нескольких молитв и благословений совершается целование мира и завеса задергивается, после чего священник и диакон сами приступают к причащению.
После богослужения иногда произносятся поучения или проповеди, и образцом может служить следующая проповедь одного молодого сиро-халдейского диакона:
«Прежде всего, братия, спросим себя, что такое святое возношение? Ответ: это есть принесение жертвы Богу. 2) Посмотрим теперь, с какого времени оно началось. Мы читаем, что оно совершалось от Адама; ибо Библия говорит: «Они сделали себе опоясание из кож и возложили на себя»37. Также Ной принес жертву после потопа, также Авраам и все отцы до времени сынов Израилевых, как это всем известно. Ибо мы читаем, что они приносили агнца совершенно чистого и непорочного. Это они делали дважды, а некоторые другие назывались вечными жертвами (?). Священник делал это во искупление, и кропил кровью жертвы тех, кто грешили. Но жертва эта не могла вполне спасать людей, потому что она была для нас только прообразом, данным для того, чтобы люди не оставались праздными (без жертвоприношений); а когда пришел Христос, то переменил ее на Свои тело и кровь; и Он был тою совершенною жертвою, которая принесена была на кресте.
«Господь наш в ночь, в которую Он был предан взял хлеб, благословил его и промолвил, говоря: «Сие есть тело Мое нового завета в Моей крови (sic), которое преломляется за вас». А также, взяв кровь, т. е., вино, он сказал: «Сие есть кровь Моя нового завета, пролитая за вас; сие творите в Мое воспоминание». Так всегда делали и апостолы, потому что св. Павел говорит: «Когда ядите этот хлеб и пьете эту чашу, смерть Господню возвещаете, дóндеже придет». так мы совершаем это таинство за наши грехи, чтобы быть омытыми. 3) Спросим себя: где должна совершаться эта жертва? Ответ: в церкви, которая освящена апостольским освящением (букв. возложением рук). 4) Кто должен совершать ее? Епископы и священники, которые посвящены апостольским посвящением. 5) Что же нужно делать? Нужно употреблять весьма чистую пшеничную муку и виноградное вино, как написано. «Не буду пить от сего плода виноградного, пока не буду пить новое в царстве Божием». 6) Кто освящает таинство? Бог Св. Дух. Два знамения нисходят на это таинство, – одно невидимая благодать, которую нельзя видеть, и одно, которое можно видеть, потому что оно прелагает хлеб и вино в тело и кровь Христа. И я верую, что человек, принимающий его с чистым сердцем и верою, не получить осуждения, но перейдет от смерти в жизнь. Необходимо, чтобы христиане приготовлялись к этому таинству и каялись во грехах. Аминь».
Чин крещения в сиро-халдейском богослужении относится к более позднему времени, чем литургии, по образцу которых он составлен. В нем есть освящение масла и воды, причем помазание и крещение соответствуют причащению под обоими видами, и общий характер и план богослужения почти одинаков в обоих случаях. Крещение совершается чрез троекратное погружение, причем священник, погружая ребенка в купель, сначала говорит: «N крещается во имя Отца» (ответ: «аминь»), и при втором разе: «во имя Сына» (ответ: «аминь»), и в третий: «во имя Св. Духа, во веки, аминь» (ответ: «аминь»). Священник погружает ребенка в воду до шеи, возлагает свою руку ему на голову, передает его . диакону, который одевает его в белые одежды и передает восприемникам, которые вполне одевают его, но не покрывают ему головы до совершения таинства миропомазания. Это таинство совершается чрез возложение рук, причем на голову ребенка возлагаются цветные венки, как и при совершении таинства брака.
Хотя чин крещения весьма похож на литургию, однако во время него не полагается целования мира, хотя этому обряду сиро-халдейцы вообще придают большое значение. О целовании мира при крещении упоминают св. Киприан, бл. Августин и св. Иоанн Златоуст, но о нем ничего не говорится в сиро-халдейском чине крещения. И однако, в том месте, где оно должно бы совершаться по аналогии с литургией, мы читаем слова: «Мир вам», на что дается ответ: «И с тобою, и со духом твоим», как и в другом богослужении; и, быть может, этим самым указывается, что здесь именно должно бы состояться целование мира, хотя и нет прямого повеления в этом отношении. Другою особенностью является то, что новокрещенным детям не дается причастия. Армяне причащают детей запасными дарами, прямо после окончания чина крещения, хотя крещение может совершиться во всякий час дня; сиро-халдейцы же не причащают детей, хотя можно бы ожидать, что они должны бы делать это, так как крещение у них совершается вслед за литургией.
Нужно заметить, что при крещении не бывает никаких вопросов восприемникам и не берется с них никаких обещаний, хотя они читают символ веры. Каждый ребенок имеет крестного отца и крестную мать, и эти крестные являются также свидетелями при вступлении их крестных детей в брак. Женщина, вступая в брак, отказывается от своих крестных отца и матери и берет восприемников своего мужа. Так это идет от отца к сыну. Так, напр., если А и его жена были восприемниками для Б (мальчика), то они будут также восприемниками и для детей Б; или если А и его жена умирают, то сын А и его жены будут восприемниками для детей Б, и т. д. Таким образом, крестный отец и крестная мать всегда берутся из одного и того же семейства, хотя в действительности они не всегда бывают мужем и женой. Как по обычаю, так и по канону, родство восприемников со своими крестными детьми рассматривается как родство близкое и, поэтому, служит препятствием к браку. Родство между крестным отцом и крестным сыном бывает самое тесное и продолжается в течение всей их жизни; и само название восприемник на народном языке означает «близкого человека».
Мимоходом можно заметить, что сиро-халдейцы всегда держат своих детей в свивальных одеждах, причем на голову ребенка надевается чепец. Нельзя вообще сказать, чтобы они умели придавать своим детям более или менее красивый вид. У них существует также любопытный обычай солить детей, что, будто бы, весьма хорошо для их здоровья. На этот обычай есть указание у пророка Иезекииля, когда он говорит о свивании детей (Иезек. 16: 4).
Крещение домашним способом теперь не допускается; оно может совершаться только в церкви после литургии. Если в деревне нет церкви, то ребенка приходится нести в другую деревню, где есть таковая. В некоторых церквях, впрочем. не совершается крещения, как, напр., в старой церкви в Ииале на турецко-персидской границе; детей там для крещения отправляют в находящуюся в долине большую церковь Мар-Бишу. Вследствие этого, часто встречается не мало препятствий для крещения детей, и дети нередко умирают без этого таинства. Но так как народ относится к крещению с величайшим благоговением, то не представляется много опасностей, чтобы ребенок вырос без крещения. Хотя, конечно, иногда и бывают подобные случаи, но если о них узнают, то крещение совершается и над взрослым. При обычных обстоятельствах крещение совершается в детстве. Один ученый священник, когда его спросили, что бы он стал делать, если бы умирал не крещенный ребенок, а между тем вблизи не было бы церкви, отвечал, что он совершил бы над ним крестное знамение во имя Св. Троицы. Так действительно и делается в подобных случаях, хотя указания на это и не встречается в книгах. Если после этого ребенок выздоравливает, то его несут в церковь и крестят по полному чину: если нет, то «все упование возлагается на милость Божию».
В некоторых местах детей знаменуют крестным знамением чрез несколько дней после рождения, когда даже не представляется никакой опасности. Это действие считается в высшей степени: важным, и в это же время дается ребенку имя. Такому знаменованию приписывается большое действие, и оно считается как бы таинственным обрядом. По временам даже мусульмане Урмийской равнины, которые вообще относятся с большим благоговением к старыми христианским церквям, приносят своих детей для совершения над ними знамения в какой-нибудь праздничный день, – отнюдь не потому, чтобы они хотели сделаться христианами, а просто потому, что смотрят на крестное знамение как на своего рода чары, которые по их мнению, могут оказаться полезными для ребенка.
Имена даются детям по большей части библейские. Если несколько смягчить их восточное произношение, то они весьма благозвучны. Таковы самые распространенные имена: Авенир, Авессалом, Захария, Иеремия, Иона, Иоанн, Гавриил, Моисей, Авимелех, Иессей, Иисус, Вениамин, Рувим, Исаак, Иосиф, Соломон, Симон, Фома и др. Преобладание библейских имен один исследователь не без основания приводит в подтверждение своей теории, что сиро-халдейцы составляют остаток десяти Израильских колен. В ходу также и другие имена, заимствованные от христианских святых, как, напр., Георгий, Урмизд (знаменитый монах), а также и несколько мусульманских имен, как Решид, Мансур, Аблахат. Среди имен встречаются нередко сложные имена в роде Хнаиишу, что значит Милость Иисуса, Сауришу – Надежда Иисуса, Аудишу – Раб Иисуса. Реже встречаются такие имена, как Дадишу – Дядя Иисуса, Ишуйяв – Иисус дал. Имя Спасителя, Ишу (Иисус), есть одно из самых ходячих мужских имен, и в народе нисколько не считается неблагоговейным носить его. В некоторых округах человек, родившийся в известный праздничный день, получает название того дня. Так, человек, родившийся в воскресенье, получает имя Хошабы (т. е., воскресенье или первый день), или Йомаран (день нашего Господа); родившийся в праздник Богоявления получает имя Динха (Восход солнца, древнее название этого праздника); в Вербное Воскресенье – Осанна; в Преображение – Гилиана (Откровение), и т. д. В книгах мы встречаем много любопытных сложных имен в роде «Слава Иисусу», «Слава Богу», «Слава нашему Господу», «Бог взыскал», «Сын церкви», «Сын монастыря», «Сын мучеников», «Иисус сжалился над нею», «Иисус- наша надежда» и т. д. Но эти имена уже не употребляются теперь. Женские имена, по большей части, заимствованы у мусульман и обозначают цветы и т. п.; по самое ходячее имя есть Мариам, по имени Пресвятой Богородицы; встречаются также имена Елисавета, Сарра, Ревекка, Рахиль и другие, заимствованные из Библии. Когда мальчик носит то же самое имя, как и его дед, то, по крайней мере в равнине Урмийской, он в течение жизни старика не называется собственным именем, а просто Баба; и это имя часто так и остается за ним в течение всей жизни, и делается самым ходячим из всех упоминаемых имен; но такого имени не дается при крещении. Сын никогда не может носить того же имени, как его отец. Нередко употребляются прозвания, и если нужно отличить друг от друга двух человек, носящих одно и то же имя, то к его имени прибавляют: «сын такого-то», или прибавляют название его ремесла или деревни, но прозвание по отцу или по ремеслу не выработалось еще в постоянное фамильное прозвище. Один сиро-халдеец, услышав, что все члены семейства в Европе носят то же самое фамильное имя, сказал: «Но как же вы различаете их между собою»? «Когда ему объяснили, катя там употребляются имена и прозвания, то ему показалось это в высшей степени сбивчивым; а когда ему сказали, что некоторые имеют (в Испании, Франции, Германии) до полдюжины имен и более, то это он счел крайнею глупостью.
В некоторых случаях, особенно в горах, все семейство или даже целый род известны под одним и тем же именем. Так, в деревне Ткума члены священнической семьи отличаются между собой только тем, что их зовут: такой-то из дома священника.
Чин погребения у сиро-халдейцев производит глубокое впечатление на тех, кому доступен древне-сирийский язык. Он содержится в двух книгах, называемых Кураста и Анида. Есть отдельные службы на погребение патриархов, митрополитов, епископов, священников, диаконов, мирян, женщин и детей. Чин погребения духовных, при полном совершении его, продолжается по крайней мере пять часов.
Погребение в жаркой стране, по необходимости, должно совершаться возможно скорее после смерти. Немедленно же после смерти посылаются ко всем знакомым умершего особые вестники; плотники начинают делать гроб, который они изготовляют в несколько часов; а если это недалеко от города Урмии, то гроб привозится готовый с базара, отличающийся от мусульманских гробов только небольшим сделанным из серебряной бумаги крестом на крышке; но в горах, когда умирает бедняк, дело обходится и без гроба, а просто вырывают могилу, которая обкладывается каменными плитами по сторонам. В этот каменный гроб кладут тело, прилично завернутое и покрытое одеждами, и когда служба еще идет, могилу закрывают сверху каменной плитой, и бросают землю, пока не закроется вся могила.
Когда делаются приготовления к погребению, все это время в доме происходят печальные сцены. Массой сходятся женщины и, вопя от скорби, рвут на себе волосы. Даже крепкие мужчины нередко предаются громкому плачу. Громкий плач считается данью умершему, и народ, вообще по природе чувствительный, предается в это время самой неудержимой скорби, хотя бы при жизни умерший не пользовался особенно большой любовью. При виде этой сцены, можно представить себе картину в доме Иаира, где свирельщики и народ производили такой шум и смятение, что Спаситель велел им удалиться. Невольно является мысль, что этот народ не вполне уразумел значение христианской смерти, как не уразумел и слове Христа: «не умерла девица, но спит». Такой же громкий плач, несомненно, бывал с самых отдаленных времен. Авраам приходил скорбеть по Сарре и плакать по ней (Быт. 23: 2). Это не просто значило, что он скорбел и не мог воздержаться от плача. Он нарочито пришел оплакать ее и скорбеть о ней, как бы принося дань любви и уважения своей скончавшейся жене. И когда он умер сам, и его сыновья Исаак и Измаил пришли хоронить его, то, несомненно, и тут было также много скорби и плача. Таково же было оплакивание Давидом Саула и Ионафана (2Цар. 1: 17), и Иосифом и египтянами – Иакова, вследствие чего самое место названо было Абель-мицраим – местом плача (Быт. 50: 11). Но такие проявления скорби легко могли переходить в пустую обрядность, и поэтому найдено было необходимым уже в древние времена постановить каноны против злоупотребления ею. Сирийский Сунгадус запрещает женщинам приводить языческих плакальщиков для оплакивания умерших под страхом отлучения; не позволяется этого делать также и мужчинам.
Существуют особые правила для омовения тела мертвых. В случае смерти монахов, монахинь, епископов, митрополитов и католикосов, им положено омывать только голову, руки и ноги; но после смерти простых священников и мирян можно омывать все тело. Тело патриарха должно быть омыто епископами. Тело мирянина омывается «седыми бородами», известными своею серьезностью и добротой; а тело женщины – престарелыми, пользующимися уважением женщинами.
Гроб выносится из дома на носилках. Отпевание мирянина редко совершается в церкви, и это совершенно понятно в виду того, что дверь в церкви бывает только одна и притом имеет всего каких-нибудь три квадратных фута, а притом и входить в нее нужно по лестнице, так что вносить тело в церковь бывает крайне затруднительно. Поэтому, отпевание в церкви совершается только большей частью над духовными лицами. После отпевания процессия прямо направляется к могиле, причем священники и диаконы идут впереди, антифонно распевая церковные песнопения, многие из которых отличаются поразительной красотой. Кладбище обыкновенно бывает за деревней и редко вблизи церкви. В самой церкви никто не может быть похоронен, кроме мучеников, кости которых книга Сунгадус предписывает «слагать в церквах в помощь нуждающимся». Но в летней часовне, примыкающей к церкви, «можно погребать епископов, а монахов можно погребать на особом кладбище внутри монастыря», какова, напр., небольшая красивая часовня в Иаковитском монастыре Мар-Матая (св. Матфея) близ Мосула, где покоится прах великого Григория Бар-Гебрея.
Погребальные процессии в Урмии имеют много общего с брачными процессиями. В обоих случаях бьют в барабаны, и раздаются звуки рожков; быть может, те же самые инструменты разумеются в рассказе об оплакивании дочери Иаира. Многие несут большие древесные ветви украшенные платками и яблоками. При погребении, за гробом следует лошадь умершего, неся его одежды на пустом седле. Нередко бывает, что в могилу соскакивает какой-нибудь человек, бьет себя в грудь и издает самые плачевные крики. Когда гроб опускают в могилу и покрывают каменными плитами, то все считают своим долгом бросить хотя горсть земли в могилу. Когда все закончено, родственники становятся по одну сторону могилы, и все присутствующие выражают им соболезнования, дают «исцеление их голове». Каждый из присутствующих, проходя касается рукой скорбящих родственников и говорить: «Да будет хорошо твоей голове».
Во многих местах есть любопытный обычай омовения после осквернения чрез прикосновение (хотя бы только метафорическое) к мертвому телу. По оставлении могилы, все отправляются к реке, и после некоторых молитв, вода благословляется знакомь креста, и все умывают себе лицо и руки. Обычай этот уже вышел из употребления в равнине Урмии, хотя следы его еще встречаются кое-где. После погребения народ часто отправляется в дом умершего, и там для него накрывается поминальный обед, за которым опять все желают «исцеления головам» родственников.
При погребении духовенства, тело обыкновенно вносят в церковь, и там над ним совершается полный чин погребения, а иногда и литургии. Одр священников ставится в преддверии храма, и только тело патриарха может быть внесено в святилище до паникадила. Его несут епископы и священники. По свидетельству некоторых, одр митрополита можно вносить в святилище, но не дальше того места, куда вносится тело патриарха. Члены всех степеней епископата погребаются в их церковных одеждах.
У сиро-халдейцев вполне сохранился и обычай последнего целования с умершим. Обычай этот весьма древний, и о нем упоминает еще св. Амвросий. Перед тем, как тело класть в могилу, все прощаются с умершим. Священники, диаконы и миряне все по очереди проходят мимо одра и целуют руку умершего, или иногда положенный у него на груди крест, и затем становятся в линию в голове могилы, причем подходят те, которые находились позади, и таким образом все совершают это последнее «целование мира».
Во второй и третьи дни совершаются особые утешительные богослужения для скорбящих, а в другие дни также совершается поминовение умерших. Совершается божественная литургия, родственники раздают милостыню, и после литургии все присутствующие приглашаются родственниками к обеду. В книге Сунгадус говорится, что эти поминки в старое время делались на третий и девятый день, и, согласно с апостольскими канонами, в тридцатый день и в конце года. Но, по наиболее распространенному обычаю, они совершались на третий и седьмой день. О мучениках совершается поминовение ежегодно. Поминовение об умерших друзьях и святых можно делать во всякий день, в воскресный или простой, даже по несколько поминовений вместе, исключая лишь праздничные Господские дни: Рождество, Богоявление, Вербное Воскресение, Великий Четверг, Пасха, Вознесение, Пятидесятница и Воздвижение Св. Креста, а также в два праздника апостолов (Семидесяти и Двенадцати, в седьмую пятницу и в воскресенье после Пятидесятницы), и в день освящения церкви,– за три воскресенья до Рождественского поста.
Надгробные камни часто делаются из простых грубых глыбе, прямо наваленных на могилы. Но более богатые люди кладут на могилу красиво вырезанные квадратные камни, в виде ящика. Таких памятников много в равнине Урмии. Надписи обыкновенно делаются вычурными буквами, и почти всегда на древне-сирийском языке. В них редко значится что-нибудь больше имени и степени умершего и дня, когда он «упокоился». Иногда прибавляется возраст умершего, если он известен вообще. У сиро-халдейцев не ведется правильных записей рождений, смертей и браков, и едва ли кто знает в точности свои собственные лета или лета своих детей, даже когда они еще молоды.
Надгробному камню иногда придается форма барана, что нередко встречается и вообще на древних христианских памятниках. Св. Амвросий говорит, что эта форма употреблялась в качестве символа Слова даже теми, кто отрицают пришествие Христа, и в руне барана он находит символ «облечения в небесные наши жилища» (2Кор. 5: 2); в защите бараном стад против волков – символ победы Христа над сатаною; в его руководительстве стадом – символ божественного руководительства; в замене им Исаака во время жертвоприношения – символ жертвы; в его безгласии перед стригущим (Ис. 53: 7) – символ кротости Христовой. Баран в равнине Урмии встречается также иногда на мусульманских кладбищах, но сиро-халдейцы говорят, что это бывает только в тех случаях, когда кладбище сначала было христианским. У них, по видимому, не сохранилось преданий касательно значения этого символа, и они теперь не часто делают надгробные камни этого рода; но они видят в этом знак великого уважения, и у них сохранилась пословица: «положу тебе барана на голову», что означает: «окажу тебе великую почесть».
Глава VI. Календарь, праздники и посты у сиро-халдейцев
Начало года. – Благословение месяцев. – Февраль. – Пасха. – Деревенские празднества. – Праздник Богоявления. – День св. Креста. – Воскресный день и его провождение. – Посты. – Сиро-халдейский календарь.
Трудно сказать, когда у сиро-халдейцев собственно начинается год. Календари обыкновенно начинаются с октября, и в списках месяцев октябрь, или, как он называется у них, первый Тишрин, стоит первым. Но в Худре, то есть Книге богослужений на воскресные и праздничные дни, год начинается с Рождественского поста, то есть, с декабря. А в народе часто за начало года считается праздник Богоявления. При счете месяцев обычно употребляется юлианский календарь, в книгах же, а в горах еще и теперь, год считается по «эре Александра» (или «греческой эре», то есть, эре Селевкидов, начинающейся с 311 года до Рожд. Хр. В письмах, в равнине Урмии теперь употребляется почти постоянно христианская эра, но трудно сказать, употреблялась ли она вообще до последнего времени и не вошла ли она в употребление только недавно, вследствие сношений с Европой.
Годы обозначаются буквами, а не арабскими цифрами, которые вошли в употребление только недавно под западным влиянием. В обыденном разговоре сиро-халдейцы, прилагая к согласным, изображающим известные числа, соответствующие гласные, составляют для названия каждого года особое короткое слово, вместо того, чтобы произносить его число вполне. Так, 1888 год называется аппах, 1889-ый аппат и т. д.
В первый день каждого месяца за вечерним богослужением произносится длинная молитва, в которой «благословляется» месяце. «Да приидет такой то месяц с весельем», говорится в этом молении, «и да будете молитва наша принята подобно молитве Илии и сына Амрамова. Да будете их молитва стеной для нас. Благослови, Господи, месяцы сего года, времена, недели и дни. Благослови виноградники и злаки. Благослови семена и нивы. Благослови, Господи, все, что произошло, и да сопровождается оно всякими благословеньями. Да не будет в течение его никаких смятений, ни скорбей, ни болезней», и т. д. Но месяц февраль не благословляется. Он считается «месяцем огорчений», и о нем только молятся, чтобы в течение его «не было никаких смятений». Отсюда и самая служба не совершается 1-го февраля. По народному верованию, Шват или Ишват (февраль) есть своего рода домовой. Мальчики иногда олицетворяют его и расхаживают по деревне, распевая разные песни.
В Кочанисе и во всех деревнях округа Тиари, а вероятно и в других местах Курдистана, Шват считается шутливо личным существом и, по народному верованию, в качестве гостя проводит по одному дню в каждом доме. В Кочанисе, конечно, он начинает свое посещение с дома Мар-Шимуна. Если в этот день идет дождь или снег, то это считается признаком того, что хозяин в этот день не оказал посетителю надлежащего почета. Хозяин, конечно, старается доказать, что это вовсе не его вина, но что Шват не успел еще успокоится от гнева, в который он приведен был оказанным ему пренебрежением в доме соседнего хозяина. Всевозможный шутки, во всяком случае, оживляют всех в сумрачные дни февраля в стране аширетов. У бедной райи также не мало юмора, который, к сожалению, значительно подавлен тягостями их невеселой жизни.
Праздники и посты находятся в большой зависимости от Пасхи. Большая часть дней святых суть праздники подвижные и, падая на пятницы, зависят от Пасхи38. Эта особенность весьма своеобразна. Между первым воскресным днем после Рождества Христова и Великим постом всякая пятница считается днем святых, как это видно будет из прилагаемого ниже списка, и даже некоторые из тех дней святых, которые относятся к известным месяцам, связываются не с определенными днями месяца, а с определенными днями недели. Так, первая пятница в марте месяце посвящена св. Георгию и т. д. Сама Пасха совпадает с Пасхой греков и определяется по особой таблице, которую также смотрите в конце главы.
Год разделяется на периоды, в семь недель каждый, причем каждый период называется шавуа от сирийского слова, означающего семь; но некоторые из них состоят только из четырех недель. Эти периоды следующие: Рождественский пост, Богоявление, Великий пост, Воскресенье, Апостолы, Лето, Илия, Мар-Муши (Моисей) и Освящение церкви. Распределение их можно видеть в прилагаемом ниже списке.
Только праздники в честь Спасителя собственно называются «праздниками»; дни святых называются «памятями» или «воспоминаниями». Из праздников Пасха, естественно, считается царицей, так что в Урмии она нарочито называется «великим празднеством», в противоположность Рождеству Христову, которое называется «малым празднеством». В дни этих праздников литургия совершается очень рано утром, именно вскоре полуночи; но считается необходимым, чтобы каждый перед тем немного поспал, хотя бы только в течение часа или двух. Это единственный в равнинах Урмии остаток всенощных бдений, но в Курдистане они часты, и книга Сунгадус (кн. VII, § 4, прав. 11) повелевает, что в дни перед праздниками и воскресеньями, когда бывает всенощное бдение, в монастырях не должно быть совершаемо никакого дела, чтобы молитва не прерывалась сонливостью. По окончании литургии в праздник Рождества и в Пасху, народ отправляется по домам друг к другу для «благословения их праздника», или если кто-нибудь из членов прихода лишился кого-либо в своем семействе со времени последнего праздника, то все посещают его с целью «исцелить ему голову». «Да будет приятно твоей голове», говорят ему при этом. В Тиари, по случаю одного из таких соболезнующих посещений, посетитель выпивает немного вина, затем, налив еще несколько вина, кладет в него какую-нибудь серебряную монету и, передавая ее скорбящему лицу, говорит: «Слава Богу! да будете исцеление твоей голове». Осиротевший затем опять начинает пить вино, от которого он воздерживался в течение всего траура39.
Во всяком доме, во время этих праздничных посещений, посетителя угощают чаем или кофе, сластями и пирожками, а часто также вином и спиртными напитками; чай подается в маленьких чашках, завариваемый совершенно так же, как и в России, из кипящего самовара. К чаю подается лимон или какие-нибудь сладости, и в изобилии сахар. Чем более кладется сахара, тем более обнаруживается любви и почтения к посетителю, так что посетитель не должен отказываться, а должен уметь выпивать чашку за чашкой, хотя бы она переполнена была сахаром. Иногда гостям подается шербет, а на руки и на голову льется розовая вода. Во время этих посещений обнаруживается много благодушия, часто совершается примирение между старыми врагами, что обыкновенно делаете епископе; он сводите врагов, делаете им небольшое поучение о неразумии вести вражду и говорит: «ну, теперь помиритесь», и враги, действительно, мирятся, целуются между собой и делаются друзьями, после чего идут и целуют руку епископа. На Пасху сиро-халдейцы дарят друг друга раскрашенными яйцами, обыкновенно красными, но часто искусно испещренными во всевозможные цвета. У сиро-халдейцев есть также обычай биться яйцами, ударяя одно о другое, и тот, чье яйцо не разбилось, считается победителем, и владелец его получает разбитое. Праздник, поистине, считается счастливым,. если в течение его выпадет дождь, и мусульмане сильно гневаются, когда дождь падает в день христианского праздника, а не в их праздник. Дождь, поистине, есть дар Божий (Притч., 25:14) во все времена в столь сухой и жаждущей стране, и в день великого праздника ничего так не желают все, как именно этого признака благоволения Божия.
Деревенские празднества составляют выдающуюся черту в жизни сиро-халдейцев. Празднества эти особенно совпадают с памятью покровительственного святого деревенской церкви, и если церковь чем-нибудь славится, то народ стекается на праздник со всех сторон. Празднество начинается курбаной (евхаристией), к которой народ часто подходит отдельными париями, так как церковь обыкновенно в состоянии вмещать в себе лишь часть прибывших на праздник. Одна партия, получив святое причастие, выходит из церкви, чтобы дать возможность войти другой партии, и т. д. При этих случаях иногда приходят даже мусульмане, делают приношения церкви и приносят детей, чтобы получить для них крестное знамение, которому они придают целебное значение. После курбаны, в течение всего дня, происходят игры и пляски, часто однако, к несчастью, заканчивающиеся пьянством и драками между христианами и мусульманами. Но злоупотребление не заходит так далеко, чтобы нужно было желать совершенной отмены подобных празднеств, которые, если их держать в пределах умеренности, могут служить не малым пособием к поддержанию в народе религиозно-нравственного настроения. Сиро-халдейцы народ добродушный, и при этих случаях они обнаруживают много доброты. Танцы их своеобразны, но красивы и пристойны. Конечно, в мусульманской стране нельзя видеть таких парных танцев, как в Европе; молодые люди обыкновенно танцуют сами по себе, а девицы в более укромном месте сами по себе. Иногда устраивается хоровод, в котором медленным шагом, под звуки своеобразной музыки, – своего рода дудки и барабана, все двигаются кругом, производя разные жестикуляции и махая платками. Конечно, эти праздники служат благоприятным временем для проявления искусства всевозможных танцоров по канату и для всякого рода состязаний, причем поставщики зрелище получают немалые доходы.
Во время этих празднеств, а также и в другие праздничные дни, доселе сохранился при более почитаемых церквях обычай пригонять, часто издалека, овец для жертвоприношения. В некоторые, пользующиеся известностью церкви, пригоняется ежегодно до 200 овец. Овцы эти, однако, не отдаются церкви или священникам, а из них делается пиршество, в котором принимают участие все, предварительно окропив кровью церковные врата. Это в сущности простое угощение, но народ считает его своего рода делом благочестия, а самый обычай невольно переносит нас ко временам ветхозаветной жизни Израиля.
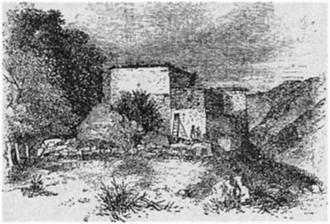
Церковь католикоса МАР-ШИМУНА в Кочаннсе.
(На рисунке видна лестница, ведущая к главной церковной двери, которая представляет собою нечто вроде квадратного отверстия: в него как в отверстие улья и лазят (буквально) все. богомольцы, не исключая и священнослужителей. Иногда дверь устраивается и внизу, но такая низкая, что в нее нужно опять лезть, а нельзя прямо входить. О причине такого устройства входных дверей у сиро-халдейцев было сказано раньше (см. «Христ. Чтение» за октябрь, стр. 517).
Праздник Богоявления считается у сиро-халдейцев великим днем. В этот день они воспоминают крещение Спасителя. Отсюда в равнине Урмии самый праздник называется «новыми водами». В гористых округах, равно как и в книгах, он называется «восхождением солнца». Ночью, до совершения курбаны, многие, по древнему обычаю, погружаются в какой-нибудь замерзший пруд, совершая это действие с разными криками и сопровождая его религиозными песнопениями. Странно, что сиро-халдейцы не придают большого значения воспоминанию в этот день восточных волхвов, хотя они благочестиво веруют, что волхвы эти вышли из их именно страны, и еще и теперь указывают на древнюю церковь в Урмии, известную под названием Март-Мариам, которая, будто бы, построена мудрецами по их возвращении из Св. Земли и в которой находится гробница, по крайней мере, одного из них. В этой церкви сиро-халдейцы еще и теперь возносят молитвы и славословия Младенцу Вифлеемскому.
В день Вознесения маленькие девочки ходят по деревне одетые невестами, поют и выпрашивают копейки. Отсюда этот день обыкновенно называется «невестиным Вознесением».
Одним из величайших дней в восточном сиро-халдейском календаре считается праздник св. Креста, совершаемый 13-го (а не 14-го) сентября. В этот день всегда совершается литургия, запрещается всякая работа, и все идут в церковь, где обыкновенно причащаются, как это особенно бываете в горах. Праздник этот, однако, служит скорее воспоминанием обретения, чем воздвижения креста, причем прославляются Константин и Елена, имена которых постоянно упоминаются в старых книгах. Оказываемое сиро-халдейцами поклонение кресту, по видимому, служит как бы вознаграждением за отсутствие икон. Крест выставляется при самом входе в церковь, чтобы каждый мог приложиться к нему; знамение креста напечатлевается маслом в различных местах церкви при ее освящении, народ не может понять, как кто-нибудь может быть христианином, не знаменуя крестом своего чела (как говорит Тертуллиан). В книге Сунгадус дается следующее объяснение происхождения поклонения, совершаемого кресту (V, § 9): «Предание говорит, что когда Господ наше благословил апостолов на горе Елеонской, Он простер Свои руки в виде креста в знак того, что посредством креста Он достиг славы Своего вознесения (Филип, 2: 8, 9). Когда они видели этот образ, то пали ниц и поклонились Ему. Это и было началом поклонения кресту. Первою церковью для них была горница, вторая церковь – в Антиохии. Апостолы говорили, что они поклоняются не дереву, или золоту, или какому-нибудь веществу, а Самому Христу, Который есть крест. Знамения и чудеса, совершаемые крестом, побудили людей оказывать честь дереву и знаку креста, и поклоняться ему». Благочестивый обычай целования креста вполне в духе восточных людей. Как христиане, так и мусульмане, обыкновенно целуют руку своих начальников при входе в их покои. Восточные люди, кроме того, целуют оттиск печати (стоящей вместо подписи) на письме своего начальника, и, в знак почтения, прикасаются к ней своим лбом. Церковь есть дом Божий, и крест есть знамение и печать нашего Господа. Не поцеловать печати Мар-Шимуна или знамения Спасителя было бы, по взгляду вообще жителей востока, явным неуважением и беззаконием. Поэтому поклоняясь кресту, сиро-халдейцы этим самым выражают свое почтете Тому, Кто совершил наше спасение посредством древа крестного.
Из дней святых особенным почтением пользуются только упомянутые выше пятницы и некоторые другие, как день св. Фомы (3 июля), Мар-Шимуна Барсебая, сыновей Шмуни (мучеников, упоминаемых во 2 книге Маккавеев, 7 глава, которые пользуются великим почтением и которым посвящено много церквей40), и св. Георгия, на каковые дни в богослужебной книге Худре назначены особые службы. Празднуются и многие другие дни, особенно в деревнях, и между ними особенно чтится память св. младенца Мар-Куриакуса (св. Кириака, 15 июля), Мар-Аудишу и Мар-Шалиты. В день св. Фомы (3 июля) в Урмии весь народ ходит на озеро купаться. В праздник Нусардил, посвященный воспоминанию 12 апостолов (седьмое воскресенье после Пятидесятницы), народ имеет обычай обливать друг друга водой. Двенадцать апостолов не чтутся каждый отдельно, а воспоминаются все вместе в этот день. Богослужение в память Пресвятой Девы Марии, изложенное в Худре на пятницу после первого воскресного дня после Рождества, правится также и в другие дни, посвященные памяти Пресвятой Девы. Быть может, самый популярный святой есть св. Георгий, который воспоминается 24 (а не 23) апреля, а также в марте и ноябре. Между Супурганом и Урмией есть весьма интересное место, теперь совершенно опустевшее, – это один из многих холмов, которые вздымаются над равниной, и он называется Бакчикал. Говорят, что тут именно находился город Зардушты (Зороастра), который был родом из этой равнины. На холме высятся остатки какого-то укрепления, и шоссейная дорога, ведущая через болотистую местность к озеру, которою еще и теперь на некотором расстоянии пользуются путники во время дождливой погоды. Здесь, по сиро-халдейскому преданию, и совершилось мученичество св. Георгия. По сиро-халдейским рассказам, он был купец, который прибыл в Урмию по своим торговым делам, обратился в христианство и был замучен в Бакчикале местным князем. Церковь в Супургане, подобно многим другим, посвящена его памяти. На берегу озера в Супургане есть священный колодезь св. Георгия, минеральный источник, который будто бы исцеляет всех купающихся в нем прокаженных.
Среда посвящена памяти всех святых, и в этот день, в честь их, поется следующее славословие:
«От века и до века. Сонмы и чины духовных с священниками в церкви поют славословие в память св. мученика Мар-Гивергиса (Георгия), который, совершая славные дела, победил и получил венец. Он страдал и сносил бедствия, огонь, и меч, и камни. Гонители подвергали его многим и различным мучениям. Он устыдил нечестивого царя, гнавшего добрых служителей, он уничижил славу его могущества и боготворимых им богов, – Зевса, и Аполлона, и Артемиды, дела рук человеческих. Сильный исполине Мар-Гивергий взывал и сказал вельможам царя: не поклоняйтесь идолам, изваянным и сделанным художниками. Бог Христос есть Царь царей и Господь всех богов. Он дает наследие всем, боящимся Его; брачный чертоге и благо непреходящее. Он в Своем царстве славою одевает чистых мучеников, верующих в Него. Молитвенно преклоняясь пред своим Господом, он умолял и просил, говоря: удали Твоею благодатью от всех, совершающих воспоминание в этот день о моем гонении, град, и голод, и язву, саранчу и червоточину, бури, уничтожающие поля, и ужасы ночи, и всякое злое смущение, и весь обитаемый мир сохрани великою силою Твоего Божества».
Воскресный день соблюдается строго – в смысле воздержания от работы. в Тиари считается большим грехом путешествовать в воскресный день. Во время управления прежнего малика, всякий, предпринимавшей путешествие в воскресный день, подвергался штрафу. Теперь, под благовидным оправданием необходимости, позволяется и кое-что работать. Большинство сиро-халдейцев не особенно старательно воздерживаются от путешествий в воскресенье и за исключением некоторых горных округов, где литургия совершается еженедельно, евхаристия не часто совершается в этот день. Так как народные праздники или дни святых празднуются с большим торжеством, то к ним и приурочивается совершение литургии. Отсюда странный обычай, что в действительности литургия чаще совершается по пятницам, чем по воскресным дням. И однако книга Сунгадус (V, § 7) ясно говорит: «в воскресный день должно совершаться богослужение, чтение Св. Писания и жертвоприношение41» и в некоторых местах правило это еще соблюдается.
«Воскресенье», говорит Сунгадус (V, § 7), «начинается с закатом солнца и оканчивается закатом солнца. Мы должны чествовать воскресшего Господа шествиями, славословиями и милостыней. В этот день не должно быть никаких распрей или судебных исков». Отсюда воскресное богослужение начинается еще с вечера субботы, а вечернее богослужение в воскресный день относится уже к понедельнику. Но запрещение работать начинается с часа вечерних молитв в субботу и заканчивается с рассветом в понедельник. Однажды, когда диакон английской миссии попросил одного из миссионеров постричь себе волосы в субботу вечером, то тот отвечал: «очень хорошо, равви; я пока не буду дотоле совершать своих молитв, так, чтобы еще не наступало воскресенье»! По местам воскресенье считается закончившимся после вечерней службы, и народ, совершив свои молитвы очень рано в полдень воскресного дня, после этого считает себя вправе обратиться к своим мирским работам.
Как народным обычаем, так и предписаниями книги Сунгадус, в воскресный день запрещено мыться. Отсюда все моются в субботу. «Христиане да не моются в воскресенье до или после таинства, ибо день этот свят и не имеет в себе ничего плотского. Если человек моется после таинства, то он считает его как бы нечистым». Здесь мы имеем другой пример понятия церемониального осквернения, еще и доселе строго соблюдаемого во всем. Но, с другой стороны, «по воскресным дням и праздникам нашего Господа мы должны умываться, надевать особые одежды и очищать наши души от греха42».
Посты у сиро-халдейцев соблюдаются очень строго. Но замечательно, что на практике они длиннее, чем в постановлениях Сунгадуса. В действительности, каждый сиро-халдеец постится перед Рождеством двадцать пять дней, Великим постом пятьдесят дней, в праздник моления ниневитян три дня в конце зимы, каковой праздник установлен в воспоминание о проповеди пророка Ионы в Ниневии и соблюдается в высшей степени строго, и среды и пятницы в течение всего года, не исключая дня Рождества Христова, считаются также днями воздержания. Большинство народа постится в течение пятнадцати дней и перед праздником Пресвятой Марии 15 августа. В эти посты включаются и воскресные дни, хотя Сунгадус явно запрещает поститься по воскресеньям, считая это обычаем манихейским. «Манихеи отрицали воскресенье и постились по воскресным дням потому, что утверждали, что конец миру придете в этот день после 9000 лет.... Никто да не постится в воскресные дни под страхом анафемы43». Ашитский Сунгадус, однако, приводит из постановлений гангрского собора и ограничивающее постановление «Если не от злого и манихейского намерения, то человек можете поститься и по воскресеньям». И причины очевидны, почему в настоящее время народе постится во время Великого и Рождественского постов по воскресным дням. Они заключаются в том, что если держать мясо, масло, молоко и проч. в доме в течение этого дня, то всегда было бы искушение поесть остатки и в другие дни недели. Книга Сунгадус прямо считаете Рождественский пост добровольным постом, равно как и семидневный пост в честь апостолов и пророка Илии (V, § 19). В ней не упоминается о постах в честь Пресвятой Марии и ниневитян, но она делает сорок дней44 Великого поста обязательными для всех, а в среду и пятницу особенно: в первую – в память злоумышления первосвященников в этот день против нашего Господа, а также и вследствие того, что Спаситель в этот день открыл Своим ученикам о предстоявших Ему страданиях, а в последнюю – по причине распятия (V, § 10). Монахам предписывается также воздерживаться до вечера, за исключением «отведания» в полдень. И особая служба, теперь почти вышедшая из употребления, называется «удовлетворением», потому что совершалась в то время, когда допускалась одна только полная трапеза в день45.
В постные дни не полагается есть ни мяса, ни рыбы, ни масла, ни яиц, одним словом ничего такого, что получается от животных, и церковный закон в этом отношении сиро-халдейцы соблюдают очень строго, особенно в Курдистане. Горцы и более строгие люди в Урмии не будут ни есть, ни пить, ни курить до полудня в течение всего Великого поста, исключая воскресных дней; а потом они не едят только мяса, масла и вообще ничего скоромного, а все другое могут употреблять в волю. Пощение в среду и пятницу не представляет, впрочем, особенного затруднения. Почти везде пост в эти дни начинается утром и заканчивается с вечерней молитвой. Так, за ужином в среду и пятницу вечером считается уже позволительным есть мясо. Конечно, теоретически, вечером во вторник и в четверг следовало бы есть только постную пищу, но это почти никогда не бывает так. И во многих округах, особенно с Пасхи до Пятидесятницы, в эти два дня позволяется есть масло, молоко и яйца. Главная пища во время поста состоит из хлеба, красных и черных бобов, риса, приготовленного с ореховым или другим растительным маслом, «долмы», то есть, виноградных листьев, перемешанных с рисом и изюмом и приготовленных в уксусе, плодов, изюма и орехов. В соблюдении предписаний о посте сказывается вся строгость церковной дисциплины, которая охотно принимается всеми, даже детьми. Один из самых маленьких учеников английской миссии, будучи почти при смерти во время поста, на приказ доктора выпить скоромного бульона, в негодовании воскликнул: «разве я курд, чтобы есть скоромное»?
Воздержание перед причащением соблюдается строго; Сунгадус постановляет, чтобы ни один церковный служитель, принимающий участие в совершении евхаристии, крещения, или рукоположения, не ел и не пил ничего раньше этой службы (VI, § 6, прав. 3). Для мирян не положено никакого правила, но обычай строго связывает всех. В Тахсе говорится, что священники и диаконы должны соблюдать пост перед вступлением в святилище. Только если там не совершается таинства и заставляет необходимость, он может войти в него не далее однако наружного светильника; но он ни в каком случае не может входить в святилище, если пил вино (примечание 26). Правило это ссылается на книгу Левит. 10: 9, как на авторитет, и говорит, что так запрещено как ветхим, так и новым законом. Здесь нелишне заметить, какое огромное влияние Моисеев закон имеет на сирийцев. Они любят все доказывать на основании ветхого завета, нового завета и учителей церкви.
Во время Великого поста народ иногда подвешивает в своих домах большую репу, или что-нибудь подобное, с воткнутыми в нее перьями, по числу недель поста. Это они называют сома (пост), из которой часто делается своего рода чучело для пугания детей. Перья из репы вынимаются по мере того, как проходят недели поста. Любопытно, что подобный же обычай соблюдается еще и в южной Италии, «Те, кто строго соблюдают пост в Сорренто, привешивают за окнами черную куклу. В эту куклу втыкается шесть перьев, которые по одному вынимаются по окончании каждой педели поста46».
В последнее воскресенье, вечером, перед наступлением поста, в Кочанисе и других горных деревнях молодые люди устраивают своего рода маскарадное изображение наступающего Великого поста. Какой – нибудь молодой человек надевает себе на голову огромную пустую тыкву, приделывая к ней громадных размеров нос, страшные зубы и бороду из козлиной шерсти. в этом виде, вооружившись палкой или мечом, с страшным видом он изображает собою «Сому», которая в сопровождении нескольких спутников ходить по домам. Сома не говорит, а издает какое-то страшное мычание, которое переходить в бурю негодования и угроз в случае, если заметит нежелание со стороны обитателей того или другого дома сообразоваться с требованиями, предъявляемыми им о соблюдении наступающего поста. С другой стороны, Сома оказывается довольно вежливою, низко кланяется, когда ее ласково встречают. Сопровождающие ее люди объясняют, что Сома пришла возвестить вам о наступлении семинедельного поста, в течение которого вы не должны есть мяса, сыра, молока, яиц или вообще произведений животной жизни. Когда объяснение закончено, то сопровождающие Сому люди получают своего рода контрибуцию в виде изюма, орехов, бобов или маиса. Сома уходить затем в другой дом, и только тогда дети, с испуга попрятавшиеся за своих матерей, выходят из своих прикрытий, рассказывая друг другу, какую страшную видели они Сому. Разговоры об этих посещениях Сомы ведутся в течение нескольких дней, и достаточно упомянуть о Соме, чтобы заставить всякого, даже капризного ребенка перестать просить себе чего-нибудь скоромного во время Великого поста. Срединная среда на половине Великого поста называется в Урмии палю, т. е., раздел или преполовение. Часто она справляется каким-нибудь угощением, но пост при этом не нарушается. То же самое бывает и в горах, хотя название это и не употребляется там. Некоторая смутность существует касательно того, когда собственно заканчивается пост. Обычное правило для Рождества и Великого поста состоит в том, что если человек причастился за литургией в праздник Рождества или накануне Пасхи, то он может закончить свой пост после вечерней молитвы; в противном случае не раньше, как после литургии в Рождество и в самый день Пасхи. В горах это относится только к кануну Рождества. Литургия по постным дням совершается поздно, часто в час или два пополудни, для того, чтобы все пропостились до того времени.
В Тахсе есть правило, что если человек по какой-нибудь причине не причащается накануне Пасхи, в самый день Пасхи, или в Великий Четверг, или в дни, следующие за Пасхой, то он должен оставаться «назореем», т. е., не есть мяса в течение месяца; но он не обязывается воздерживаться от другой скоромной пищи. Если же он причастился в Великий Четверг, а не накануне Пасхи, или в самый день Пасхи, то он может закончить свой пост через пятнадцать дней (2-е прав. в книге Тахса).
Изложим теперь сиро-халдейский календарь.
Следующие праздничные дни и посты взяты или из Худры, или из рукописи, приложенной к копии Кашкула, т. е., книги различных праздничных песнопений, от 14 мая 1443 года. Кроме обозначенных ниже святых, эта рукопись содержит имена нескольких местных отцов, в дни которых никогда собственно не назначалось особого богослужения и которые никогда теперь не соблюдаются. Немногие из приводимых ниже дней взяты из твердо установившегося местного предания, как Мар-Аудишу в «новое» воскресенье и Пресвятой Марии, 15 мая и 15 августа. Дни считаются по старому стилю.
Декабря 1. Начинается Рождественский пост.
Четыре воскресенья в Рождественском посту. (Субара, что значит провозглашение или возвещение).
Декабря 25. День Рождества Христова.
Пятница. Мар-Яку (Иаков), брат Господень (вышел из употребления).
Первое воскресенье после Рождества Христова.
Пятница. Пресвятая Мария.
Второе воскресенье после Рождества Христова.
Понедельник вторнике и среда. Моление Мар-Зайи (очень редко соблюдается теперь).
Января 6. Богоявление («светлость» или «восход солнца», а также «новые воды»), в память крещения Спасителя.
Пятница. Св. Иоанн Креститель.
Первое воскресенье после Богоявления.
Понедельник, вторник и среда. Моление девиц, соблюдаемое в Кочанисе и некоторых других местах девицами.
Пятница. Св. Петр и св. Павел.
Второе воскресенье после Богоявления.
Пятница. Четыре евангелиста. Также «воспоминание о 150 епископах, отлученных Македонием». Но последнее вышло из употребления.
Третье воскресенье после Богоявления.
Пятница. Св. Стефан.
Четвертое воскресенье после Богоявления.
Пятница. Греческие учители (особенно Несторий, Диодор Тарсийский, Феодор Толкователь, и др.).
Пятое воскресенье после Богоявления.
Понедельник, вторник и среда. Моление ниневитян, которое всегда бывает за двадцать дней до Великого поста. Оно совершается в память проповеди пророка Ионы, гробницу которого указывают в мечети, находящейся близ развалин Ниневии.
Четверг. Сорок мучеников, замерзших до смерти (в Севастии). (Вышел из употребления).
Пятница. Сирийские учители, т. е., учители «церкви Востока», а не Антиохии; особенно Мар-Нерсай, который жил ок. 520 г. (Assem. В. О., III, 1, р. 611). Также память Мар-Сауришу из Бит-Гармая, «который установил моление ниневитян вследствие одной великой язвы».
Шестое воскресенье после Богоявления.
Пятница. Мар-Ава, католикос с 536 – 552 г. (Assem. В. O. III, 1, p. 611), или «одно лицо» (покровительственный святой).
Седьмое воскресенье после Богоявления.
Пятница. Сорок мучеников (в Севастии). См. выше.
Восьмое воскресенье после Богоявления. Память всех «восточных католикосов».
Пятница. Память умерших.
Воскресенье перед Великим постом, за пятьдесят дней до Пасхи.
Примечание. Если после Богоявления восемь воскресных дней, то соблюдается указанный выше порядок; если же семь, то память сорока мучеников опускается; если шесть, то дни, посвященные памяти евангелистов и апп. Петра и Павла, соединяются вместе; если пять, то соединяются также в одни дни, посвященные памяти греческих и сирийских учителей; если четыре, то соединяются вместе дни св. Стефана и Мар-Авы. В этих случаях богослужение совершается частью в честь одних и частью в честь других. Воскресные дни соединяются подобным же образом.
Великий пост начинается в понедельник, за сорок девять дней до Пасхи. Но в горах, а часто и в Урмии, воскресенье перед этим понедельником уже считается постом.
Первые четыре и последняя неделя поста называются «неделями таинства», и, за исключением субботних дней, в них назначены на каждый день особые чтения.
Понедельник, вторник и среда первой недели поста. Моление архангела Гавриила (очень редко соблюдается).
Пять воскресений.
Вербное воскресенье (праздник Осанны). В этот день сиро-халдейцы, в качестве пальм, употребляют ветви красного вида ивы (вербы). Дерево это у них называется «деревом Осанны».
День страстей (Великий четверг).
Пятница страданий (Великая пятница). В этот день сиро-халдейцы не совершают литургии.
Великая суббота или суббота света (намек на приветствие: «свет вашим мертвецам»).
Пасха. Праздник Воскресения или Великий праздник. Пасхальная неделя называется «неделей недель».
Пятница после Пасхи. «Исповедники при царе Сапоре».
Низкое воскресенье («новое» или «красное» воскресенье). В некоторых местах посвящается памяти Мар-Аудишу.
Суббота. Мар-Хнания (Анания) «от волков».
Второе воскресенье после Пасхи.
Понедельник. Рабан Урмист Ширазский (см. под 1 сентября). Этот святой погребен в древнем монастыре, известном под его именем, близ Алкоша (Элкош), где также в одной иудейской синагоге указывают гробницу пророка Наума. Монастырь этот принадлежит римо-католическим униатам (халдеям).
Третье и четвертое воскресенье после Пасхи.
Пятое воскресенье после Пасхи. Мар-Адай. «Апостол, один из семидесяти, просветитель Востока. Он первый обратил Авгаря, черного царя Ургая (Едессы)». Сказание о его миссии и о сношении между Спасителем и Авгарем находится в особой книге под названием «Учение Адая» (переведенной на английский язык). Греческая форма Адая есть Фаддей. Этого святого часто связывают с ап. Фаддеем, имя которого на сирийском языке Тадай.
День Вознесения.
Воскресенье после Вознесения.
Семь недель от Пасхи до Пятидесятницы, называемые «шавуя» (седмина) Воскресения.
Пятидесятница.
В Пятидесятницу начинается шавуя (седмина) апостолов (пятьдесят дней); и первое воскресенье после Пятидесятницы называется второй седмной апостолов.
Среда после Пятидесятницы. «В этот день была совершена первая евхаристия Иаковом, братом Господним. Первою причастилась Пресвятая Дева, а затем апостолы».
Пятница после Пятидесятницы. Пятница Зилота (Деян. 3).
Седьмая пятница после Пятидесятницы (а в прежние времена также и предшествующая среда) в память семидесяти апостолов.
Седьмое воскресенье после Пятидесятницы в память двенадцати апостолов. Оно также называется первым воскресеньем летней шавуи (семи недель) и называется также нусардил. В этот день сиро-халдейцы обливают друг друга водой.
Первая пятница лета (восьмая после Пятидесятницы). Мар-Сергис (Сергий). Но в некоторых местах память его соблюдается в предшествующее воскресенье.
Вторая пятница лета (девятая после Пятидесятницы). Мар-Мари, ученик Мар-Адая.
Шестая пятница лета (тринадцатая после Пятидесятницы). Мар-Шимун Барсебай, девятый католикос Востока и мученик, С 314 – 330 г. или С 326 – 344 г. (время неизвестно). Он умер в Великую пятницу (см. под 15 апреля). Его имя означает «сын красильщика» (Assem. В. О., III, 1, р. 611). Иначе называется Симеон Бар-Савая.
Седмина Илии (семь воскресений) следует за летней седминой, причем считаются также последние четыре воскресенья после дня св. Креста (13 сентября). См. ниже.
Третья пятница Илии (шестнадцатая после Пятидесятницы). Память Илии Фесвитянина.
Четыре воскресенья Мар-Муши (св. Моисея) следуют за седминой Илии и затем четыре воскресенья освящения церкви, которыми заканчивается этот круг. Каждый из этих периодов для удобства называется шавуя (седмина). Первое воскресенье освящения церкви называется также Маальта, т. е., вхождение. В этот день сиро-халдейцы из летнего помещения для повседневных молитв переходят в главный храм. Во время этой седмины в службах говорится, главным образом, об основании церкви. Алберуни (973 – 1048 г.) в своей «Хронологии древних народов», стр. 30647, говорит, что в день Ма́альты они переходили из храма на крышу в память возвращения израильтян в Иерусалим.
Третья пятница церкви. Мар-Огин.
Января 1. Мар-Шалита (выш. из употр. См. сентября 19).
Января 24. Спутники св. Георгия, мученики (выш. из употр.).
Март. Первая среда. Св. Георгий мученик.
Апреля 1548 Мар-Шимун Барсебай, католикос (выш. из употр.).
Апреля 24 (Sic). Память св. Георгия мученика. Большой праздник.
Апреля 27. Св. Христофор мученик и св. Георгий (Выш. из употр.).
Май. Первый вторник. Сыновья Шмуни (2 Мак., 7). Соблюдается повсюду.
Мая 15. Пресв. Мария.
Июля 3. Св. Фома, который «был прободен копьем в Индии. Тело его находится в Ургае (Едессе), куда принесено было купцом Хабином. Большой праздник.
Июля 15. Св. Кириак («Мар-Куриакус, которого Галин убил в Персии, и Диулита, его мать»). Рюинар, в своих Acta Martyrum Sincera (р. 477), говорит, что свв. Кирик и Диулитта умерли в Тарсе около 305 года. Греки совершают праздник в их честь в этот день, а латиняне 16 июля.
Июля 29. Св. Петр и св. Павел (выш. из употр.).
Августа 1. Начинается пост Пресв. Марии (15 дней).
Август «есть месяц сыновей Шмуни» (выш. из употр.).
Августа 6. Преображение («Откровение»; называется также «Вознесением нашего Господа на горе Фаворе»).
Августа 10. Мар-Шалита (выш. из употр.). См. сентября 19.
Августа 15. Пресв. Мария.
Сентября 1. Рабан Урмизд Ширазский. «В этот день после его смерти он открыл глаза слепому человеку» (выш. из употр.).
Сентября 8. Рождество Пресвятой Марии. «Также память Юнахира и Ханы (Анны), ее родителей».
Сентября 13 (sic). Праздник св. Креста.
Сентября 19. Мар-Шалита, покровитель патриаршей церкви в Кочанисе, ученик Мар-Огина.
Октябрь. Первый понедельник. Св. Георий.
Октябрь. Первая среда. Мар-Тиодор (Феодор) толкователь (выш. из употр.).
Октябрь 1. Хнания (Анания, «который крестил Павла; он был первым митрополитом Дамаска») (выш. из употр.).
Октября 2. Мар-Папа, католикос (около 300 г. Assem. там же) (выш. из употр.).
Октября 4. Восемь (sic) отроков, т. е., спящих в Ефесе. День этот не соблюдается, но сиро-халдейцы часто рассказывают историю их жизни.
Октября 12. Триста мучеников в Шигаре (выш. из употр.).
Октября 13. Св. Иоанн евангелист (выш. из употр.).
Октября 25. Рабан Питиун мученик. Памяти его посвящена очень древняя церковь на склоне горы над Тхумской долиной в Турции, и теперь многие посещают ее. Он был противник «магов (астрологов), сынов заблуждения ».
Ноября 1. Св. Киприан (выш. из употр.).
Ноября 15. Мар-Аудишу (Эбедиезус). Было несколько отцов этого имени. Быть может, здесь воспоминается знаменитый автор «Жемчужины», ок. 1295 г. он был митрополит Низибии и Армении.
Ноября 17. Мар-Агнатис, Игнатий, «ученик сыновей грома». Св. Георгий. Св. Василий (все вышли из употр.).
Ноября 19. Мар-Яку-Мпаску (св. Иаков Искалеченный). Он так назван потому, что члены у него были отрублены один за другим.
Ноября 22. Диодор, епископ тарсийский, и 12000 мучеников (выш. из употр.).
Декабря 22. Мар-Куриакус (св. Кирик).
Примечание. Четвертое воскресенье Илии всегда должно быть первым после праздника св. Креста (13 сентября), и если нужно, то должны быть изменяемы другие воскресенья Илии, за исключением только того, что если день св. Креста приходится в неделю до первого воскресенья Илии, тогда первое воскресенье удерживает свое место, и в следующее воскресенье правится служба четвертого воскресенья Илии.
Если Пасха приходится поздно, то опускаются все или некоторые из воскресений Мар-Муши, а если она приходится уже совсем поздно, то, по видимому, опускается также и последнее воскресенье Илии. Если Пасха приходится на самый ранний день, то пятое и четвертое воскресенья Илии переставляются между собою, чтобы следовать указанному выше правилу. Но этот порядок не установлен прямо.
Чтобы найти Пасху, сиро-халдейцы пользуются совершенно теми же правилами, как и греки, у которых они и заимствовали этот прием. Правила эти следующие:
Правило 1. Прежде всего нужно найти круг луны, а он находится таким образом: к данному году нужно прибавить 12 и из суммы вычесть 1800. Полученную цифру нужно разделить на 19, – остаток и будет определять собою искомый круг. Напр., в 1815 году круг луны 8; в 1826 круг луны 19; в 1891 круг луны 8; в 1898 круг луны 15.
Правило 2. Когда найден круг луны, то нужно смотреть в прилагаемой таблице число, соответствующее цифре круга, и Пасха будет в следующее воскресенье. Вот эта таблица:
1. Апрель 2. 11. Апрель 12.
2. Март 22. 12. Март 31.
3. Апрель 10. 13. Март 21.
4. Март 30. 14. Апрель 19.
5. Апрель 18. 15. Март 29.
6. Апрель 7. 16. Апрель 17.
7. Март 27. 17. Апрель 5.
8. Апрель 15. 18. Март 25.
9. Апрель 4. 19. Апрель 13.
10. 10. Март 24.
При помощи этой таблицы и можно определять день Пасхи. Так, в 1891 году круг луны 8, день Пасхи, следовательно, 21 апреля; в 1898 году круг луны 15, что соответствует 29 марта (Вербное воскресенье), Пасха, следовательно, в следующее воскресенье 5 апреля.

Сиро-халдейский митрополит (матран) с книгой, окруженный приближенными к нему священниками. (С фотографии).
Глава VII. Сиро-халдейские воззрения, богословие и язык
Отношение сиро-халдейцев к несторианству. – Положения противоречащие несторианству. – Отделение от остального христианского мира и надежды па воссоединение. – Влияние Моисеева закона, притчи, отношение к Библии. – Особенности сирийского языка. – Заключение.
В заключение своих очерков жизни и обычаев сиро-халдейцев, скажем несколько и об их отношении к несторианству, как ереси, которая в течение 1500 лет черным пятном лежите на истории этого народа. О Нестории здесь достаточно сказать, что он был родом из Антиохии, сделан был патриархом константинопольским и осужден вселенским собором в Ефесе, в 431 году, за учение, что в нашем Спасителе Христе два лица: одно – Божие и одно – человеческое. Его фразеология фактически учит, что есть два отдельных существа: Сын Божий и Сын Пресвятой Марии, соотношение между которыми отличается от соотношения между Божественным Словом и всяким другим благочестивым человеком скорей по степени, чем по существу. С восточными сирийцами у него не было никакой личной связи49, и единственный вопрос, какой подлежит нашему рассмотрению теперь, заключается в том, как далеко они усвоили то, что известно под названием несторианства, т. е., учение, что Сын Божий и Сын Марии суть два отдельных лица. Установить в точности богословское воззрение сиро-халдейцев весьма трудно, частью вследствие того, что они, подобно всем восточным людям, не любят подвергаться вопросам, а частью вследствие известной нелогичности в самом их уме, препятствующей им точно определять свои идеи. Ответ на наш вопрос поэтому может быть достигнут только чрез исследование в их книгах, приняли ли окончательно их предки то, что нам известно под названием несторианства, или они только приняли сторону Нестория по недоразумению и по непониманию смысла технических терминов, и их традиционное богословие поможет нам открыть, действительно ли они теперь несториане не только по имени, но и по самому учению. Не лишне заметить, что к этому предмету следует подходить не с желанием привязываться ко всякому неопределенному богословскому положению, а в духе любви и снисхождения, который оценивает вещи по сравнению одной с другою и, где необходимо, предполагает лучшее, а не худшее в толковании недостаточно ясных выражений.
С одной стороны мы имеем факт, что Диодор, Феодор Мопсуестский и Несторий считаются у сиро-халдейцев святыми50 и суть главные отцы, воспоминаемые в праздник так называемых «греческих учителей». Имена их упоминаются в нескольких службах и молитвах, а также и в некоторых песнопениях. Это не означает непременно, что сиро-халдейцы содержат провозглашаемое ими учение, а только то, что они не принимают приговора вселенского христианства по отношению к ним.
Сиро-халдейцы отвергают также вселенский ефесский собор, а следовательно и авторитет всех последующих соборов, и не принимают термина Теотокос (Богородица), которым ефесские отцы определили истинное учение о воплощении; не допускают они также и таких выражений, как «Бог умер» или «взаимообщение свойств», т. е., приписывание Самому Христу в Его единичном лице под титулом, принадлежащим одному из Его двух естеств, особенностей, свойственных другому, как, напр., когда ап. Павел говорит, что «Господь славы» (Божественный титул) потерпел распятие (которое Он потерпел в Своем человеческом естестве)51. Эти способы выражения прямо отвергаются в сиро-халдейских книгах а по традиции и самим народом. Если бы не книги, то, полагаясь на ходячее современное воззрение, можно бы сказать, что сиро-халдейцы в своем богословии не мало погрешают: но это еще ничего не значит, потому что богословие простого народа далеко не отличается точностью и ясностью. Сиро-халдейцы, без сомнения, употребляют иногда технические термины, звучащие неправославно. Это зависит от того, что они не преклоняются пред авторитетом. Не принимая выражений вселенских соборов, давших определенное значение известным богословским терминам, они усвоили себе свои собственные выражения, которые часто бывает трудно или совсем невозможно примирить не только с православными техническими, но и с их собственным не техническим языком по тому же предмету. Самое распространенное из этих сомнительных выражений есть приписывание Христу двух киани, двух кнуми и одной парсопы. Слово киана означает естество, природу. Но никто не может в точности объяснить значения слов кнума и парсопа. Первое из них употребляется для обозначения лиц Св. Троицы и, следовательно, на нетехническом языке (на классическом сирийском) означает «самость». Последнее, греческое просопон употребляется в древних грамматиках для обозначения «личности». Обыкновенный традиционный комментарий на эту фразу таков: две киани – Христос имеет два естества; две кнуми – Христос есть совершенный Бог и совершенный человек; одна парсопа – есть только один Христос, а не так, чтобы был один Богом и один человеком. В этом толковании или киана не выражает всего того, что мы разумеем под естеством, или, как это нередко бывает вследствие смешения тонкостей и логических определений в восточном уме, два отдельных слова киана и кнума употребляются для выражения одного и того же понятия, хотя, по видимому, выражают различные вещи. Ассемани однако говорит, что под кнумой сиро-халдейцы разумеют ипостась, под парсопой – естество, как оно открывается чувствам52. Но быть может, он был предубежден против сиро-халдейцев, сам будучи римско-католическим маропитом. Во всяком случае, фраза эта крайне сомнительна. В «Схолие» священника Исаака Ишбадскаго говорится, что «когда собор 63253, решил, что во Христе одна кнума, между тем как в Нем два естества и двоякость кнумы, то это потому, что в греческом нет различия между кнумой и парсопой, и при этом не имелось в виду определять нечто противное православной вере»54.
С другой стороны, если православное учение о воплощении излагается простым, нетехническим языком, то все, кто знакомы с древними сиро-халдейскими книгами, сердечно и откровенно признают это учение и говорят, что это то самое учение, которому учили их отцы. Все, напр., согласились бы с таким положением, как следующее: это был Тот Самый, Кто от начала, по Своему Божеству, находился в лоне Отца, и Кто, по Своему человечеству, по исполнении времени, явился на земле, как Иисус Христос. Равным образом не встретится затруднения и в принятии таких выражений, как «Бог Сын умер по Своему человечеству»; между тем как сиро-халдейцы отвергли бы простое положение: «Бог Сын умер», так как это выражение, в их представлении, означает, что умерло само Божество. Равным образом и термин «Богородица» в представлении сиро-халдейцев смешивается с понятием матери, рождающей само Божество. Но они с негодованием отвергли бы мысль, что отвержение этого названия влечет за собою утверждение, что Сын Божий низшел на Сына Марии и соединился с Ним, или что Бог Слово низшел на человека и в этом смысле только сделался плотью. Они допускают, что как волхвы поклонились Младенцу Христу, как Богу, так и ангелы собственно поклонялись не рожденному Младенцу. Быть может в виду застарелой привычки тех, кто говорят по сирийски, смешивать (не в богословии только) абстрактное с конкретным55, пожалуй, было бы лучше употреблять первоначальный подлинный термин «Теотокос», без перевода его на народный язык, чтобы не производить этим смущения. Древние сирийцы слышали такие странные положения, отзывающиеся монофизиатством и приписываемые (без сомнения, ошибочно) римско-католическим миссионерам в Мосуле, что они с этим выражением в его переводе постоянно связывают представление о самом тяжком заблуждении.
Затем в своих книгах и особенно в своих службах они употребляют язык, который совсем не вяжется с несторианством. Не только в их трех литургиях, которые, вероятно, старше возникновения самой ереси, но, напр., в чинопоследовании крещения, которое, почти несомненно, более позднего происхождения, содержатся выражение, которые не мог бы принять ни один сознательный приверженец несторианства. Так: «исповедуем Тебя, Господи наш Иисусе, что по человечеству Твоему Ты еси от Авраама и Давида, а по существу Твоему – от Отца Твоего» (шорайя [«начало»], произносимое священником и диаконом и напоминающее собой наши антифоны). Здесь мы приближаемся к православному учению, что личность или «бытие» нашего Господа находится в Его Божестве. Равным образом: «Он [триипостасный Бог] обетовал ему [человеческому роду] воскресение из мертвых явлением Бога Слова, Спасителя всех, Который принял подобие (dmutha) раба, будучи равен56 Отцу», и проч. (карозута ["проповёдание», возглашаемое диаконом и аналогичное с нашими ектениями] первая). «Исповедуем, что Сын, единосущный (bar kyana) Отцу, волею Своею снисшел и по милосердию Своему облекся в тело наше (paghran) и в нем привел нас к Нему» (карозута вторая). «Во всей службе Спаситель Христос постоянно отождествляется самым простым и безусловным, образом С Божественным Сыном, вторым лицом Св. Троицы, и чтобы выразить теорию связи между Сыном Божиим и Сыном Марии (как предполагало несторианство), не слишком много будет сказать, что службу следовало бы заново переделать; то есть, всегда предполагая, что она должна была употребляться в ее простом грамматическом смысле, без предвзятых умственных пояснений, в смысле, противном тому, что содержать в себе слова»57.
Чтобы судить о богословских воззрениях сиро-халдейцев, нужно всегда иметь в виду чуждый техники характер сиро-халдейского языка. Едва ли можно сомневаться, что во многих случаях переводы греческих богословских терминов на сирийский были неудобовразумительны, и неудивительно, если сиро-халдейцы иногда понимали их неправильно. в этом отношении затруднительность их положения можно, пожалуй, сравнить с теми затруднениями, которые возникли между латинянами и греками по вопросу о словах- ипостась и усия.
Но хотя вообще и нельзя обвинять массу сиро-халдейского народа в приверженности к несторианскому учению о воплощении, мы все-таки не можем освободить их от обвинения в схизме, и они не могут занимать вполне православного положения, пока не примут вселенских соборов.
Принимая, однако, во внимание воссоединение которое через два года после ефесского собора состоялось между православными и Иоанном антиохийским с его епископами посредством примирительных объяснений, и помня тот старательно миролюбивый тон, в котором о «западных» говорится в таких книгах, как Сунгадус или книга церковного закона, в которой только однажды упоминается о Нестории, по вопросу о внутренней дисциплине (VII, § 4), можно вполне надеяться, что сиро-халдейцы со временем примут определения ефесского собора, когда они должным образом будут объяснены им, как точно выражающие веру, некогда преданную святым, и как верно воплощающие их собственные верования. Конечно, из уст простецов среди сиро-халдейцев иногда можно слышать самые чудовищные богословские рассуждения; но такого рода рассуждения часто отзываются столько же несторианством, как и гностицизмом, и они объясняются полным незнакомством с древними книгами. То же самое можно встречать и среди простецов во всяком другом христианском народе. Подобно тому, как Иоанн антиохийский и другие неправильно понимали и считали неправославным учение св. Кирилла и отцов ефесского собора, так еще более отдаленные жители Востока вероятно думали, что выражения собора, согласовавшегося с Кириллом, означали нечто приближающееся к монофизитству, и вследствие этого отвергли их. Нужно помнить, что сирийцы знали о деяниях собора только чрез посредство сторонников Нестория. Вообще же надо признать, что нетерпимость, которой слишком часто во все времена сопровождалась полемика, и политические интересы того времени – вот что было, вероятно, главной причиной, которая и затуманила суждения и направила по ложному пути действия сирийцев того времени.
Во всяком случае, можно ожидать много пользы от примирительных объяснений, и в этом отношении не лишены интереса следующие рассуждения одного исследователя: «Формула воссоединения между Кириллом и Иоанном антиохийским показывает, как чрез взаимное объяснение в данном примере было устранено разногласие; причем Кирилл согласился принять выражения, которых он не употреблял раньше, как, например, касательно «сосущественности воплощенного с нами по человечеству». Доселе возражения сирийцев оказали большую услугу вере, побудив Кирилла лучше уравновесить свой язык. Его первоначальные «двенадцать членов» нуждались в дополнительных положениях, каковые и даны были воссоединением»58.
Но довольно по вопросу о богословии, как он ни жизнен для веры; обратимся теперь к некоторым другим воззрениям сиро-халдейцев.
Среди этого народа вполне еще жива ветхозаветная идея обрядового осквернения. Для европейского ума в высшей степени странно находить, что некоторые вещи там считаются по существу нечисты, хотя бы физически они и были совершенно чисты. Так, например, после погребения во многих местах всякий считает своим долгом вымыть себе руки и лицо, хотя бы все, что они делали, состояло в простом присутствии при отпевании покойника. Понятие о физическом осквернении, происходящем от соприкосновения с мертвым телом, в обрядовом отношении простирается на всякого, кто присутствовал при погребении. То же самое понятие препятствует народу касаться собаки. Во всех этих восточных странах лучшие качества собаки, её верность и привязанность, совершенно не признаются, и хотя всякий хозяин держит собаку в качестве сторожа на своем дворе и пастухи держат собак для охранения своих стад, никому, однако, и в голову не приходит считать собаку своим другом. Некоторые из горных собак великолепны, и в равнине Урмии большие ханы держат собак с целью охоты; но обычная деревенская собака в Персии есть жалкая шавка и вообще животное непривлекательное. Так как она никогда не получает ничего, кроме толчков и пинков, то обыкновенно в высшей степени труслива и нападает на всякого, когда ей кажется, что она может это сделать безнаказанно.
Без сомнения, в значительной степени понятия обрядового осквернения покоятся на здравом основании. Так, даже чисто по физическим основаниям, было бы неразумно есть свинину в таких жарких странах, как Персия и Турция. И однако, в народе понятие это состоит не в том, что свинина – пища нездоровая, а в том, что сама свинья есть животное нечистое. То же самое относится и ко всем черепокожным рыбам. Одному сиро-халдейцу однажды подали в Лондоне салат из омара, и кушанье это показалось ему чрезвычайно вкусным, но когда он узнал, что главная составная часть этого кушанья была из омара, то он совсем не мог есть дальше. Один из учеников в Урмии мучил черепаху. Когда ему заметили, что нехорошо мучить животное, то он, с крайним удивлением в тоне, отвечал: «но ведь это нечистое животное, равви!» Когда у него спросили, почему оно нечисто, а если далее и нечисто, то зачем тиранить его, он немедленно отвечал: «это наверно злое животное, иначе Бог не наказал бы его, заставив его носить на себе столь тяжелое бремя». Черепокожная рыба и черепаха, как известно, упоминаются в числе нечистых в книге Левит. 11:10, 2959. Тем же объясняется и то, что Моисеев закон и теперь считается, если не вполне, то почти имеющим силу и теперь. Книгу Левит основательно знают все, кто едва ли выдержали бы экзамен по евангельской истории. Древне-сирийские книги постоянно основывают свои постановления или каноны на Моисеевом законе.
Хотя посты сиро-халдейцы соблюдают строго, однако их нельзя считать особенно аскетическим народом. Быть может, преобладание среди них в ранние века манихейства привело к установлению канонов против аскетизма, насколько он в их глазах мог отзываться понятием, что настоящий мир есть – зло. Так, в книге Сунгадус подвергаются анафеме те, кто постятся по воскресным дням с аскетической целью60. Чрезмерный аскетизм не одобряется также и в книге о монахах. «Отселе никто не должен запираться в домах, или стоять на столбах, или отращать себе волосы, или возлагать на себя железо»61.
Сиро-халдейцы вообще придают весьма большое значение внешности религии. Например, они придают гораздо больше значения церковным постановлениям, чем нравственным законам. Если человек нарушает все Десятословие, он, как и его соседи, утешает себя рассуждением, что ведь он «сын человеческий» и что «Бог милосерд». Но если он нарушает пост или не уплачивает подати патриарху, то он считается хуже, чем язычник. В Западной Европе христиане часто стыдятся своей религии и стесняются открыто исповедовать то, во что они веруют, не особенно заботятся о том, чтобы их видели, как они ходят в церковь или молятся, вообще избегают употребления имени Бога в обыденных разговорах. Сиро-халдейцы смотрят на все это совершенно иначе. Внешность для них имеет чрезвычайную важность, и не легкомыслие и лицемерие побуждают их уснащать свой разговор напоминаниями о Боге и Его делах, а живое сознание, что так этого требует сама христианская религия. Например, разговор между двумя лицами, встречающимися на улице, который в Европе обыкновенно вращается на погоде (о чем на Востоке говорят очень редко), обыкновенно идет следующим образом:
–1 Всякая радость тебе.
–2 Ты пришел с миром?
–3 Благодарение Богу; здоровье твое хорошо?
–4 Если ты спрашиваешь, хвала да будет Господу, я здоров:
–5 Если Бог благословить, приходи в мой дом завтра и т. д.
Подобным же образом мирянин нисколько не стыдится заниматься церковными делами, и среди мирян часто обсуждаются богословские предметы. Среди сиро-халдейцев совсем не удивительно, если человек открыто исповедует свою религию; для них было бы удивительно, если бы он не делал этого.
Все это отнюдь не простое лицемерие. Сиро-халдейцы постоянно употребляют имя Божие в своих разговорах и это отнюдь не в смысле лицемерного благочестия, чтобы в глазах своих соседей выставиться в возможно лучшем свете; в этом отношении они действуют совершенно одинаково с заурядными мусульманами, которые открыто молятся на глазах у всех при дороге. Это естественная составная часть религии у сиро-халдейцев. И действительно, этот обычай имеет большое нравственное значение, так как употребление священных фраз часто напоминает сердцу об их внутреннем значении.
Менее приятно слышать, что благословенное имя нашего Господа призывается часто совершенно необдуманно и нередко в действительности во свидетельство неправды. «Клянусь Христом» – у них означает почти не более, чем наше выражение «серьезно». В некоторых округах сказать «клянусь Богом, не пойду» едва ли означает более сильное выражение, чем простое отрицание. В горах нередко клянутся «одеждой Мар-Шимуна». Если обращаются к патриарху, то говорят: «клянусь твоим священным одеянием» или «твоей головой».
Наказание целых семейств за грехи отдельного лица едва ли можно назвать присущей сиро-халдейцам идеей. И однако, при полуварварском правительстве, она часто осуществляется на деле. Все семейство убийцы тяжело страдает за его преступление и часто должно платить деньги за кровь. Целая деревня часто подвергается штрафу за преступление кого-нибудь из ее жителей. Эти странные и чудовищные формы гражданского права, вошедшие в обычную практику восточных судов, а в особых случаях и в иудейский суд, представляли собою нечто в роде действительного правосудия, причем в первом случае виновность одного лица распространялась на весь его род, что могло служить не малым предостережением для совершения известного рода тяжких преступлений чрез устрашение всего народа62, Так, Симеон и Левий в отмщение за позор своей сестры ограбили город Сихем и избили всех жителей мужского пола (Быт. 34: 25 – 27): Истреблены были также «все мужчины, присоединившиеся к Корею» (Числ. 16: 32). в позднейшее время, при дворе Дария, семейства обвинителей Даниила были брошены в ров львиный (Дан. 6: 24). Однако и сами сиро-халдейцы говорят: «всякую овцу нужно вешать за ее собственные ноги; – человек несет наказание за свои собственные дела, как и Бог учил чрез пророка Иезекииля: «Да умрет душа, которая грешит» (Иезек. 18: 1). Но это более просвещенное учение пересиливается мусульманской практикой. По этой причине если путешественник подвергся ограблению, то отвечает вся деревня.
То же самое бывает по всей Азии. Напр., среди татар, когда мул исчезает из каравана, то люди, занимающие ближайший стан, обязаны или найти его, или вознаградить за него63.
Притчи, загадки и подобия производят сильное впечатление на ум сиро-халдейцев. Хитрость вдовы Фекойской или притча Иорама находят себе соответствие в фактах их повседневной жизни. Однако, можно надеяться, что в общем они извлекают из притч более ясное понятие о нравственности, чем один маленький «натар-курси», то есть, предназначенный в епископа, который, читая Библию, думал, что нравоучение притчи о блудном сыне состоит в том, что следует взять имение своего отца и отправиться в страну далекую, и когда все будет растрачено, возвратиться к нему опять!
Рассказы, ходящие между сиро-халдейцами, отчасти имеют такой именно характер. Один глухой человек отправился посетить больного, и так как не мог ничего слышать, то наперед порешил, что ему говорить. Он порешил сказать «мир тебе!» и затем «как твое здоровье?» Больной человек, конечно, ответит «мне лучше», и на это он скажет – «благодарение Богу». Затем он скажет: «как твое лечение?» и, получив ответ, опять скажет: «да будет оно приятно тебе». После этого он спросит: «кто твой доктор?» и, получив ответ, скажет: «да будет приход его благословен». Заучивши этот заранее приготовленный разговор, он отправился посетить больного, но к несчастью ответы его не совпали. Результатом этого был следующий разговор.
– Как ты здоров?
– Ох, я умираю, – отвечал больной.
– Благодарение Богу! – А каково твое лекарство?
– Мое лекарство – яд для меня!
– Да будет оно приятно тебе. – Кто твой доктор?
– Ангел смерти.
– Да будет благословенно пришествие его.
Дальнейший разговор был прекращен тем, что родственники больного выгнали посетителя.
У сиро-халдейцев в ходу рассказ о кладовых, которые, будто бы, находятся в скале замка Семирамиды, в Ване, и наполнены сокровищами. Одному пастуху приснилось, что ему сообщено слово, которое может открыть эту скалу. Он произнес это слово, скала открылась; он вошел в нее, взял сокровища, повторил слово и вышел. Но, заметив, что он оставил там свой посох, он произнес это слово в третий раз и вновь вошел туда. Он уже хотел выйти оттуда, но вдруг забыл это слово. Так он и остался в глубине скалы, и крики его можно ясно слышать и теперь. Странно, что сиро-халдейцы не читают арабской «Тысячи и одной ночи», и, повидимому, никогда не слышали о них, и однако в этом рассказе ясно слышится отголосок этого арабского произведения.
В ходу у них также и загадки, главным образом библейские, вроде следующих. «При жизни я не ходил; когда умер, то пошел; и когда я ходил, то это не по земле, не по небу». Ответ: «Ноев ковчег». «Кто был тот, кто отправился в аде, потому что не сказал лжи, и кто такой тот, который если бы сказал ложь, быть может, пошел бы в рай?» Ответ: «Ирод, потому что он сдержал свое слово и предал св. Иоанна Крестителя смерти». «Есть рождение, при котором не будет погребения, и есть погребение, при котором не было рождения». Ответ: «Восток имеете рождение и не имеет погребения; Запад имеет погребение, но не имеет рождения». «Двое отправились в суд, а трое пошли осужденными». Ответ: «Адам, Ева и змей».
Не безынтересно отметить здесь чрезвычайную любовь сиро-халдейцев к Библии, к которой они относятся с необычайным благоговением и с которой сроднились настолько, что ее именно образами говорят и мыслят все более или менее грамотные люди. Некоторый из ее книг, как Псалтырь и особенно Левит с ее обрядовыми постановлениями, многие знают наизусть. Что касается канона, то в сиро-халдейских книгах нет авторитетного указания на него. В указателе чтений не содержится, напр., чтений из окружных Посланий и Откровения, но в нем не содержится также и чтений из различных книг, которые содержатся в Пшитта (Пешитто). Два чтения имеется из книг не канонических. В каталоге Мар-Аудишу, однако, содержатся все наши канонические и неканонические книги, за исключением книги Руфь, молитвы Манассии и Откровения. Книги Ездры, Неемии и (быть может) две неканонические книги Ездры значатся под одним и тем же именем Ездры. Кафолическими или окружными посланиями называются: «три Послания – Иакова, Петра и Иоанна». В этом каталоге содержатся также сочинения Иосифа Флавия, Диатессарон Татиана и другие книги. Книга Сунгадус, приводя «апостольский канон» и излагая курс обучения в школах, называет следующие священные книги: Пятикнижие, книгу Иисуса Навина, Судей, Самуила, Царей, Притч, Екклесиаст, Песнь песней, Руфь, Иова, Шестнадцать пророков; для мальчиков – книгу сына Сирахова и Псалмы; из Нового Завета: Четвероевангелие, Деяния, три окружных Послания и четырнадцать Посланий ап. Павла (VI, § 2).
Среди сиро-халдейцев распространены всевозможные поверья, и особенно в ходу, напр., такие поверья, что заговоры или заклинания весьма полезны для того, чтобы избегнуть дурного глаза, излечить болезнь и в других подобных случаях. Это поверье они разделяют вместе с мусульманами. Животным и детям обыкновенно надеваются талисманы. Заговоры пишутся на длинных клочках бумаги, часто красиво раскрашиваются и хранятся в коробках. Авторами этих заговоров, к сожалению, в большей части случаев оказываются священники. В книге Сунгадусе подобные вещи неоднократно строго запрещаются: никто не смеет прибегать к колдунам, и всякие знахари и астрологи подлежат низложению, если они принадлежать к лицам духовным, и отлучению, если они миряне64. Самые заговоры обыкновенно состоять из длинной молитвы на сирийском языке. Мусульманские заговоры берутся из Корана и пишутся на арабском языке. В Курдистане многие думают, что некоторые священники могут написать грамотку, которая причинит медленную болезнь и смерть, сумасшествие и другие бедствия тем, против кого она написана. Один мальчик часто вскакивал и ходил во время сна. Священник написал грамотку, которая могла предотвратить это, пока она будет находиться у больного; но так как отец больного мальчика не сошелся с священником в цене (рубля 2 или 3), то грамотка так и осталась неподписанной.
В заключение скажем несколько слов о том языке, на котором говорят сиро-халдейцы. Народный язык, употребляемый сиро-халдейцами, есть один из видов древне-сирийского, не прямо происшедший от этого классического языка, который, в сущности, остается народным языком жителей Едессы или Ургая, но (вероятно) от арамейских диалектов, которые были в употреблении в христианские времена в Месопотамии, Вавилонии и Ассирии. Это чрезвычайно интересный язык, на котором можно видеть различие древнего языка по аналитическим началам, причем старые синтетические формы уступили место более свободным способам выражения, как в новейших европейских языках. К сожалению, он искажен множеством иностранных слов, которые не одинаковы в различных округах. В равнине Урмии иностранные слова, главным образом, заимствованы из турецкого и персидского языков, в горах – из курдского или арабского, а в равнине Мосула – из арабского. В каждом округе, почти в каждой деревне имеется свой особый диалект, настолько различный, что напр. для человека из Урмии затруднительно понимать жителей Тиари, хотя все они вообще настолько близки между собою, особенно по строению, что общее происхождение их очевидно. Это различие в диалектах делает в высшей степени трудным или почти невозможным печатать книги на народном языке, который мог бы быть понимаем всеми. Доселе сиро-халдейцы преодолевали это затруднение тем, что всегда писали на классическом сирийском языке. Единственными книгами, написанными на народном языке, до настоящего века были некоторые книги на алкошском (елкошском) диалекте, т. е., наречии, употребляющемся в равнине Мосула. Эти книги написаны чисто фонетическим способом; между прочим есть книга литургических Евангелий, которые естественно было бы читать на народном языке65. Со времени введения печатных станков, народные диалекты постепенно преданы были письмени, и английские миссионеры много сделали в этом отношении. Но при этом употреблялся слишком фонетический метод, и притом отдавалось предпочтение одному только диалекту, именно урмийскому. Теперь еще нет установившихся правил правописания, и всякий пишет по своему. Но было бы желательно печатать так, чтобы книги были доступны для возможно большего числа людей, и этого можно достигнуть отчасти обращением большего внимания на классический сирийский язык и на этимологию, – так как слово, написанное этимологически, может соответствовать двум совершенно различным проишениям, – и отчасти устранением слов, употребляемых в одном только округе и неизвестных в других.
У сиро-халдейцев очень немного глаголов. Чтобы избегнуть затруднения, связанного с этой ограниченностью глаголов, сиро-халдейцы прибавляют, как и в классическом языке, дополнительные винословные глаголы почти ко всем глаголам, так что число значений удваивается. Так, «сделать читать» значит «учить»; «сделать учиться» значит «внушать», иногда также «учить»; «сделать помнить» значит «напомнить» и т.д. Нужно, впрочем, быть осторожным в употреблении этих дополнительных глаголов. Нельзя сказать, что ап. Павел написал послание при посредстве писца; но нужно сказать: «велел его написать». Другим способом умножения глаголов служит употребление слов «есть», «влечь», «ударять» и некоторых других глаголов с существительными (которых чрезвычайно много), и это приводит к весьма курьезным результатам. Так, на сиро-халдейском языке человек «есть скорбь», школьник «есть розги», судья «есть взятки», обманщик «есть деньги», сердитый человек «есть угрозы», человек, уличенный во лжи , «есть свои слова». Еще более широкое употребление имеет глагол «ударять», так что человек «ударяет» почти все: музыкальные инструменты, колени (когда кто-нибудь становится на колени), плуг, серп, дурным глазом, силу (когда кто делает какое-нибудь усилие). Равным образом ветер, молния, гром, саранча, буря – все это также «ударяет». При помощи подобных приемов выражается множество всевозможных представлений. То же самое с глаголом «лить»: человек «льет» клевету или ружье; если он судья, то «льет» преступников в тюрьму; человек «льет» кого-нибудь на дороге, когда видит его издали. То же, например, в глаголом «держать»: человек «держит» извинение, «держит» чье-нибудь ухо (когда оказывает внимание), «держит» чью-нибудь руку (когда помогает другому), «держит» чью-нибудь шею (когда удерживает его от чего-нибудь) и т.д.
Сиро-халдейцы очень любят уменьшительные слова, но часто эти слова теперь уже не употребляются в уменьшительном смысле. Они всегда говорят о «маленьком старом человеке» (дедушке), «маленьком брате», «маленьком папе (это фамильярное слово не употребляется сыновьями) и особенно о «маленьком дяде» (очевидно в соответствие нашим – братец, батюшка, дядюшка и пр.). Сокращенная форма этих уменьшительных слов переходить в титулы. Епископ в Персии называется «маленьким дядей», и всякому старику придается подобный же префикс к его имени, как «маленький дядя Иаков»; равным образом и пожилую женщину называют «маленькой теткой Марией», «маленькой теткой Елизаветой», и т. д.
Множество представлений выражается посредством слов «сын» того-то и «дочь» такого-то. Жители известного местечка называются его «сыновьями». Земляк известного человека называется «сыном» его страны. «Мой соименник, тезка» есть «сын моего имени». Два человека, носящие одно и то же имя, обращаются друг к другу в горах, как барши, что и есть испорченная форма слова: «сын моего имени». Если вы спросите, сколько лет известному человеку, то услышите, что он «сын» стольких-то лет. Наперсток есть «сын пальца», эхо – «дочь голоса», перчатка – «дочь руки»; дочь солнца или луны есть отражение, часто видимое вокруг них; последнее также называется детской болезнью, которая, будто бы, приходит при новолунии. Первоначальная идея этих выражений состоит в том, что производное существительное имеет природу своего первообраза. Человек называет себя «сыном человеческим», чтобы указать на то, что он человеческой природы; человеческая натура на сирийском языке – барнашута, что можно перевести «сын человечности». Отсюда даже необразованный сиро-халдеец хорошо может понять (как и фарисеи в древности), что разумел Спаситель Христос, когда он называть Себя «Сыном Божиим». Необразованный западный человек может подумать, что так как Христос был Сын Божий, то по этому самому он уже не был сам Бог. Не так думает сиро-халдеец, и простой ребенок там поймет, что это название означает не что иное, как то, что Господь наш был одного и того же существа с Небесным Отцом, – подобно тому, как и он сам – сын человеческий» имеет одно и то же существо с своим земным отцом. Прилагательных в сиро-халдейском языке немного, и поэтому сиро-халдейцы для получения прилагательных прибавляют к существительному слово «господин» того-то. Таким способом они могут образовать какой угодно эпитет. Водный путь, согласно с их терминологией, есть «господин воды», дорогая вещь есть «господин цены», даже замужняя женщина есть «господин мужа»66. Все эти особенности ясно показывают близость сиро-халдейского языка к еврейскому с его позднейшими наслоениями и разветвлениями.

Мар-Гавриил митрополит урмийский, с двумя назореями (этот иерарх зверски убит курдами).
Вот в кратких чертах жизнь и характер того древнего восточного народа, который, после полуторатысячелетнего отчуждения от православного востока, в лице одного из своих достойнейших представителей сделал шаг к восстановлению некогда порванной связи его народа с св. православной церковью. Будучи сам принять в любвеобильное лоно св. православной церкви, преосв. Иона, епископ супурганский, отправился в свою страну с апостольской задачей – и весь свой народ привести в то же святое лоно. Задача великая и трудная, и много предстоит ему потрудиться над тем, чтобы очистить для своего народа путь к православию, загроможденный веками отчуждения и заблуждений. Но да способствуют ему в его апостольском подвиге молитвы всех верных сынов св. церкви. Совершаемое им дело имеет такое огромное значение и для всего нашего отечества в исполнении им возложенной на него Промыслом Божиим миссии в устроении судеб народов древнейшего материка, колыбели всего человечества, что оно должно быть близко сердцу и всего нашего общества, которое может оказать этому делу не малую услугу своей материальной поддержкой ему67.
* * *
Источником для этих очерков служит сочинение The Catholicos of the East and his people, by A. J. Maclean and W. H. Browne, отзыв о котором сделан был в «Христ. Чтении» за и898 год, где дано было и обещание впоследствии подробнее познакомит с его содержанием. Настоящие очерки составляют исполнение этого обещания.
Подробнее смотри в ст. проф. А. Лопухина – Новое поприще для миссии православия, и в книге преосв. Софонии – Современный быт и литургия иаковитов и несториан стр. и72 и след.
Таково сирийское название этого озера. Мусульмане называют его Уруми. В Европе называют Урмия и Урумия.
Мар-Аурагам назначен преемником на патриархат, но на-следует ли он его действительно или нет,– нельзя сказать. Он че-ловек благочестивый и добрый. Шамаша Нимрод, человек в выс-шей степени способный, оказывает большую услугу патриарху, сирийскому народу и правительству, и сделал бы ещё больше добра, если бы не встречал препятствий и имел полную возможность для проявления своих способностей.
Г-н Гук, в своем «Путешествии по Татарии, Тибету и Китаю», говорит, что то же самое он видел и в этих странах; татары и тибетцы играют так же, как и все, но у китайцев имеются совершенно особые правила.
Сунгадус, кн.6, пар. 1.
Предполагаемый автор её жил во времена Никейского собора (Assemani, Bibl. Or., vol. III, p. 1). В книге этой есть указания на собор Халкидонский и на иаковитов, и имеется много других подобных анахронизмов.
У сиро-халдейцев для проповеди употребляется то же самое слово, что и для произнесения ектений, что составляет специальную обязанность диакона.
Сунгадус, кн. 6, пар. 1; а также в «Книге небесных разумений» в различных местах.
Сунгадус, VII, предисловие.
Там же, VIII, пар. 2 и 4.
Там же, VIII, пар. 4.
Сунгадус, IX, пар. 2, 4, «Небесн. Разум» под словом «патриархи»
«Книга небесных разумений», под словом «патриархи»
Сунгадус, IX, пар. 5, VIII, пар. 20. В общем, по этому предмету замечается спутанность.
Время этого послания определяется так: «40 лет после мучени-чества св. Петра и Павла, за 280 лет до никейского собора». (Сунга-дус, IХ, пар. 5). Хронология не составляет сильного пункта Сунга-дуса. Касательно этого послания д-р.Нил замечает, что оно, очевидно, подложно. (Note in Ваdyer''s «Hestorians and their Rituals», vol. 1). Позднее время его происхождения можно видеть из того обстоятельства, что каноны, угрожающие низложением патриарху, совершающему проступки, могли явиться не раньше IХ века; между тем это послание могло быть подложным образом составлено после этого времени в интересах патриарха, который желал избегнуть суда над ним.
Сунгадус, VIII, пар. 17.
Книга небесных разумений, п.с. «епископ».
Сунгадус, VIII, пар. 19.
Сунгадус, VIII, пар. 11 и Книга небесных разумений, п.с. «митрополиты».
Сунгадус, VIII, пар. 17, VI, пар. 6, кан. 8.
Сунгадус, VIII, пар. 22.
Книга небесных разумений, п.с. «митрополиты».
Сиро-халдейская иерархия в настоящее время состоит из следующих лиц:
1. Мар-Шимун (Симон), собственное имя его Руил (или Рувим) патриарх и католикос Востока, имеющий резиденцию в Кочанисе. Епархия его: Кочанис (находится не в племенной местности, но считается принадлежащим аширетам или независимым), Тиари, Тхума, Диз, Валто, Тал, Мар-Бишу и проч. И неплеменные округи Албек, Сура и др.
2. Мар-Хнанишу (Милость Иисусова, собственное имя Ицхак или Исаак), митрополит или матран. Епархия егоШамадин в Турции, Тергавар и Мергавар, две возвышенные равнины в Персии, близ турецкой границы.
3. Мар-Аурагам (Авраам ).Нареченный патриарх, первый двоюродный брат Мар-Шимуна. Епархия его: верхний Бервер, близ Кочаниса.
4. Мар-Сергис (Сергий). Епархия его: Джилу и Бас, два племенных округа в Турции.
5. Мар-Ишуяв, (Иисус дал) из Дури. Епархия его: нижний Бервер, южная часть Тиари (в Турции).
б. Мар-Ионан (Иона) Епархия его: деревня укри па реке Забе, в нижнем Бервере.
7. Мар-Слива (Крест, собственное имя Шлимун или Соломон).
8. Мар-Сауришу (Надежда Иисусова). Епархия его: несколько горных деревень в Персии, близ Урмии, и в равнине Гавар в Турции.
9. Мар-Динха (Восходящее солнце). Епархия его: деревня Тис в Шамадине, в Турции, взятая от епархии матрана.
10. Мар-Юханан (Иоанн). Епархия его: деревня Тулаки, округ Тергаварский, в Персии, взятая от епархии матрана.
11. Мар-Гауриел (Гавриил), собственное имя Яку или Иаков. Епархия его: область орошаемая реками Барандом и Урми в равнине Урмии, в Персии, и округ Солдус, к югу от озера Урмии. Кафедральная деревня – Ардашай, резиденция – город Урмия.
12 Мар-Ионан (Иона, принявший православие). Епархия его: округ орошаемый рекою Назлучай (в северной части Урмийской равнины), равнины Гавилан и Салмаз, но в последней очень немного древних сиро-халдейцев. Резиденция его – Суперган или Супурган на берегу Урмийского озера.
Есть и еще два епископа, которые посвящены Мар-Шимуном, но не имеют епархий под его властью. Епархия в равнине Урмии следует по рекам, идущим с гор Курдистана к озеру Урми, и жители обыкновенно говорят о себе, что они принадлежат к такой-то и такой-то реке.
Сунгадус, VIII. Пар. 1–9, «Небесные разумения», п.с. «епископы».
Сунгадус, IV, пар. 17.
Сунгадус запрещает обязательную плату за крещение, VI, пар. 6, кан. 7.
Напр. см. Сунгадус VIII, пар. I.
О нем упоминается в «Апостольских Постановлениях», VIII, 5. Smith и Cheetham, D. C. A., под сл. «Kiss».
Сунгадус, VI, пар. 4, кан. 2.
«Каша» значит священник. Это-искажение древнего названия «кашиша», что значит старейшина или пресвитер. В книгах употребляется также название «капа"-то же, что sacerdos.
«Небесные разумения», п. с. «священники»
Smith and Wace, D.C.B., s.v. “Nestorianism”.
VII, пар. 2, кан. 5.
Сунгадус, кн. VII
Из так называемой литургии Нестория.
То есть, вероятно животные, кожи которых пошли на опоясание, сначала были принесены в жертву.
Албируни (973–1048), привед. В Smith and Wace, “Dictionary of Christian Biografy”, п.с. «Несторианизм», говорит, что несториане и мелхиты сходятся между собой в содержании поста, праздновании Рождества Христова и Богоявления, но расходятся в отношении других праздников и постов.
Подобная же церемония совершается на татарской свадьбе. Подарки, в виде денег, кладутся в кувшин перебродившего молока, и отец невесты выпивает вина и берет деньги. (Нuс, «Тгаvels in Tartary etc.», vol. I, chap. VIII).
Имена их в книгах значатся так: Гадай, Маккавей, Терсай, Хеврон, Хипсон, Вакх и Ионадав. Учителем их был Елеазар.
Таково обычное название евхаристии: курбана (корван)
Сунгадус, V, § 7 и 14.
Книга V, § 11, собор гангрский.
VII, §3, прав. 5. Но в Худре считается пятьдесят дней поста, если считать и воскресные дни.
Сунгадус, V, § 3, VII, прав. 6.
Guardian, September 30, 1887, p. 1559.
См. Smith and Wace, “Dict. Christ. Biog.”, п.с. «Несторианизм».
См. Smith and Wace, “Dict. Christ. Biog.”, под 17 апреля.
Среди некоторых сиро-халдейцев ходит мнение, что Несторий по прибытии к ним настолько одобрил их «литургию апостолов», что и сам принял ее. Все они верят, что он именно дал им их третью литургию; но это, вероятно, ошибка.
Впрочем, частица Мар, приставляемая обыкновенно к именам святых, не означает собственно того, что у нас означает слово святой. Оно означает «господин мой» и придается епископу, живому или умершему, и в действительности соответствует французскому monsigneur. Мар, впрочем, придается также св. Стефану и св. Ефрему и нескольким другим лицам, которые не были епископами.
1Кор. 2: 8. Liddon, Bampton Lectures, V, 5.
Assem., Bibl. Orient. De Syris Nestorianis, t. III, 1.
Быть может, халкидонский, на котором, по мнению некоторых присутствовало 630 отцов. Hefele, “Conciliengeschichte”, §188.
См. Scholium, последняя часть, §1.
Человек, желая сказать, что в известном месте собралось множество людей, заметил, что «там было много человеческого естества».
Буквально: «будучи pehma». В Филипп. 2pehma = греческому ica. Замена весьма точная, потому что nexma, как и icov, значит exemplar, копия.
Из письма Брайта, профессора церковной истории и каноника Христовой церкви в Оксфорде, который, впрочем, заявляет, что он знаком с сиро-халдейским богослужением только по переводу.
Из письма Брайта. См. Также Hefele, “Conciliensgeschichte”, § 155–157. Можно привести еще и другое важное замечание Брайта англиканским миссионерам: «ваш долг в этой миссии проникать дальше слов».
Было бы интересно расследовать, не сохранился ли в этом остаток манихейского дуализма, который смотрел на некоторых животных, как по существу составляющих зло. Ни у христиан, ни у мусульман в этих странах не утвердилось в голове учение книги Бытия, что все творения Божии первоначально были добры. «И виде от вся, елика сотвори: и се, добра зело». Быт. 1:81.
Сунгадус, V, § 11.
VII, § 2, кан. 7.
Mosley, Ruling Ideas in Early Ages, Lecture V.
Huc, Travels in Tartary, vol. I, chap. III.
Сунгадус, V, § 22; VI, § 6, канон 18.
В городе Мосуле Евангелия читаются на арабском языке, хотя написаны сирийским алфавитом.
О языке сиро-халдейцев или айсоров (главным образом жителей Урмийской области) можно находить интересные сведения в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» (Издание управления Кавк. Учебного округа). См. Особенно вып. XV (Тифлис, 1894), где приведены образцы сказаний и письменности айсоров и приложен довольно полный «Русско-айсорский» и «Айсорско-русский словарь» – с русской транскрипцией айсорских слов.
Пожертвования на содержание православнорусской миссии среди сиро-халдейцев можно направлять в Хозяйственное Управление при Св. Синоде с обозначением цели пожертвований.
