Внук Мазепы – дед Василакия [Н. И. Костомаров]
В рядах русской эмиграции существует небольшая группа лиц – яростных защитников и поборников буквы «ять». Они искренне верят, что наличие этого злосчастного знака в русском алфавите является какой-то гарантией сохранения русской традиции, своего рода национальным символом, и что все, что напечатано «по старорежимному», т. е. с буквой «ять», выражает русское национальное мышление. Следовательно, и наоборот: с упразднением «ятя» упраздняется и русскость[193].
Только таким убеждением можно объяснить себе появление на страницах безусловно стремящегося к сохранению русской национальной традиции журнала хвалебного очерка «известнейшему и популярнейшему нашему историку (выделено мною. – Б.Ш.) Николаю Ивановичу Костомарову, создавшему у нас особое направление в изучении истории и оставившему после себя целый ряд замечательных трудов, одинаково ценных как в научном, так и в художественно-литературном отношении». Этот журнал – «Жар-Птица», напечатавшая в апрельском номере с. г. редакционную статью в честь семидесятилетия со дня смерти Н. И. Костомарова.
Увы, далеко не все, напечатанное с буквой «ять», выражает национальное мышление русского народа, к которому литературно-исторические работы Н. И. Костомарова ни в какой мере не могут быть причислены. Ученым же историком его совсем нельзя назвать, к числу таковых Н. И. Костомаров не был причислен и в дореволюционные годы. Его современник, действительно глубочайший работник исторической науки и подлинно русский, чисто православный мыслитель С. М. Соловьев беспрерывно полемизировал в свое время с Костомаровым, разбивал его наголову в этих спорах и обоснованно опровергал его псевдонаучные изыскания. Знаменитый ученик С. М. Соловьева – Василий Осипович Ключевский – вообще не считал Костомарова ученым историком, но лишь бойким и своеобразно талантливым историческим писателем; о писателях же этого жанра В. О. Ключевский говорил студентам так:
– Все исторические писатели, к сожалению, плохо знают русскую историю, за исключением гр. Салиаса… тот совсем ее не знает[194].
Но чисто литературные качества исторических очерков Костомарова В. О. Ключевский признавал и считал их очень вредными для развития исторического мышления молодежи, о чем предостерегал своих слушателей. Эта вредоносность бойких исторические характеристик, данных Н. И. Костомаровым, предусмотренная В. О. Ключевским, была подтверждена в дальнейшем в русской литературе… Максимом Горьким. В рассказе «Коновалов», включенном теперь большевиками в программу средней школы, М. Горький описывает колоссальное впечатление, произведенное очерком Костомарова о Стеньке Разине на полуграмотного «сознательного пролетария» – пекаря Коновалова, когда сам Горький прочел этот эскиз ему вслух. Горький отмечает при этом, что в Коновалове вспыхнули яростные революционные чувства против Российской монархии. Литературно-исторические очерки Н. И. Костомарова печатались во второй половине XIX в. во многих либеральных и радикальных журналах, а позже были собраны им в целый свод, озаглавленный «Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей», и именно они создали автору широкую популярность в среде нигилистически и либерально, а позже социалистически, настроенной русской интеллигенции. Оба обширных тома вышли несколькими изданиями (при помощи либерала Стасюлевича) и имели широкое распространение.
Красной чертой через все эти бойко и забористо написанные очерки проходит ненависть озлобленного южнорусса Н. Костомарова к северной ветви российского народа – к Москве. Младшая сестра кипит завистью по отношению к более мощной и более одаренной старшей своей сестре. Эту ненависть Н. Костомаров изливает на московскую государственность, в лице решительно всех ее возглавителей, начиная с Ивана Калиты, стремится всеми силами умалить и затушевать их бесспорно великие и прогрессивные по тому времени действия и, наоборот, подчеркивает, выпячивает на первый план все мрачные эпизоды их правления, без которых не обходилась ни одна государственная власть в нашем грешном мире.
Такие эпизоды, как казни, ошибочные или несправедливые в силу политических причин суды, тайная дипломатия, связанная с подкупами и интригами, Н. Костомаров буквально смакует в своих литературно-исторических очерках, возбуждав не без успеха в читателе моральный протест против всего развития Московской Руси вообще и выработанной ею самодержавно-монархической государственной системы, в частности, главным же образом, конечно, против возглавлявших эту систему великих князей и царей Московских, а также и их ближайших сотрудников, которые в кривом зеркале Н. Костомарова вырисовываются в образах хищных и злобных царедворцев, себялюбцев, казнокрадов, а иногда и попросту мошенников. Не лучшее мнение внушал своим читателям тот же «историк» и по отношению к русскому народу, к его великороссийской ветви. Этот народ в самом широком понимании во всех своих слоях, по утверждению Костомарова, темен, некультурен, дик, злобен, во вред самому себе до косности консервативен и единственные светлые лучи, проникающие в это темное царство, – веяние с Запада, проповедником которых Н. Костомаров считает южнорусскую ветвь, в лице ее интеллигенции и верхнего панского слоя – казачьей старшины времен воссоединения России с Малороссией.
Эти его тенденции необычайно ярко выражены в очерках «Киевский митрополит Петр Могила», «Царь Алексей Михайлович», «Малороссийский гетман Зиновий-Богдан Хмельницкий», «Преемники Богдана Хмельницкого», «Стенька Разин», в его характеристиках Епифания Славинецкого, Симеона Полоцкого, Галятовского, Радзивилловского, Барановича, Юрия Крижанича и др. Даже Русскую Православную Церковь, возглавлявшуюся митрополитами Московскими и потом патриархами всея Руси, пытается грязнить Н. Костомаров. По его мнению, и она была темной, едва ли не неграмотной в вопросах богословия и свет понимания Слова Христова внесли в нее лишь воспитанные в большинстве случаев в иезуитских школах южнорусские церковники, приглашенные в качестве преподавателей латинского языка в организованную царем Алексеем Михайловичем и его боярином Ржевским высшую духовную школу, Славяно-греко-латинскую Академию.
Для выяснения неправильности этой тенденции Костомарова вспомним, что московские иерархи того времени и ядро верующего православного народа относились с большим недоверием к этим пробравшимся к власти пришельцам, в результате чего свершилась жесточайшая трагедия в среде подлинно русского православия – раскол и последовавшие за ним несправедливые гонения на хранителей традиционной русской обрядности… только обрядности, т. к. догматических расхождений с официальным православием русские раскольники не имели и не имеют. Следует вспомнить также, что и в отношении неприкосновенности обряда раскол был выразителем чисто русского самоутверждающего духа. Так, например, в спорах о двуперстии и троеперстии («щепоти») раскольники защищали двуперстие, которым крестилась Русь при св. Владимире, так же, как крестилась тогда и Византия. Троеперстие же было принято ею (Византией) лишь через пятьсот лет, в XIV в., когда Московская митрополия была фактически совершенно самостоятельна и представляла собой Русскую Православную Церковь, независимую от Константинопольского патриарха и возглавлявшуюся Великими Митрополитами, Чудотворцами Московскими.
Будучи ненавистником всей Великороссии и ее народа в целом, Костомаров стремится представить происходившие на Руси бунты и восстания, как народные действия прогрессивного характера. Так, например, свой (упомянутый М. Горьким) очерк «Стенька Разин» Костомаров начинает словами «В жизнеописании царя Алексея Михайловича мы уже показали, что его царствование было чрезвычайно тяжелым временем для России (выделяю, подчеркивая этим тезис Костомарова, диаметрально противоположный взглядам И. Л. Солоневича. – Б. Ш). Кроме тягостей, налагаемых правительством, кроме произвола всякого рода начальствующих и обирающих народ лиц» и т. д., и заканчивает характеристикой разбойничьего бунта, как «попыткой ниспровергнуть правление бояр и приказных со всяким тяглом, с поборами и службами и заменить старый порядок иным – казацким, вольным, для всех равным, выборным, общенародным», иначе говоря, республиканским в духе польско-панской Речи Посполитой, феодальное хищничество которой и рабство «быдла» – крестьян – под ярмом польско-русской шляхты Костомаров именует «казачьей вольностью», спекулируя на настроениях современной ему молодежи.
У этой, современной ему, нигилистически настроенной молодежи Костомаров, действительно, имел большой успех, как сообщает автор статьи, помещенной о нем в «Жар-Птице», который считает, что Костомаров «положил начало совершенно новому течению в истории», что «это значение громадно…», что «его идея давно уже вошла в жизнь» и т. д.
Вошла в жизнь… Увы, и в этом прав автор статьи. А в результате этого ее вхождения русский народ попал во всероссийский концлагерь и колхозное рабство. Таковы плоды «трудов» целого ряда «историков», подобных напечатанному через букву «ять» и в силу этого почитаемому чуть ли не национальным гением до сих пор Н. Костомарову. Таких было немало. Даже и похлеще, побульварнее Костомарова, например, близкий к нему по духу и по бойкости пера поляк Валишевский[195], сводивший всю одиннадцативековую историю государства Российского к амурным эпизодам дворцовых альковов, но тоже имевший «большой успех» у явных и тайных врагов национальной России.
Есть версия о том, что Ф. М. Достоевский принял Н. Костомарова прототипом для того не названного по имени полупьяного субъекта, который, забравшись на кафедру благотворительного губернского вечера (в романе «Бесы»), начал ни с того, ни с сего чуть ли не площадными словами поносить Россию и все русское. Этот субъект тоже имел тогда бурный успех, который подчеркнул Ф. М. Достоевский, связав его с характеристиками составлявших аудиторию явных и тайных «бесов».
Неужели мы уподобимся им? Неужели трагедия русской революции нас ничему не научила и прежде всего не научила отличать подлинно русское подлинно национальное от квасных имитаций, от пошлого либерализма, прикрытого дырявым фиговым листком «любви к народу».
В заголовке к этой статье я назвал Костомарова «дедом Василакия», ибо он был безусловно одним из родоначальников современных оголтелых украинских самостийников, в результате, подобно Грушевскому, Винниченко, а теперь Василакию[196], переходящих на должности советско-социалистических лакеев.
«Наша страна»,
Буэнос-Айрес, 14 июля 1955 г.,
№ 286, с. 7.
[193] См. также в книге Б. Н. Ширяева «Ди-Пи в Италии», гл. 20 «О букве “ять” и прочем подобном».
[194] Граф Евгений Андреевич Салиас-де-Турнемир (1842–1908), – автор популярных исторических романов (Б. Ширяев слушал лекции В. Ключевского в Московском университете).
[195] Казимир Феликсович Валишевский (1849–1935) – польский историк, писатель и публицист, автор серии романов про русский XVIII век.
[196] Михаил Сергеевич Грушевский (1866–1934) – украинский историк; Владимир Кириллович Винниченко (1880–1951), украинский публицист и общественный деятель; Владимир Петрович Василакий (1904-?), в конце Второй мировой войны в эмиграции, один из организаторов Украинского Освободительного Движения; в 1955 г. добровольно вернулся в СССР.
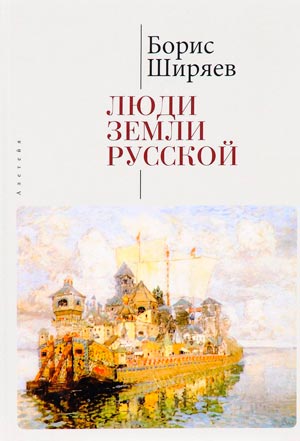
Комментировать