1902 год
Все экзамены прошли хорошо. Но ведь, чтобы получить врачебный диплом, надо еще осенью выдержать государственный экзамен.
Во время моей учебы в Медицинском институте в Петербург приехала моя подруга по московскому Александровскому институту Наташа Лепер. Мы сидели с ней за одной партой; она была первая ученица, а я вторая. Кровати наши в дортуаре стояли рядом, так что мы были дружны. Она особенно хорошо ко мне относилась. Узнала, что я в Медицинском институте, и приехала. Теперь она была уже замужем за доктором Лепероле, военным врачом; в семье его царила особенная дружба (брат семейный и две сестры девушки). Сестры его беззаветно любили, да и он был замечательно хороший человек. Он приехал работать над диссертацией в Медицинский экспериментальный институт к профессору Павлову[27]. Вместе с ним, также для работы, приехал земский врач Пономарев. Они с Наташей бывали у меня, и я у них. Врачи пригласили меня поработать в экспериментальном институте: я заинтересовалась и в свободные часы отправлялась туда с ними. Они занимались различными исследованиями над собаками. Собаки были с фистулами, и надо было следить за желудочным соком, который изменялся в зависимости от различных условий.
Чувствовала я, что Наташа, которая сама вышла за врача, и мне желает того же. Но ведь я дала слово всецело посвятить себя медицине, как же я буду сворачивать с дороги? Они уговаривали меня, чтобы после весенних экзаменов (до государственных) не уезжать на лето домой, а ехать в земство помогать доктору Пономареву.
Вспомнив об адресе, который мне дал оптинский старец о. Венедикт[28], я написала ему короткое письмо: «Ехать ли мне помогать врачу или домой отдыхать?» Он ответил: «Только не выходи замуж». Но так как их предложение имело именно эту цель, то я, конечно, не поехала, а отправилась домой, где я была так нужна.
Мы разъехались по домам. Я спешила в Одессу, где меня ждали мои слабые родители. Брат с полком еще оставался на о. Крит. Отец с денщиком поехал в имение в Смоленской губернии, а мы с матерью еще несколько дней оставались в Одессе.
Мать я застала слабой, больной; она не вполне еще оправилась после болезни. Зиму они провели плохо. Случилось так, что пришла одна нищая женщина, ведя за руку детей. Женщина рассказала о своем плачевном положении, что ей приходится скитаться по сараям, а теперь настали необычные для этой местности холода, и вот она стала просить оставить ее в передней. Мать сказала ей, что передняя без печки, но это, конечно, не остановило бедную женщину (ей приходилось жить в гораздо худших условиях, она говорила, что они все равно не раздеваются). И, наконец, уговорила мою мать: они остались в передней. В сильные холода невозможно было равнодушно смотреть, как они замерзают: тем более, что дети были больны. Так что мать моя вынуждена была держать свою дверь открытой, потому и у них в комнате было холодно.
В таких условиях им пришлось прожить всю зиму. А главное, помимо всего этого (только теперь, при нашем свидании, мать моя рассказала мне), она заболела: у нее сделался нарыв в животе, опухоль видна была даже снаружи, был сильный жар, она лежала в постели, и пришлось позвать доктора, который сказал, что здесь необходима операция, и назначил день, когда он придет с инструментами.
Наступил назначенный день. Несмотря на страшную слабость, мать собрала все свои силы, кое-как сползла с постели к комоду, чтобы вынуть чистое белье, и легла в постель. Посмотрела в окно и заметила, что там толпится народ. Спросила, что это значит. Ей ответили, что через их двор проносят Чудотворную икону Божией Матери Касперовскую[29]. Мать попросила, чтобы занесли к ней. С умилением и слезами молилась она и просила помощи в предстоящей операции. Повернулась, и гной в громадном количестве хлынул из прорвавшегося нарыва. В это время приехал врач с инструментами и сказал, что здесь уже все сделано, и только перевязал рану.
И теперь я встретила свою мать больной до крайности. Но мне об этих обстоятельствах она не писала, я все узнала только при свидании.
Побыв несколько дней дома и собравшись в дорогу, мы с ней решили ехать на дачу, куда раньше уже поехал отец.
В день отъезда пошли к обедне в собор. Выйдя из собора, я заметила в ограде киоск, в нем продавались книги, а по колоннам были развешаны иконочки-образочки. Я стала их рассматривать, думая что-нибудь купить для деревни, и как-то невольно обратила внимание на продавца: поля своей черной шляпы он вывернул и опустил вниз, мне это почему-то бросилось в глаза. Потом мы отправились на вокзал к поезду. Я встала в очередь перед билетной кассой. За мной стал какой-то человек и сказал: «Я буду за вами, а пока отлучусь». Вскоре он пришел и о чем-то заговорил: это был продавец из киоска. Взяла билеты, сели в вагон. Жара невыносимая, да и хлопот было много, и я пошла проветриться на площадку. Вижу, что около меня очутился тот продавец из киоска, которого я видела утром, только шляпу он оправил, подвернул поля, как должно, и вид у него стал другой, не такой простоватый. И сразу, как знакомый, он начал со мной разговор. Увидев, что я учащаяся (я всегда носила простой костюм и сейчас была в темно-синей косоворотке; чаще всего мы всё шили с матерью сами, мне доставляло удовольствие с нею посидеть и поработать), он стал уговаривать меня ехать с ним на Волгу, где, как считалось, были эпидемия и голод.
Он вез с собой ящик с революционной литературой. «Туда много наших учащихся поехало, поедемте со мной и вы». «Как же, в киоске вы развесили иконы… а говорите о революционной литературе?» «Это только для вида, а на самом деле мы везем революционную литературу. И столовые устроили только для того, чтобы удобнее было агитировать». Я объяснила ему, что придерживаюсь совсем другого направления, но он все надеялся обратить меня на свой путь.
Доехали до Киева, прощаемся с ним, а он не хочет нас оставлять. Стал спрашивать, куда мы. И когда я ответила, что в Лавру, то сказал, что и он хочет туда. Взял наш чемодан и сопровождал до Лавры. В номере нам подали постное, и он ел с нами. Потом мать отдыхала. Когда мы пошли в церковь, он никак не мог остановиться и все добивался моего согласия. Наконец я ему твердо, даже резко сказала: «Скорее вы перейдете на нашу сторону, чем я на вашу», и ему пришлось попрощаться; но до самого последнего момента повторял, что если надумаю, то чтобы написала.
В Лавре мы поговели, побывали в пещерах у святых мощей и поехали к себе в деревню. Сразу же начали хлопотать о постройке нового дома. Старый уже сгнил, крыша текла, под полом образовались муравейники.
Помню, приехал в соседнее имение к тете двоюродный брат, с которым мы никогда не виделись. Мы с ним поговорили на званом вечере, а на другой день он приехал к нам и говорит: «Теперь я вижу, почему у Саши такое настроение — здесь у вас земной рай, красота какая!»
У отца сделался легкий удар. Хотя он и ходил, но стал плохо слышать и вообще очень ослабел. Мать после болезни тоже была слаба, и мне пришлось взяться за починку дома самой. Но Господь помогал, так что все хорошо проходило. Плотники оказались очень хорошие люди. И я только просила их, чтобы они делали по совести, так как мы в их работе не понимаем, а отец слабый. Я сама и план составляла, и лазила по лесам. В праздничные дни я давала им книги или сама читала. Угощение было без водки. Они как будто и сожалели, но смирялись. Все они были верующие, особенно главные. Кончили, и мы с ними по-дружески расстались. Нашли хорошего печника, а приборы я должна была прислать из Москвы, когда поеду на государственные экзамены в сентябре.
Настал сентябрь. Прощаясь с родителями, я просила их как можно чаще мне писать, так как я, оставляя их такими слабыми, буду беспокоиться, и это может отразиться на экзаменах.
Приехала рано утром в Сухиничи (брат просил заехать в Козельск и Оптину пустынь), оставила на хранение вещи на вокзале, сняла шляпу, надела косынку и села в поезд, идущий в Козельск. Езды там, кажется, часа два.
Вышла с вокзала на крыльцо, хочу нанять извозчика, а ко мне подходит молодая монашка и говорит: «Поедемте с вами вместе». За 50 копеек наняли извозчика до Оптиной пустыни. Мимоходом спутница сказала мне: «Вы, верно, из монастырского приюта?» Я промолчала; на вид я была моложава и одета просто: серенькое рабочее платье, черный передник и белая косынка. Я была рада, что нашлась такая спутница, которая не раз уже бывала в Оптиной пустыни: у нее там духовный отец, скитоначальник о. Венедикт, а сама она из Полоцкого монастыря. Все это она рассказала мне дорогой.
Остановились мы в номерах, которые предназначались для размещения приезжающих монастырских сестер. Оправившись после дороги, мы сейчас же пошли в скит к старцу, скитоначальнику отцу Венедикту. Пришлось с четверть версты идти по тропинке в душистом сосновом лесу. Громадные деревья издавали смолистый запах, чувствовался аромат и приятная влажность. Святая теплота и мир охватывали душу. Дышалось как-то легко, что-то неземное повеяло в душу. Идя по песчаной тропинке, огражденной могучими соснами, мы видели вверху только небо, да зелень от кустарников кругом, так как тропинка была извилистая, и впереди ничего не было видно. Но вот, внезапно мы очутились в нескольких шагах от скита.
Пред нами предстали святые ворота, окрашенные в розовый цвет. Все так гармонировало с общим видом, святыми надписями и изображениями святых угодников Божиих. А по обеим сторонам от ворот были хибарки: такие же смиренные, как и их обитатели.
Я еще не испытывала в своей жизни ничего подобного тем чувствам, которые охватили меня теперь. Я как бы была унесена далеко-далеко от земли, в преддверия Небесных обителей. Следом за своей спутницей вошла в хибарку с левой стороны от ворот, где помещался в то время начальник скита архимандрит старец Венедикт.
Все эти маленькие келейки, украшенные сплошь образами и по краям картинами духовного содержания, — такой мир проливали они в душу посетителей! В узеньком коридоре на скамьях и на полу сидели сплошь посетительницы. А для мужчин разрешался вход внутрь скита, и они должны были входить внутренним входом в особое помещение, рядом с кельями старца.
Смотря на окружающую святыню, на умиленные лица сидящих, невольно переносишься в другой мир, а все земное кажется таким ничтожным, чуждым для тебя. После монахини, моей спутницы, старец принял меня.
Сначала он обращался ко мне, как к молоденькой приютянке (так про меня ему рассказала монахиня), но когда из моих ответов узнал, что мне уже 32-й год и что я еду держать государственный экзамен на врача, то был очень удивлен и щедро стал осыпать меня и наставлениями, и подарками на память. Благословил меня поговеть и велел приходить на исповедь до всенощной.
Оттуда мы зашли и в правую хибарку, где принимал посетителей приснопамятный старец о. Иосиф[30]. При входе к нему чувствовалось, что это уже неземной человек, что он более принадлежит к миру духовному. Прозрачный лик его и вся его телесная оболочка так истончились от духовных подвигов, что кажутся уже исчезающими от наших грешных земных очей. Он говорит совсем мало, но своим просветленным сияющим взором вливает в душу что-то неземное.
Оба старца сказали мне (не помню, в каких выражениях), что мне надо идти в монастырь, — и это вполне совпадало с моим, хотя как будто не вполне сознаваемым прежде, всегдашним желанием. Вскоре по возвращении нашем в номер о. Венедикт прислал келейника позвать нас и объяснил, что ему необходимо ехать в Шамордино[31]: за ним прислали, у него там много духовных детей (кто-то сильно заболел).
Так как мне нельзя было отложить отъезд, то батюшка Венедикт благословил меня исповедаться у общего монастырского духовника о. Феодосия[32] (впоследствии он стал скитоначальником), надавал мне на память об Оптиной образков (живописный образ Калужской Божией Матери[33] в четверть аршина) и много книжек (в их числе житие старца Амвросия[34]), много листков и свой адрес. Уезжая, старец сказал келейнику: если он не возвратится, пусть келейник угостит нас после причастия чаем, накормит меня и даст мне скитских цветов.
Поисповедовалась, где сказал мне о. Венедикт, простояла всенощную, а затем на обедне Господь сподобил меня причаститься Св. Тайн. Попила чай у келейника, как велел батюшка о. Венедикт. Келейник заботливо покормил меня, дал мне большой букет цветов и еще на дорогу кусок пирога. Заходила я еще раз к о. Иосифу, здесь провожал меня к старцу его келейник, будущий старец и будущий мой духовный отец, батюшка Анатолий[35]. Во всем его облике светилась бесконечная любовь к людям. С таким старанием он всех провожал к старцу, докладывал о нуждах каждого. Здесь впервые я узнала его и потом в следующий раз, когда приехала сюда уже через несколько лет, искала именно его (и для этого поехала в Шамордино, когда он был уже иеромонахом и главным духовником Шамординских сестер). Не помню, что он мне дал и что сказал, но, видно, так глубоко запало в душу воспоминание о любвеобильном старце, что впоследствии, через несколько лет, я искала именно его.
К вечеру 3 сентября я должна была уезжать. Радостная, что побыла в таком святом месте, напутствуемая святыми благословениями, я уже одна поехала к вечернему поезду.
Проезжая через Москву, я купила все печные приборы и отправила их для нашего выстроенного дома.
В Петербурге забота о квартире, сутолока столичной жизни и усиленные научные занятия полностью меня поглотили. Некогда было и подумать о том светлом мире, который я совсем недавно оставила. Жизнь потекла совсем другая. Но наряду со всем этим забота о моих слабых родителях, несмотря на все учебные заботы, терзала мое сердце. Через несколько дней я уже стала ждать письма. Прошло много дней, а письма все не было. Наконец прошел целый месяц.
Скорблю, часто плачу, сил не хватает учиться, так как ум и сердце заняты другим. Временами даже думала бросить учебу. Отправляю телеграмму, жду ответа, терзаюсь. Посылаю другую телеграмму, с оплаченным ответом, на имя тетки, жившей в городе, а ответа все нет. Хожу на почту и, получив отрицательный ответ, едва держусь на ногах… В мыслях у меня только одно: или оба тяжело заболели, или даже умерли. Тоска на сердце невыносимая, а здесь еще залезла в корзинку мышь и прогрызла мой шерстяной платок. Это на меня особенно тяжело подействовало. Я была в отчаянии, беспокоясь за жизнь своих родителей. В таком настроении легла спать, было уже 9-е октября…
Просыпаюсь утром — мне так легко и радостно на душе. Я видела сон: из белой могильной часовенки выходит батюшка отец Амвросий, лицо его радостное, светлое. Под правую руку поддерживаю его я, а под левую моя мамочка; батюшка своим взглядом указывает, куда и нам надо смотреть. И вижу я там, в нескольких саженях от старческой часовенки, через дорожку, невысокий холм и на нем беседка, вся из красных роз. Вся она сияет, от нее исходит свет. А против входа в часовню, где мы с батюшкой стоим, в нескольких шагах стоит столик церковный и на нем лежат всевозможные спелые фрукты. Особенно мне запомнились чрезвычайно крупные сливы, сизые, матовые. А около столика лицом к нам стоит папочка мой, руки его видны над этими фруктами; он в парадной одежде своего Кавказского Мингрельского полка, с серебряными нашивками на рукавах и воротнике.
И больше я ничего не видела. Проснулась я с необыкновенно успокоенным духом, утешенная. И так ясно все это видела, что после мне всегда казалось, что я видела батюшку наяву. Только, подумала я, почему-то вся наша семья здесь, а брата не было. Под впечатлением этого сна я открыла корзинку, вынула книжку: «Детская вера и старец Амвросий»[36], стала читать и узнала, что 10 октября (когда был сон) — это день кончины батюшки Амвросия! И скоро почтальон принес мне несколько писем, задержавшихся по недоразумению. Радости моей не было конца!
Вот как утешил меня батюшка. Часто, часто приходил мне на ум этот сон и видела я батюшку как живого, а весь сон с лучезарной беседкой представлялся мне таким светлым. И часто думала я об этой беседке, что бы она означала? Я предполагала, что беседка, — это Шамординский монастырь, в который я когда-нибудь поступлю… Но прошло 15 лет, и только тогда я поняла, что означал этот сон…
Успокоенная, с обновленными силами я стала готовиться к экзаменам. Экзаменов было очень много; перед каждым давалось два-три дня на подготовку. Председателем комиссии был хирург Вельяминов[37]. Экзамены прошли у меня очень хорошо, мне дали диплом с отличием.
День нашего выпуска был назначен в ноябре. Так как наш выпуск был первый, то им очень интересовались, присутствовало много лиц из ученого и высшего круга, были жены министров. Рядом с залом, где были расставлены стулья для гостей, в маленькой аудитории, священник, наш профессор по богословию, начал служить молебен. Не помню, как мы с подругой Марией об этом узнали, эта дверь почему-то была прикрыта (об этом позаботились). И вот, за молебном нас было всего человек пять. Видно, тяжело было священнику, и он, давая нам крест, с печалью сказал: «И только вас?» Не объявили, а все было сделано как бы секретно. Нам было очень обидно!
На этот прощальный вечер каждая из нас пригласила своих знакомых. Один мой знакомый доктор сказал мне, между прочим: «Вот другие веселятся, а вы что-то опечалены…» Не знаю, что я ему ответила, но только помню, что в это время подумала: «Ведь теперь на нас как бы свалилась гора великой ответственности… ведь нам теперь вручается жизнь человека, как можно не задуматься над этим?» Сразу я не поехала домой, ведь мне хотелось работать земским врачом, значит, надо было подготовиться, особенно по акушерству и гинекологии. И я осталась на некоторое время в акушерском институте профессора Феноменова, дежурила там и присутствовала на операциях; чтобы жить поближе к институту, взяла комнату в находившемся неподалеку общежитии инженеров путей сообщения,
После акушерства я стала ходить в Обуховскую больницу в гинекологическое отделение (как раз представился случай). Там был профессор (фамилии не помню) и его ассистент, которая предложила мне жить у нее: «Вы все равно у нас целые дни, не стоит вам уходить, вы и дежурить будете ночью, это вам сослужит большую пользу. Оставайтесь у меня в комнате, она у меня большая». Вот я и осталась там. Давали мне делать и легкие операции: зашивания, выскабливания. Я им очень благодарна, мне это очень пригодилось.
В феврале я не могла больше терпеть: хотелось повидаться с родными. Врачи оставляли меня и в будущем работать у них, но я не могла еще ничего решить и так поехала домой к родным.
Встретила я их сравнительно здоровыми. Для всех нас была великая радость, но пришлось все-таки объяснить, к какому великому делу я готовлюсь. А где это лучше сделать, как не в Петербурге, где ко мне так хорошо относятся и профессор, и ассистент: стараются всё объяснить, предлагают мне делать при них легкие операции?
И родные мои, так меня любящие, несмотря на внутреннюю скорбь, согласились с тем, что я побуду с ними только короткое время, а потом вернусь в Петербург для практики.
Но вот, приехал к нам наш родственник, секретарь земской управы города Ельни. Свой приезд он объяснил тем, что послан председателем управы уговаривать меня остаться и поступить в их земство врачом. У них особенно страдал один участок (находившийся далеко от города и довольно протяженный), а люди там так нуждаются в медицинской помощи. Он долго меня уговаривал, изображая вопиющую народную нужду, и так нас растрогал, что мы решили — мне нужно остаться и работать в этом участке. Надо было собираться ехать на самостоятельное место.
[27] Павлов Иван Петрович (1849-1936) — знаменитый русский ученый-физиолог, открыватель условных рефлексов, академик, лауреат Нобелевской премии. С 1891 по 1936 год заведовал физиологическим отделением Института экспериментальной медицины, организованного при его непосредственном участии.
[28] Архимандрит Венедикт (в миру священник Виктор Дьяконов) - рукоположен в 1873 г., спустя 8 лет овдовел. В 1883 г. согласно прошению определен в Оптину пустынь, где был пострижен в 1887 г. В последние годы жизни (с 1903) — настоятель Боровского Пафнутиева монастыря. Скончался в 1915 г.
[29] Касперовская икона Божией Матери – древняя икона, долгое время принадлежавшая сербской семье. В 1809 г. попала к херсонской помещице Иулиании Иоанновне Касперовой, в 1840 г. во время молитвы помещицы чудесно обновилась и с тех пор стала являть чудеса исцелений и помощи. Память ее празднуется 29 июня, 1 октября и в среду Светлой седмицы.
[30] Прп. Иосиф Оптинский (в миру Иван Ефимович Литовкин, 1837-1911) — родился в селе Городище Старобельского уезда Харьковской губернии в крестьянской семье. В 1861 г. поступил в Оптину пустынь, в 1872 г. был пострижен в мантию, в 1878 г. рукоположен в иеромонаха, в 1888 г. принял схиму. Сначала работал на кухне, затем стал келейником старца Амвросия и 50 лет пребывал в совершенном послушании старцу. После смерти прп. Амвросия был назначен духовником Шамординского монастыря вместе со старцем Анатолием (Зерцаловым). В 1894 г. стал скитоначальником в Оптиной пустыни. В 1905 г. вынужден был оставить эту должность из-за болезни. Канонизирован в 1996 г. Память 11 октября.
[31] Казанская Горская Амвросиевская женская пустынь в Шамордино — основана прп. Амвросием Оптинским в 1883 г. К началу XXвека стала самым многочисленным женским монастырем в России: здесь подвизалось более 1000 монахинь и послушниц, существовал сиротский дом. См.: «Про Шамординскую пустынь было следующее предсказание: «Игуменьей у них будет мать (это была матушка Евфросиния), потом мачеха, потом опять мать (игуменья матушка Валентина), и при ней разорение; потом маленькая община и при ней деятельная, потом опять мать и при ней Лавра). Последнему предсказанию еще суждено осуществиться» // Русск православное женское монашество XVII-XX вв. / Составила монахиня Таисия (Карцова). Издание Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1992, с. 214. См. подробнее: Схиархимандрит о. Агат (Беловидов). Жизнеописание… оптинского старца Иеросхимонаха Амвросия в двух частях. М., 1900. Ч. 1, с. 109-118; ч. 2, с. 66-141. Казанская Амвросиевская женская пустынь Калужской губернии... . Шамордино, 1908.
[32] Игумен Феодосии (в миру Александр Васильевич Поморцев, 1854-1920) — принял постриг в 1899 г., спустя год перемещен в Оптину пустынь, где в 1902 г. был рукоположен в иеромонаха. Ученик старца Варсонофия, в 1912 г. был назначен на его место скитоначальником и духовником Оптинской братии. Обладал даром рассуждения, много времени и внимания уделял интеллигентной молодежи. Был последним скитоначальником Оптиной до ее закрытия.
[33] Калужская икона Божией Матери явлена чудесным образом в селе Тиньково в 1748 г. (рядом с Калугой) в доме помещика Василия Кондратьевича Хитрово. Празднуется 1 сентября в честь избавления Калуги в 1771 г. от моровой язвы, 12 октября в память спасения Калуги от нашествия французов в 1812 г., 18 июля за охранение от холеры в 1898 г., а также в первое воскресенье Петрова поста. В настоящее время находится в кафедральном соборе Калуги.
[34] Прп. Амвросий Оптинский (в миру Александр Михайлович Гренков, 1812-1891) — один из самых знаменитых и любимых оптинских старцев. Родился в селе Большая Липовица Тамбовской губернии Тамбовского уезда в семье пономаря. В 1836 г. окончил Тамбовскую духовную семинарию, работал учителем в Липецком духовном училище. Во время болезни дал обет уйти в монастырь. В 1839 г. поступил в Оптину пустынь, в 1841-1846 гг. был келейником прп. Макария (Иванова). В 1842 г. был пострижен в мантию, в 1845 г. рукоположен в иеромонаха, между 1846 и 1848 гг. принял тайную схиму. В 1846 г. по болезни был вынужден уйти за штат, в 1890 г. переехал в Шамордино, где и скончался 10 октября. За советом и утешением старца в обитель приезжали люди разных сословий со всех концов России; среди самых известных посетителей старца — Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, B.C. Соловьев. Канонизирован в 1988 г. Память 10 октября. См. о нем: Схиархимандрит о. Агапит (Беловидов). Жизнеописание ... оптинского старца Иеросхимонаха Амвросия в двух частях. М., 1900. Ч. 1-2. Игумен Андроник (Трубачев). Преподобный Амвросий Оптинский.....М., 1993.
[35] Прп. Анатолий Оптинский (в миру Анатолий Алексеевич Потапов, 1855-1922) — родился в Москве, в семье мещан, в Оптину пустынь поступил в 1885 г., был келейником прп. Амвросия. В 1895 г. пострижен в мантию, в 1906 г. рукоположен в иеромонаха. Окормлял мирских людей, был «народным» старцем. С 1906 г. назначен духовником женского Шамординского монастыря. В 1920 г. был арестован, но вскоре освобожден. В 1921 г. во время тяжелой болезни принял схиму. Скончался 30 июля 1922 г. за несколько часов до нового ареста. В тексте воспоминаний год его смерти ошибочно указан как 1921. Канонизирован в 1996 г. Память 11 октября. См. о нем: Житие Оптинского старца Анатолия (Потапова). Козельск, 1995. Цветочки Оптиной пустыни.... /Сост. С. Фомин. М., 1995.
[36] Поселянин Е. [Е. Н. Погожев]. Детская вера и старец Амвросий. 1-е издание, СПб., 1901; 2-е издание, СПб., 1913.
[37] Вельяминов Николай Александрович (1855-1920) — русский хирург, один из первых начал применять светолечение, сделал немало ценных наблюдений о лечебных свойствах света и ультрафиолетовых лучей. Основал и издавал журнал «Хирургический вестник» (1885-1894).
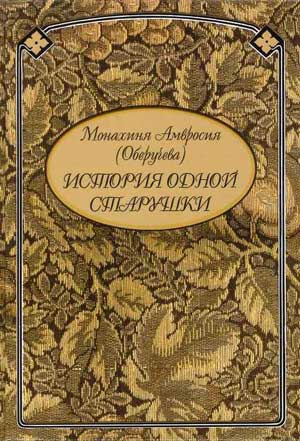
Комментировать