18. Смерть
В марте 1900 года Соловьев получил письмо от незнакомой ему женщины Анны Николаевны Шмидт. Она жила в Нижнем Новгороде, учительствовала и сотрудничала в местной газете. Старая дева, скромная труженица, содержавшая на свои скудные заработки мать, провинциальная журналистка, на вид ничем не замечательная, она тайно от всех писала мистические трактаты о Церкви и Третьем Завете. Они еще недостаточно изучены и оценены, но всякий, кто их читал, не забудет потрясающей силы писаний. Явное безумие соединяется в них с мистическими созерцаниями такой глубины и дерзновенности, перед которыми откровения мадам Гийон или Катерины Эммерих кажутся тусклыми и незначительными. О. Сергий Булгаков 96, написавший предисловие к изданию книги «Из рукописей А. Н. Шмидт», признает сочинение ее «первостепенной важности мистическим трактатом, который смело выдержит сравнение с произведениями первоклассных европейских мистиков, каковы Я. Бёме, Пордэдж, Сведенборг и другие».
Познакомившись с учением А. Шмидт о лично–соборной природе церкви, Соловьев признал его «истиной величайшей важности» и писал автору: «Думаю, на основании многих данных, что широкое раскрытие этой истины в сознании и жизни христианства и всего человечества предстоит в ближайшем будущем, а Ваше появление кажется мне очень важным и знаменательным».
А. Шмидт настаивает на свидании с Соловьевым и посылает ему свою исповедь. Из нее он узнает, что она почитает себя воплощением Софии, а его — воплощением Христа. Испуганный «священным безумием» своей корреспондентки, он пишет ей жестокое письмо. «Исповедь Ваша возбуждает величайшую жалость и скорбно ходатайствует о Вас перед Всевышним. Хорошо, что Вы раз это написали, но прошу Вас больше к этому предмету не возвращаться. Уезжая сегодня в Москву, я сожгу фактическую исповедь в обоих изложениях, не только ради предосторожностей, но в знак того, что все это только пепел… Пожалуйста, ни с кем обо мне не разговаривайте, а лучше все свободные минуты молитесь Богу».
И все же через несколько дней он едет на свидание с ней во Владимир. А. Шмидт, очевидно, почувствовала, что личная встреча горько разочаровала Соловьева, и написала ему о своей тревоге. Он ей ответил: «Никакого неблагоприятного впечатления свидание с Вами не оставило, бдним словом, все по–прежнему».
За месяц до смерти философ пишет ей в последний раз. Продолжая, по–видимому, беседу, которую они вели при свидании, он советует ей не доверять своим «видениям». «Очень рад, что Вы сами сомневаетесь в объективном значении известных видений и внушений или сообщений, которых Вы не знаете. Настаивать еще на их сомнительности было бы с моей стороны невеликодушно». Соловьев не признал в Анне Шмидт воплощения своей Небесной подруги и видения ее счел «прелестью».
Но появление этой загадочной, полубезумной, полугениальной женщины, этой мистической возлюбленной, вдруг возникшей из небытия в последние дни его жизни, этого «ангела смерти», провожавшего его гроб до могилы, было не случайно. От Анны Шмидт Соловьев не мог отделаться выговорами и призывами к благоразумию: она была порождением его собственной «тайной жизни», его странного романа с Подругой Вечной.
Ни у одного мистика не было таких конкретных, личных отношений с Вечной Женственностью, как у Соловьева. «Подруга» назначала ему свидания, писала записки, гневалась на «неверного друга», покидала его и вновь возвращалась. Он не только почитал, но и любил ее и был уверен, что любим ею. В его природе благоговение неразрывно сплеталось с эросом, любовь земная всегда предшествовала любви небесной. Его мистический опыт таил в себе опасность срыва и искажения. Накануне смерти ждало его последнее и самое страшное искушение: он чаял откровения Души мира, Афродиты Небесной, а перед ним предстал ее жуткий двойник — Анна Шмидт.
Андрей Белый 97 видел Анну Шмидт в 1901 году у брата покойного Соловьева, Михаила Сергеевича. Его описание несомненно пристрастно и враждебно, но какая-то доля правды за ним скрывается. Вот что он пишет: «Помню: раздался тихий звонок; скоро серо–орехового цвета дверная портьера раздвинулась, и в комнате оказалась — девочка не девочка, карлица не карлица; личико старенькое, как печеное яблоко, а явная ирония, даже шаловливый задор, выступавший на личике, превращал эту «существицу» в девочку: что-то от шаловливой институтки. Она была очень худа, мала ростом, быстра; и не вошла, а быстро–быстро просеменила навстречу к нам, окидывая меня не то шутливым, не то насмешливым взглядом, как бы говорящим: «Что, пришел позабавиться над душой мира? Ну, очень забавна я?» И стало неприятно: чем-то от бредовых детских кошмаров повеяло на меня, и я разглядывал ее во все глаза: да, да, что-то весьма неприятное в маленьком лобике, в сухеньких, очень маленьких губках, в сереньких глазках; у нее были серые от седины волосы и дырявое платьице: совсем сологубовская «недо–тыкомка серая»…
Афродита Небесная — и «недотыкомка серая»; какой диавольской насмешкой отомстило Соловьеву «заинтересованное лицо», разоблаченное им в «Повести об Антихристе»!
«Учение А. Шмидт, — пишет о. Сергий Булгаков, — является острым реактивом, разлагающим пленку уклончивости и позволяющим читать между строк».
Мистический опыт Соловьева иногда подменялся оккультным, и в «злом пламени земного огня» его обманывали «лживые подобия».
В апреле 1900 года, т. е. в том месяце, когда он единственный раз видел Анну Шмидт во Владимире, он пишет предисловие к третьему изданию своих стихотворений. В нем мы читаем: «Но чем совершеннее и ближе откровение настоящей красоты, одевающей Божество и Его силою ведущей нас к избавлению от страдания и смерти, тем тоньше черта, отделяющая ее от лживого ее подобия, — от той обманчивой и бессильной красоты, которая только увековечивает царство страданий и смерти. Жена, облеченная в солнце, уже мучается родами, и вот древний змий собирает против нее свои последние силы и хочет потопить ее в ядовитых потоках благовидной лжи, правдоподобных обманов…»98
Встреча с Анной Шмидт была для Соловьева проверкой всего его мистического опыта. Перед смертью его почитание Вечной Женственности должно было освободиться от всякой двусмысленности, от всех эротических приражений. Он прошел через очищение, но вера его в «Жену, облеченную в солнце» не поколебалась. Это было его приуготовление к концу.
* * *
Последнее лето философ проводит в Пустыньке, прощается с берегами «дикой Тосны», видевшими его любовь; со «священным камнем», у которого посещали его видения, с любимыми белыми колокольчиками в саду. Он предчувствует смерть и посвящает свое последнее стихотворение белым цветам — ангелам смерти.
Вновь белые колокольчики
В грозные, знойные
Летние дни
Белые, стройные
Те же они.
Призраки вешние
Пусть сожжены,
Здесь вы, нездешние,
Верные сны.
Зло позабытое
Тонет в крови.
Всходит омытое
Солнце любви.
Замыслы смелые
В сердце больном.
Ангелы белые
Встали кругом.
Стройно–воздушные
Те же они,
В знойные, душные,
Тяжкие дни.
«Еще недавно, — пишет Андрей Белый, — смотрел я на белые колокольчики, пересаженные из Пустыньки, о которых сказал он: «Сколько их расцветало недавно». Еще недавно надевал я в дождливые дни его необъятную непроникаемую крылатку. И дорогой образ в крылатке, на заре, склоненный над белыми колокольчиками, так отчетливо возник, — образ вечного странника, уходящего прочь от ветхой земли в град новый».
О предсмертных днях Соловьева сохранилось много воспоминаний. Л. Слонимский 99 рассказывает о последнем посещении Соловьевым редакции «Вестника Европы» 5 июля. «Ничего не предвещало скорого конца: он имел такой же вид, как всегда, — бодрый и светлый духом, хотя и утомленный и слабый телом. Он говорил о статьях, которые предполагал доставить для журнала к осени. Прочитал нам заметку о китайских делах, которую думал поместить в одной газете, и после краткого разговора решил дополнить и развить заключительную часть этой заметки, чтобы напечатать ее в «Вестнике Европы»; написанное им ранее стихотворение «Дракон», посвященное «Зигфриду» (т. е. Вильгельму II), он нашел уже несвоевременным, ввиду несколько изменившихся обстоятельств».
14 июля Соловьев приезжает в Москву и внезапно заболевает. Узнав в редакции «Вопросов философии и психологии», что родственник Трубецких, председатель Московского окружного суда Н. Давыдов, собирается в имение кн. П. Н. Трубецкого «Узкое», он решает ехать с ним. «Вернувшись домой из окружного суда в третьем часу (15 июля), — пишет Н. Давыдов, — я заметил, что в передней на вешалке кроме моего пальто висит чья-то «разлетайка».
Соловьев лежал в кабинете на диване, повернувшись лицом к стенке… Он очень изменился, что зависело главным образом от того, что он остриг обычно длинные свои волосы, а кроме того, был смертельно бледен. На вопрос, что с ним, он ответил, что сейчас чувствует морскую болезнь и что ему надо немного отлежаться». Давыдов пошел позвонить по телефону Трубецким, а когда вернулся, то увидел, что больной «пил глотками содовую воду, иногда словно забывался, но через мгновение уже болтал; сообщил между прочим, что получил в редакции «Вопросов» аванс, чему чрезвычайно рад, так как это компенсирует полученную в день именин болезнь; это он даже передал в форме четверостишия… Время шло, а Вл. С. просил дать ему еще полежать; уже было больше пяти часов, и я предложил ему, отложив поездку в «Узкое», остаться и переночевать у меня, а к Трубецкому отправиться завтра. Но он ни за что не соглашался и наконец объявил, что, так как, по–видимому, я не хочу ехать, то он отправится один. При этом Вл. С. действительно встал и отправился, плохо стоя на ногах от слабости, в переднюю. Оставить его силой у себя я не решился и предпочел везти Вл. С. в «Узкое». Других вещей, кроме связки книг, с ним не было, и, остановился ли он где-либо в Москве, я от него добиться не мог; он повторял упорно только одно: «Я должен нынче быть у Трубецкого». Я нанял лихача, и не без труда помог Вл. С. влезть в пролетку, которую пришлось закрыть, т. к. начинал накрапывать дождь. Когда мы вышли на крыльцо, к Вл. С. подбежал нищий и бросился целовать его руки, приговаривая: «Ангел, Владимир Сергеевич, именинник». Соловьев вынул из кармана не глядя и подал нищему какой-то скомканный кредитный билет… В одном месте дороги Вл. С. попросил остановиться, чтобы немного отдохнуть, добавив: «А то, пожалуй, сейчас умру». И это казалось, судя по его слабости, совершенно возможным. Но вскоре он попросил ехать дальше, сказав, что чувствует то самое, что должен ощущать воробей, когда его ощипывают, и прибавил: «С Вами этого конечно не могло случиться». Вообще, несмотря на слабость и страдания, в промежутках поднимал самого себя на смех и извинялся, что так мучает меня своим нездоровьем. Приехали мы в «Узкое» поздно. Соловьев был так слаб, что его пришлось из пролетки вынести на руках. Его тотчас же положили в кабинете на диване, и он, очень довольный, что добрался все-таки до Трубецких, просил, чтобы ему дали покойно полежать… На следующее утро он сообщил Трубецкому, что ночью видел во сне, но совершенно явственно, Ли–хунчана, который на древнегреческом языке сказал ему, что он вскоре умрет. В это утро он не был в забытьи, даже весело острил, но память ему уже изменяла, и он, например, не мог вспомнить, где он, приехав в Москву, оставил свои вещи, оказавшиеся потом в «Славянском Базаре»… Провожая меня, Прасковья Владимировна Трубецкая сказала, что она уверена, вопреки мнению Сергея Николаевича (Трубецкого), что Соловьев не поправится; при этом она вспомнила, что как-то, расставаясь с Вл. С, она сказала ему: «прощайте», но он поправил ее, сказав «до свиданья, а не прощайте. Мы наверно еще увидимся, я перед смертью приеду к Вам».
Кн. С. Н. Трубецкой, гостивший в это время в «Узком», присутствовал при кончине Соловьева 100. Вызванные 16 июля врачи нашли у больного «полнейшее истощение, упадок питания, сильнейший склероз артерий, цирроз почек и уремию». Сначала были боли, потом утихли; Соловьев находился в полузабытьи и часто бредил. «Первую неделю он еще разговаривал, — пишет С. Н. Трубецкой, — просил читать ему телеграммы в газетах, думал о китайском движении, говорил: «Мое отношение такое, что все кончено; та магистраль всеобщей истории, которая делилась на древнюю, среднюю и новую, пришла к концу. Профессора всеобщей истории упраздняются; их предмет теряет свое жизненное значение для настоящего; о войне алой и белой розы больше говорить нельзя будет. Кончено все».
«На второй же день он стал говорить о смерти, а 17–го объявил, что хочет исповедоваться и причаститься «только не запасными дарами, как умирающий, а завтра после обедни». Потом он долго молился и постоянно спрашивал, скоро ли наступит утро и когда придет священник».
Мы уже приводили раньше рассказ священника С. А. Беляева об исповеди Соловьева. «После исповеди, — вспоминает о. Беляев, — я спросил Вл. С, не припомнит ли он еще каких-нибудь грехов? «Я подумаю и постараюсь припомнить», — отвечал он. Я предложил ему подумать, а сам стал было собираться идти служить литургию, но он остановил меня и попросил. прочитать ему разрешительную молитву, так как боялся впасть в беспамятство. Я прочитал над ним разрешительную молитву и пошел в церковь служить обедню. Отслужив обедню, я с обеденными Св. Дарами пришел снова к Влад. Серг. и спросил его, не припомнил ли он за собой еще какого-либо греха? «Нет, батюшка, — ответил он. — Я молился о своих грехах и просил у Бога прощения в них, но нового ничего не припомнил». Тогда я причастил его Св. Тайн. При этом присутствовали князь Сергей Николаевич и супруга его Прасковья Владимировна».
Возвращаемся к рассказу кн. С. Трубецкого. После причастия силы Соловьева стали слабеть. «Он меньше говорил, да и окружающие старались говорить с ним возможно меньше; продолжал молиться то вслух, читая псалмы и церковные молитвы, то тихо, осеняя себя крестом. Молился он и в сознании и в полузабытьи. Раз он сказал моей жене: «Мешайте мне засыпать, заставляйте меня молиться за еврейский народ, мне надо за него молиться», — и стал громко читать псалом по–еврейски. Смерти он не боялся, он боялся, что ему придется «влачить существование», и молился, чтобы Бог послал ему скорую смерть. 24 июля приехали мать и сестра. Он узнал их и обрадовался их приезду, но силы его падали с каждым днем. 27–го ему стало как бы легче, он меньше бредил, легче поворачивался, с меньшим трудом отвечал на вопросы; но температура начала быстро повышаться; 30–го появились отечные хрипы, а 31–го в 9’/з ч. вечера он тихо скончался… «Должно быть, я слишком много зараз работал», — говорил он в последние дни… «Трудна работа Господня», — произнес он на смертном одре.
«Его похоронили в четверг 3 августа рядом с могилой его отца, Сергея Михайловича; он говорил мне во время болезни, что приехал в Москву главным образом «к своим покойникам», чтобы навестить могилу отца и деда. Его отпевали в Университетской церкви, где еще в раннем детстве ему явилось первое его видение».
Над могилой краткое слово сказал профессор В. Н. Герье: «Радость и надежду ты всюду вносил с собой, дорогой Владимир Сергеевич… Светлое видение, которым ты жил и утешался, было не напрасно» 101.
На могиле Соловьева в Новодевичьем монастыре неведомой рукой поставлены две иконы: одна — икона Воскресения из Старого Иерусалима с греческою надписью «Христос воскресе из мертвых», другая — икона Остробрамской Божьей Матери с латинской надписью: «In memoria aeterna erit iustus».
12 В. Л. Величко. Владимир Соловьев. Жизнь и творения. СПб., 1904.
13 Владимир Соловьев. Стихотворения. Издание 7–е, под редакцией и с предисловием С. М. Соловьева. Москва (без даты).
14 Александр Блок. «Рыцарь–монах». Собрание сочинений. Т. VII. Берлин, «Эпоха», 1923.
15 Письма Владимира Сергеевича Соловьева. Под редакцией Э. Л. Радлова. 3 тома. СПб., 1908—1911. Четвертый том под редакцией Э. Л. Радлова издан в Петербурге в 1923 г.
16 Л. М. Лопатин. Философское мировоззрение В. С. Соловьева («Философские характеристики и речи». Москва, «Путь», 1911 г.).
17 С. М. Лукьянов. О Вл. С. Соловьеве в его молодые годы. Материалы к биографии. Книга I. Пг., 1916. Книга II. Пг., 1921.
18 С. М. Соловьев. Биография В. С. Соловьева, приложенная к изданию его «Стихотворений» (Москва).
19 Повесть «На заре туманной юности» (Письма, т. III).
20 В повести она названа «Кузиной Лизой»
21 В повести Е. В. Романова названа Ольгой.
22 «На заре туманной юности». Окончание повести явно придумано: кузина Ольга отказывает своему «идеальному поклоннику»; Е. В. Романова еще три года верила в возможность брака с Соловьевым.
23 Лукьянов сообщает, что родные даже приглашали к нему известного врача по нервным болезням.
24 Первое полное собрание сочинений Соловьева в 8 томах (изд. «Обществ, польза») вышло в 1901 г.; второе, дополненное, в 10 томах (изд. «Просвещение») — в 1911 г.
25 См.: D. Cyzevskyj. Hegel in Russland (Hegel bei den Slaven, Reichenberg, 1934).
26 Материалы, относящиеся к магистерскому диспуту Соловьева, собраны в книге Лукьянова
27 А. Ф. Аксакова — дочь поэта Ф. И. Тютчева и жена Ив. С. Аксакова.
28 См. «Материалы», собранные Лукьяновым.
29 Воспоминания И. Н. Янжула напечатаны в «Русской старине» 1910,1, II, III.
30 М. de Vogue. Sous l’horizon. Hommes et choses d’hier, Paris, 1905.
31 Andre Lirondelle. Le poete Alexis Tolstoi. L’Homme a l’oeuvre. Paris, 1912.
32 Sergius Hessen. Der Kampf der Utopie und der Autonomie des Guten in der Weltanschauung Dostoewskis und W. Solowjows. Die Padagogische Hochschule. Heft 5. Okt. 1929.
33 Я плут — ничего не могу поделать.
34 Здесь ясно чувствуется влияние Гегеля.
35 М. С. Безобразова. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве. «Минувшие годы», май—июнь, 1908.
36 Dr. D. v. Usnadse. Wladimir Solowiew, seine Erkenntnistheorie und Metaphysik. Halle, 1909.
37 Идея о том, что вера лежит в основе познания, принадлежит Хомякову. Отрывочные мысли Хомякова Соловьев творчески перерабатывает в систему. Но он отличается от волюнтариста Хомякова своим интеллектуализмом. См. Н. Бердяев. А. С. Хомяков. Путь, 1912.
38 Кроме натурфилософии Шеллинга Соловьев пристально изучал его «Philosophie und Religion», «Uber das Wesen der menschlichen Freiheit» и «Philosophie der Mythologie und Offenbarung».
39 Г. Флоровский. Новые книги о Вл. Соловьеве (Известия Одесского библиографического общества. Одесса, 1913 г.).
40 Философская система Соловьева подробно изложена в двухтомном исследовании кн. Е. Н. Трубецкого «Миросозерцание Вл. С. Соловьева» (Путь, 1913) и в большом труде В. Шилкарского (W. Szylkarski. Solowjews Philosophic der All-Einheit. Kaunas, 1932). Об историософии Соловьева писал А. Кожевников (A Koschewnikoff. Die Geschichtsphilosophie Wladimir Solowjews. Bonn, 1930) и Г. Заке (G. Sacke. W. S. Soiowiews Geschichtsphilosophie. Berlin, 1929). Интересна работа Уснадзе о гносеологии и метафизике Соловьева (Usnadse. W. Solowiew, Seine Erkenntnistheorie und Metaphysik. Halle, 1909). Диссертация Ф. Степуна осталась незаконченной (Т. Steppuhn. W. Solowjew. inaugural-Dissertation. Heidelberg). Незначительна книга Э. Радлова (Э. Л. Радлов. Владимир Соловьев. Жизнь и учение. СПб., 1913). Из статей о философии Соловьева целует отметить: Л. М. Лопатин. Философское миросозерцание В. С. Соловьева («Философские характеристики и речи». Путь. М., 1911). С. Булгаков. Что дает современному сознанию философия Вл. Соловьева? «От марксизма к идеализму». Сборник статей. СПб., 1903). Он же. Природа в философии Вл. Соловьева «Сборник первый. О Владимире Соловьеве. Путь. М., 1911). Он же. Параллели. (Сборник «Литературное дело». 1902). Кн. С. Н. Трубецкой. Основное начало учения Вл. Соловьева (Вопросы философии и психологии. Книга 56. Январь — февраль, 1901). Г. Флоровский. Молодость Вл. Соловьева (Путь, № 9. Январь, 1928). Он же. Новые книги о Владимире Соловьеве (Известия Одесского библиографического общества. Одесса, 1913). Л Шестов. Умозрение и Апокалипсис (Религиозная философия Вл. Соловьева). «Современные записки». Кн. XXXIII и XXXIV, 1928.
41 Н. Никифоров. Петербургское студенчество и Влад. Серг. Соловьев. Вестник Европы. Январь, 1912
42 П. Щеголев. Событие 1 марта и Владимир Сергеевич Соловьев. Былое. № 3, 1906; № 4—5, 1918.
43 Это письмо напечатано Э. Л. Радловым в дополнительном (четвертом) томе писем Соловьева. Изд. «Время», Пб., 1923.
44 Э. Л. Радлов в своей книге «Владимир Соловьев. Жизнь и учение» (СПб., 1913) сообщает, что граф Деля–нов, отклонив предложение назначить Соловьева профессором, заявил: «Он человек с идеями».
45 Стихотворение «Пророк будущего» (1886 г.). В примечании к нему автор пишет: «Мой пророк есть пророк будущего (которое, может быть, уже становится настоящим); в нем противоречие с окружающей общественной средой доходит до полной несоизмеримости».
46 А. Ф. Кони. Вл. Серг. Соловьев (На жизненном пути. Т. IV. Ревель — Берлин).
47 Достоевский противоставляет истинную, православную теократию ложной, католической. Но в «Легенде о Великом Инквизиторе» его гениальная интуиция глубже его идеологии: обличая ложную теократию как царство Антихриста, он наносит смертельный удар самой теократической идее. Вот почему Соловьев, убедившись во лжи всякой теократии, пишет перед смертью «Повесть об Антихристе», близкую по духу к «Легенде» Достоевского. См. Н. Бердяев. Миросозерцание Достоевского. Прага, 1923.
48 Корни теократической идеи Достоевского и Соловьева — в славянофильстве. Ю. Самарин писал, что Церковь должна быть всем в человеческой жизни, ибо она есть вселенский организм Христов. И. С. Аксаков мечтал о «постепенном видоизменении самого общественного строя, согласно с требованиями христианской истины, постепенного перерождения форм и условий нашей общественной жизни под воздействием начал, данных миру Божественным откровением» (Сочинения. 7 II). Но в славянофильском учении теократический идеал никогда не стоял в центре.
49 Похороны Достоевского 1 февраля 1881 г.
50 Под этим общим названием объединено семь статей.
51 И. С. Аксаков. Полное собрание сочинений. Том IV. СПб., 1903.
52 Эти журнальные статьи (числом 15) были впоследствии изданы автором в двух выпусках под общим названием «Национальный вопрос в России» (Выпуск I, 1883—1888. Выпуск II, 1888—1891).
53 Статья Ф. Геца «Об отношении Вл. С. Соловьева к еврейскому вопросу» в «Вопросах философии и психологии». Кн. 56. 1901 г.
54 Н. Бердяев. Константин Леонтьев. YMCA-Press. Париж, 1926 г.
55 О. Иосиф Фудель. К. Леонтьев и Вл. Соловьев в их взаимных отношениях. Русская мысль. Ноябрь — декабрь, 1917.
56 Разбирая «Великий спор и христианскую политику», мы отметили внезапный переход Соловьева к католической ориентации. Он происходит в 1883 году и, несомненно, связан с этим новым мистическим опытом Церкви.
57 Сочинение «Духовные основы жизни» в первом и втором издании называлось «Религиозные основы жизни».
58 Однако я полагаю, что единство церкви должно быть восстановлено.
59 Во–первых и прежде всего, должно быть восстановлено единство церкви и возжен огонь в лоне Невесты Христовой.
60 Стихотворение Соловьева «Память».
61 См. А. Погодин. Владимир Соловьев и епископ Штросмайер. Русская мысль. Кн. IX-XII, 1923—1924.
62 Если не считать таким упоминанием или, вернее, намеком следующее место в письме Соловьева к Страхову от 30 января 1888 г.: «Я собираюсь за границу для напечатания французской книжки и 2 тома «Теократии…» Впрочем, моя заграничная поездка имееет в себе фантастический элемент, но все-таки мне кажется, что поеду».
Австрийский посланник в Петербурге гр. Волькенштейн сообщает в своем докладе (август 1888 г.): «Насколько мне известно, Соловьев в интересах своего дела (im Interesse seiner Sache) был в Риме». «Материалы по истории русской государственности и культуры», опубликованные О. О. Марковым. Русская мысль, кн. IX— XII, 1923—1924.
63 В марте 1887 года Соловьеву было разрешено прочесть две публичные лекции в пользу студентов. Он выбрал тему «Славянофильство и русская идея». «Главная моя мысль была та, что русская идея требует соединения церквей, т. е. признания нами Вселенского Первосвященника» (письмо к Мартынову). Славянофильски настроенная публика отнеслась к лекции весьма сдержанно.
64 Princesse de Sayn-Wittgenstein. Souvenirs (1825–1907). Paris, 1907.
65 L’Idee russe. Didier — Perrin. Paris, 1888. Русский перевод Рачинского 1909 года. См.: Вл. Соловьев, «Русская идея».
66 Напечатана в «L’Univers» № 4, 11, 19, 1888 г. Перевод Рачинского. Путь, 1913.
67 «Прекрасная идея! Но это вешь невозможная, если только не случится чудо».
68 «La Russie et l’Eglise universelle». Paris, Alber-Savine, 1889. См.: Вл. Соловьев, «Россия и вселенская церковь», пер. с франц. Г. А. Рачинского, М., 1911.
69 См. главу 6.
70 См. св. Г. Флоровский. Тютчев и Владимир Соловьев. «Путь», 1933, №41.
71 Кн. Е. Трубецкой. Крушение теократии в творчестве В. С. Соловьева. Русская мысль. Кн. 1, 1912.
72 Я. Колубовский. Из литературных воспоминаний. Исторический вестник. Апрель. 1914.
73 В юмористическом стихотворении «Признание» Соловьев утверждает,
Что правоверие с безверием
Вспоило то же молоко.
74 К этой полемике относятся статья: «Вопрос о самочинном умствовании» (1892), «Порфирий Головлев о свободе и вере» (1894), «Спор о справедливости» (1894), «Конец спора» (1894).
75 В. Розанов. Из старых писем. Письма Вл. С. Соловьева. Вопросы жизни. 1905, № 10—11.
76 Michel d’Herbigny. Un Newman russe: Vladimir Soloviev. Paris, 1911.
77 Л. Л о п а т и н. Памяти Вл. С. Соловьева. Вопросы философии и психологии. Кн. 195, 1910.
78 К. Ельцова. Сны нездешние (к 25–летию кончины В. С. Соловьева). Современные записки. Кн. 28, 1926.
79 Этот рассказ перепечатан из № 253 «Московских ведомостей» в 3–м томе «Писем» Соловьева, стр. 214— 217. [В публикации в 3–м т. «Писем» эта заметка подписана свящ. Н. Колосовым — см. свящ. Н. К о л о с о в, «Об исповедании В. С. Соловьева» — прим. изд.]
80 В. Кузьмин–Караваев. Из воспоминаний о Вл. С. Соловьеве. Вестник Европы. Том VI, 1900.
81 В. Розанов. Около церковных стен. СПб., 1906. — См. В. Розанов, На панихиде по Вл. С. Соловьеву.
82 М. С. Безобразова. Воспоминания о брате Владимире Соловьеве. «Минувшие годы». Май — июнь, 1908.
83 Н. Давыдов. Из воспоминаний о В. С. Соловьеве. «Голос минувшего». Декабрь, 1916 г.
84 Диссертация Л. Лопатина «Положительные задачи философии» вышла в Москве в 1886 г.
85 «Вопросы философии и психологии». Кн. 50, 1899 г.
86 См. статью Соловьева «Свобода воли и причиншость». «Мысль и слово». II ч. М., 1913—1921. Эта статья, написанная в 1893 г. по поводу второй части «Положительных задач философии» Л. Лопатина, при жизни автора не была напечатана.
87 Э. Радлов. Эстетика Вл. С. Соловьева. Вестник Европы. Январь, 1907.
88 В 1890 г.: «О лирической поэзии. По поводу последних стихотворений Фета и Полонского»; «Иллюзия поэтического творчества (О гр. А. К. Толстом)». В 1894 г.: «Первый шаг к положительной эстетике»; «Буддийское настроение в поэзии». В 1895 г.: «Поэзия Ф. И. Тютчева»; «Поэзия гр. А. К. Толстого»; «Русские символисты». В 1896 г.: «Поэзия Я. П. Полонского». В 1897 г.: «Судьба Пушкина»; «Что значит слово „живописность «?»; «Импрессионизм мысли (О К. Случевском)». В 1898 г.: «Мицкевич». В 1899 г.: «Особое чествование Пушкина»; «Против исполнительного листа»; «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина»; «Лермонтов»; «Предисловие к „Упырю «гр. А. К. Толстого».
89 О поэзии Вл. Соловьева писали: о. Сергий Булгаков. Стихотворения Владимира Соловьева (сборннж «Тихие думы». М., 1918); П. Кудрявцев. Рыцарь св. Софии. Христианское обозрение. 1914, II и Христианская мысль. Январь — март — апрель. 1917; Г. Чулков Поэзия Вл. Соловьева. Вопросы жизни. 1905, № 5. В. Брюсов. Поэзия Вл. Соловьева. «Далекие и близкие». 1912; С. М. Соловьев. Идея Церкви в поэзии Вл. Соловьева. «Богословские и критические очерки». М., 1915: А. Слонимский. Блок и Вл. Соловьев. Сборник об А Блоке, 1921; Саводник, Львов–Рогачевский, Мельшин. Протопопов и др.
90 Н. Макшеева. Воспоминания о В. С. Соловьеве, Вестник Европы. Август, 1910.
91 В. Розанов. Около церковных стен. СПб., 1906.
92 См.: Кн. Е. Н. Трубецкой. Спор Толстого и Соловьева о государстве (Сборник второй. О религии Льва Толстого. Путь. М., 1912).
93 Г. Федотов в своей статье «Об Антихристовом добре» (Путь, 1926, № 5) подчеркивает модернизм соловьевской концепции Антихриста.
Интересное толкование «Повести об Антихристе» в духе философии Льва Шестова дает Ф. Либ: Fritz Lieb. «Der Geist der Zeit als Antichrist (Spekulation und Offenbarung bei Wl. Solovjev)». Orient und Occident. 16. Heft.
94 В. Розанов. «Литературные изгнанники». Т. 1. СПб.. 1913.
95 Андрей Белый. «Арабески». М., 1911.
96 Сергей Булгаков. Владимир Соловьев и Анна Шмидт. «Тихие думы». М., 1918.
97 Андрей Белый. Начало века. 1933.
98 Судьба А. Блока таинственно связана с судьбой его учителя Соловьева. И Блоку суждено было пережить «страшные» изменения образа Прекрасной Дамы, превращения ее в «Незнакомку» и «Снежную маску».
99 Л. Слонимский. Вл. С. Соловьев. Вестник Европы. Сентябрь, 1900 г.
100 С. Н. Трубецкой. Смерть В. С. Соловьева 31 июля 1900 г. Вестник Европы. Сентябрь, 1900.
101 В. Сперанский. Четверть века назад. Памяти Вл. Соловьева. Путь, № 2. Январь, 1926.
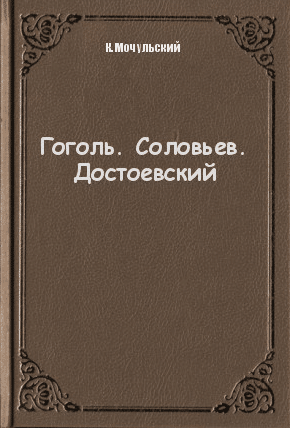
Комментировать